Книга: Рецепты сотворения мира
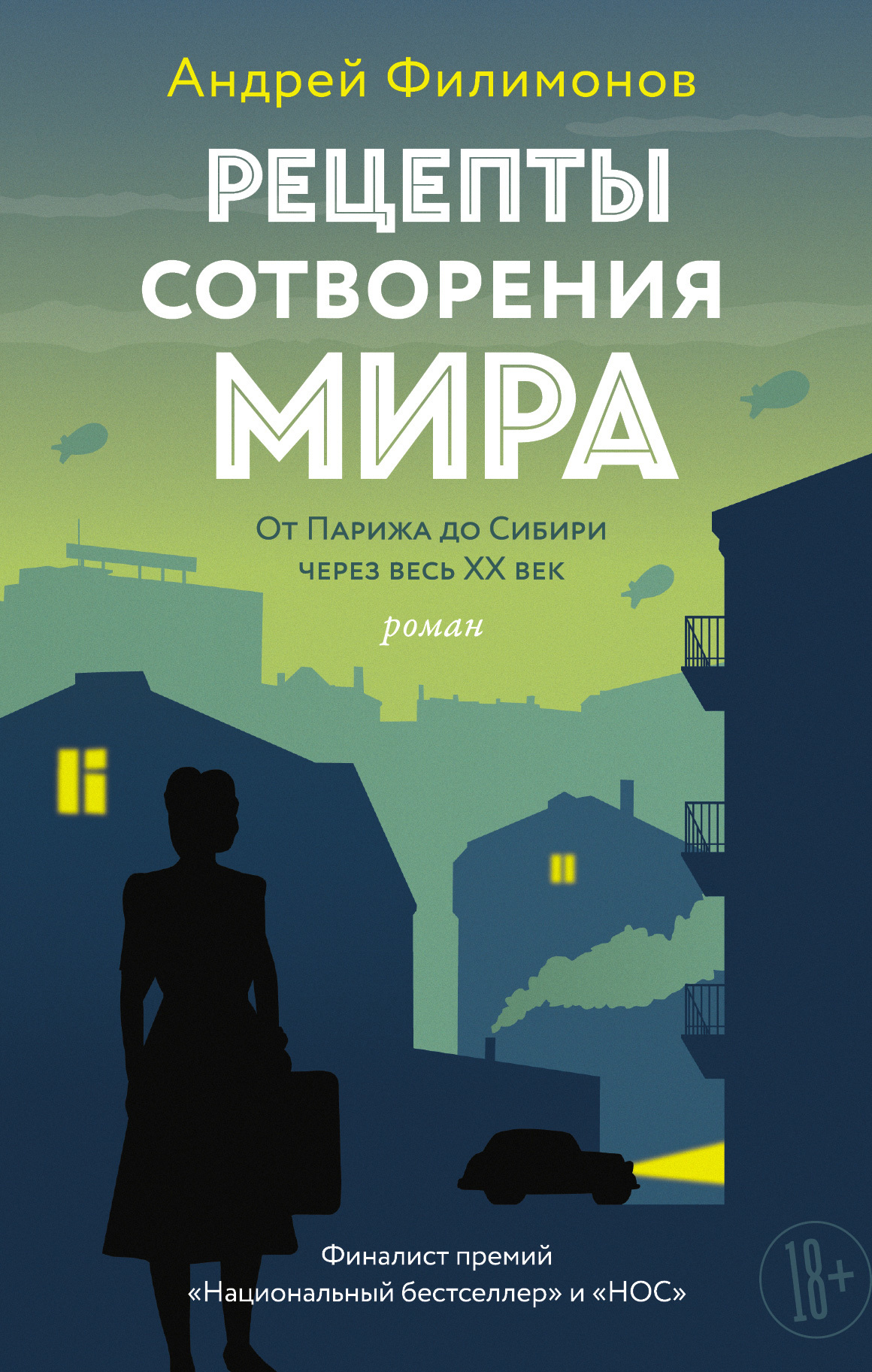
Рецепты сотворения мира
Роман
Я хочу рассказать о девушке на фотографии. Вы не против?
Первого марта 1939 года она зашла в ателье, где мирно спал мастер, пожилой армянин с острыми гурджиевскими бровями. Вежливо кашлянув у него над ухом, она спросила, может ли он сделать ее портрет. Протирая глаза, мастер ответил: обижаешь! Как я могу чего-то не мочь? Перед тобой сидит человек, который стоял у истоков кинематографа и повидал немало кинозвезд через глазок киноаппарата. Так вот, знаешь что? Они все – тьфу, – он изобразил плевок, – по сравнению с тобой. Ты уж мне поверь. Это говорит последний из могикан, который еще понимает в искусстве. Сейчас мы вместе сделаем такое, после чего и умереть не жаль. Шедевр сделаем. Лучший портрет самой красивой девушки в городе. Одна карточка стоит пять рублей – деньги пойдут на его похороны. Садись в кресло-качалку и улыбайся, чтобы старый мастер в последний раз почувствовал себя молодым орлом. Но сначала назови имя и фамилию.
– Орлова Галина.
– Очень хорошо, – кивнул армянин, выписывая квитанцию.
Фотография, если честно, получилась не шедевр. Старик халтурил, ему надоело творить задолго до рождения Гали. Он брал деньги авансом и всех клиенток снимал в одной кокетливой позе: ножки под себя, руки за голову, локти вперед.
Семнадцатилетняя Галя очень старалась выглядеть роковой и томной. Ее высветленные кудри символизировали порыв к небесному идеалу платиновой блондинки (ПБ). Потому что блондинка – венец творения. Жить с ней и умереть за нее мечтали герои Древней Греции и нашего времени. Когда изобрели кино, луч света в темном царстве, она стала царицей мира.
Ну, может быть, не сразу, но уж точно после краха Нью-йоркской биржи. В 1931 году на экраны вышел одноименный фильм. Земную ипостась ПБ звали Джин Харлоу. Она была первой секс-бомбой, взорвавшей мозг целому поколению. Подружка гангстеров и боксеров. Трагическая фигура. Звезда, сгоревшая на глазах всего мира, как тунгусский метеорит. Она ушла, не дожив до тридцати. Голливудские таблоиды обвиняли в ее смерти режиссера Говарда Хьюза, заставлявшего Джин травить волосы ядовитой краской. Довоенная химия была адски токсичной. Нежные почки актрисы не выдержали нагрузки. Образ убил носителя.
Но жизнь продолжалась. На арену выходили новые блондинки. И тоже работали над образом всерьез, до полной гибели. Гномьи бригады продюсеров тюкали волшебными молоточками по золотым головкам моделей, добиваясь совершенства убойной силы. В Лос-Анджелесе и Берлине, в кузнях UFA и Paramount, днем и ночью, чтобы зрители раскошелились на баттл «Золушка демократии vs Тоталитарная Брунгильда».
Кинопленка тогда хорошо горела, дымилась предчувствием мировой войны и вспыхивала как порох. Летучие мыши носились над летним кинотеатром в парке культуры. Двум девочкам было тесно на одном шаре.
Белокурая бестия на разогреве у вермахта заводила стадионы, возбуждая в мужчинах желание расширять жизненное пространство и орать, маршируя с факелом в высоко поднятой руке. Арийские режиссеры не заморачивались разнообразием, совершенствуя один образ: Лили Марлен под фонарем в Вальгалле.
Многоликая голливудская фея дарила аудитории иллюзию выбора. Что-то вроде зодиакального круга, где каждая смертная могла найти свой архетип. Не важно, с перекисью или в натуре.
Жадный Сталин, втихомолку наслаждаясь продукцией Голливуда на закрытых просмотрах, не разрешал своему народу делать то же самое. Но открытки с заокеанскими звездами контрабандой переходили границы. Тени теней синема. Привет Большому террору от Великой депрессии!
Медитируя над открытками, советские девушки подбирали себе личины. Кошечка в кудряшках. Распутница с мордашкой ангела. Чертенок в юбке. Роковой пупсик. И т. д. Галя была не очень похожа на Джин. Скажем так: напоминала отдаленно. Чересчур курносая по сравнению с оригиналом, она не выщипывала брови в тонкую нитку, а скулы ее выдавали затаившихся в генах татаро-монголов. Однако всё это, по большому счету, мелочи. Главное – мечта.
Снимок сделан в Иванове, городе невест, где названия улиц звучат как призывы к экстремизму. Галя выросла на улице Боевиков, в юности гуляла по Конспиративной и где-то там, в ателье болтливого армянина, потратила первую стипендию, чтобы поразить мир четырьмя копиями своей красоты. На больший тираж не хватило денег. Карточки получили только достойные, зарекомендовавшие себя настойчивостью.
В начале войны руки Галины добивались два летчика и поэт. Время было такое – летчики превосходили поэтов числом и умением.
Пятого декабря 1942 года ей исполнилось двадцать лет. В этот день на военном аэродроме Иваново приземлилась первая эскадрилья воздушной дивизии «Нормандия». Отличный подарок для студентки филфака.
Парни из «Нормандии» оказались такими нормальными и четкими, хоть влюбляйся в них с первого взгляда. Загорелые, улыбчивые, они светились на зимних улицах, как фонарики. Большое удобство в условиях противовоздушного затемнения.
Не зная ни города, ни языка, французы первым делом освоили дорогу к общежитию пединститута и с удовольствием вокруг него прогуливались. Даже на морозе они пахли одеколоном. При встрече рассыпались в бон суар и аншанте. О войне говорили насмешливо, словно фашисты – это больные зубы, а вылет на боевое задание – как сходить к доктору и залечить кариес. Не повод откладывать свидание. Не се па?
Свидания назначались. Языковой барьер преодолевали со смехом. Когда высокий летчик представился Гале – Je m’appelle César, comme Jules César, – она сначала не поняла, о чем это он, а потом до нее дошло, что у парня такой кураж, вроде мании величия. Но ей понравилось. Скромников она не сильно жаловала. Обсуждая ухажера с подругами, звала его «мой жулик Цезарь». Или просто «мой жулик».
Тридцать первого декабря второго года войны Дом культуры ткацкой фабрики совершенно офранцузился. Кавалеры сплошь шарм и шик. Барышни подпевают Эдит Пиаф. Веет ароматом парфюма, за который Коко Шанель продала душу вермахту.
Орлова танцевала с Цезарем, сладко нашептывающим, что это судьба. Ты – Галина, я – галл. Такое волшебное созвучие не может быть простым совпадением. Гитлер не навсегда. Цезари колотили германцев две тысячи лет, побьют и на этой войне. И – ах, какие у тебя глаза – серые, как небо над Ла-Маншем. Мы с тобой будем жить в свободной Франции. Апрэ победы я унаследую семейное дело – рыбную лавку в Дьеппе… Вот это он зря сказал. «Le poisson? – удивилась Галя. – Jamais!» Прямо так и ответила: рыба – никогда.
Через неделю после новогоднего бала ей принесли повестку из военкомата. Явиться с вещами. Галя положила в чемодан пудру, книжки, сухари и штуку материи. Прощальный дар советской власти. В октябре сорок первого фашисты подошли к Москве вплотную и чуть не сожгли кремлевскую хату дядюшки Джо. С перепугу он вспомнил молодость и разрешил населению грабить награбленное. Радио города Иванова, исполняя волю вождя, пригласило всех желающих на склады меланжевой фабрики – мародерствовать вволю, чтобы врагу не досталось. Той осенью сообразительные невесты обзавелась приданым. Отправляясь в дорогу, каждая брала с собой материю на обмен.
По указанному в повестке адресу багровый человек, похожий на заходящее солнце, сидел в прокуренном кабинете. Он зарычал:
– Поедешь в Ташкент. Немцы разбомбили эшелон Московского авиационного института. Нужны новые третьекурсники. Срочно!
– Товарищ военком, – возразила Галя. – Я учусь на филологическом и ничего не смыслю в авиации.
– Зачетку!
Она достала зачетную книжку, уверенная, что недоразумение сейчас разрешится. Военком, не глядя, разорвал ее и бросил в корзину.
– Паспорт!
«Порвет!» – ужаснулась Галя и опять не угадала. Красномордый запер краснокожую в стол. Выписал и прихлопнул печатью проездной документ.
– На вокзал!
Вечером она села в поезд, медленный, как китайская пытка. Неделю мучительно ползли до Урала, делая одуряюще долгие остановки. Наконец в окно вагона притащился Челябинск, после которого внезапно кончилась Россия. От предгорий Урала повернули в пустоту казахской степи, бесконечно унылой. Редкое перекати-поле докатится до середины Казахстана. Песок скрипел на зубах пассажиров. На земле желтели кости животных, Млечный путь блестел по ночам, как обглоданный позвоночник бога.
Ехали вдоль Млечного пути. Мимо кладбищ, где надгробия похожи на птичьи клетки. Сухари были сгрызены до последней крупинки. Голодающую Галю подкармливала интеллигентная ленинградская еврейская семья. Они ели странное: горох из детских погремушек. Когда вокруг Ленинграда сомкнулось кольцо блокады, эти умные люди отправились по магазинам, скупая целлулоидных попугайчиков, зайчиков и прочую дребедень, для грохота начиненную сухими горошинами. Погремушки потрошили, тем и спасались.
В Ташкенте секретарь приемной комиссии удивленно спросил:
– Какой дурак отправил к нам гуманитария?
Галя всплакнула. Сквозь слезы и пушистые ресницы она смотрела на мир беспомощным взглядом. Разумеется, секретарь ее пожалел. Выписал талончик на обед и справку о том, что она тут никому не нужна. В чреве Ташкента, на рынке, непонятном, как Вавилон в первый день столпотворения, Галя получила за свою материю мешок риса невиданной красоты. Сто тысяч полупрозрачных зерен с зеленоватым яшмовым отливом. Мешок служил утешением и постелью, когда она трое суток маялась на вокзале, выпрашивая плацкарту.
Наконец повезло. Угодила в поезд, к которому был прицеплен вагон со свирепыми выпускниками артучилища, наводящими ужас, словно печенеги. Они жрали водку и с криком, что идут на смерть, тащили в тамбур беззащитных пассажирок. Умная Галя отсыпала проводнику драгоценного риса и, при набегах половцев, пряталась в служебном купе. Через пару дней кредит иссяк, но на станции «Аральское море» Галя познакомилась с офицером из соседнего вагона. Немолодой и бескорыстный, он взял девушку под крыло до конца пути. Дорога стала приятной. Герои-насильники, проспиртованное пушечное мясо, напрасно рвались к Галиным прелестям. Офицер доставал ТТ, предупреждая:
– Стреляю на поражение.
Это действовало. Никто не хотел умирать. Галю не трогали. Трахали других, менее сообразительных.
Она вернулась домой, как будто из кругосветного плавания. Привезла сарацинское пшено и незабываемый опыт. Дома жизнь тоже не стояла на месте. С Цезарем теперь гуляла Сашка из параллельной группы. Любовники виновато улыбались при встрече. Но Галя, ко всеобщему разочарованию, не захотела устраивать драму. Зачем? Смешно ведь. После Ташкента даже двойная измена (Сашка была подругой) казалась ей мелочью жизни. Все к лучшему в лучшем из возможных миров.
И кстати, она сдержала данное Цезарю слово, не прикоснувшись к рыбе до конца своих дней. Ни разу.
Откуда это известно? Из надежных источников. Заслуживают ли они доверия? Весьма и весьма. Скажу прямо: я свидетель. Рыбой в доме всегда занимался мой бесконечно трудолюбивый дедушка. Русский, партийный, за границей не был, если не считать Аляски, но об этом потом. Сначала о рыбе. Он ее потрошил, чистил и вдохновенно готовил по книгам. Молоховец, Похлебкин, советская библия о вкусной и здоровой пище, мудрость французской кухни и неведомых народов Магриба. Повар уважал мировую культуру. Спинки минтая он жарил в муке по-крестьянски. Горбушу по-гурмански запекал в пергаменте. Судака тушил на медленном огне, посыпая венгерской паприкой. Щуку фаршировал à la juive мякишем белого хлеба. Осетрину варил с пастернаком и двенадцатью горошинами черного перца. Сельдь бальзамировал по особому кремлевскому рецепту. И так всю жизнь, на протяжении целого полувека их брака. Галина, образец вечной женственности, отвечала за десерт, по праздникам она стряпала «Наполеон» – пропитанные сгущенкой блины, посыпанные какао-порошком «Золотой ярлык». Когда-то это считалось лакомством. Дедушка не мог устоять, терял над собой контроль. У нас в семье все помнят шестьдесят восьмой год, когда он встал ночью, извлек торт из холодильника и умял втихаря, не зажигая света, накануне званого обеда, оставив гостей без сладкого.
Других слабостей за ним не водилось. Не муж, а мечта. Каждый вечер бабушка гладила его по голове в знак признательности. Хотя иногда, под настроение, иронизировала, мол, идеальные мужья не водятся в дикой природе, они результат селекции, упорного мичуринского труда.
Вспоминая подругу, соблазненную предложением руки и лавки от настырного капрала, Галина смеялась:
– Представляю, как пахнут сейчас эти руки!
Другой ухажер был поэтом. Он декламировал стихи громко и торжественно, словно репродуктор на главной улице. Его имя попало в энциклопедию: автор великого текста «Считайте меня коммунистом» и других звонкостей пропаганды, выкованных молотом его таланта. После войны взлетел в генералы литературы, пел эпоху Густых Бровей, заседал в Верховном совете, возглавлял Комитет защиты мира. Да-да, всего мира.
Но в бабушкиной памяти он остался Мишей, только начинающим свой путь в гору, на советский Парнас. Его первый лирический сборник назывался красиво – «Ливень». Чуткие провинциальные барышни трепетали при знакомстве. Поэт с настоящей книгой – это вау! Миша имел кучу поклонниц по переписке, но офлайн ухлестывал за Галей.
Весь такой военный корреспондент, он являлся в общежитие пединститута, чтобы умыкнуть ее из круга подруг. Когда поэт входил, обжигая присутствующих взглядом больших глаз из-под выпуклого лба, девушки замирали, как участники спиритического сеанса, удачно вызвавшие духа. Не снимая шинели, он садился за стол и звенящим голосом читал:
Нелепа смерть. Она глупа. Тем боле
Когда он, руки разбросав свои,
Сказал: «Ребята, напишите Поле:
У нас сегодня пели соловьи».
Слушательницы волновались, а завистливый белобилетник Максимов, единственная мужская особь на курсе, называл этот голос «перепихонской трубой».
Тайно влюбленный в Галю, он язвительно осуждал ее увлечение Мишей. Мол, погоди, еще завалит тебя мусором стихов.
Так и случилось. Много лет сочинения поэта стыдливо прятались во втором ряду шкафа бабушкиной библиотеки. Там же, от греха подальше, стоял Иван Денисович, за одним днем которого отправившись я нечаянно встретил сиреневую книжку ивановского классика с дарственной надписью «Галочке – Музе». Забыл, как назывался сборник. Помню, что ржал над ним глумливо, как гуннский конь, и спровоцировал музу на признание. История, конечно, была с купюрами. Адаптация для детей и юношества. Но суть я уловил. Романа не вышло из-за шинели.
Откровение накрыло Галину в жестком вагоне поезда Иваново – Москва.
Представим себе этот жесткий вагон: тяжелый дух табака и сала, пространство, заполненное острыми углами чемоданов, локтей, колен. Миша и Галя в обнимку примостились на боковой полке. Он едет в командировку, она к родственникам, ускользнув из-под опеки строгой матери, директора школы с наганом на поясе, как всегда носят коммунисты в тяжелое время.
Поезд движется нудно и трудно, с частыми остановками. Фронт уходит на Запад, но люфтваффе еще хулиганит, поэтому окна вагона светозамаскированы тряпками. Темнота, в которой совершается путешествие, – это фигура умолчания о том, чем заняты наши герои.
Поэт снимает шинель: ложись, ты устала. Его спутница с наслаждением вытягивается на нежной, как шелк, изнанке. Вагон качает. Очень приятно скользить вот так, на спине, в темноте, забывая о времени и о себе. Но что-то томит и смущает, почему-то кажется странной прохладная обволакивающая нежность. Думай-думай, стучат колеса, чувства – шелк, мысль – сталь. Думай-думай. Стоп! Поезд резко тормозит. Что-то случилось. На железной дороге во время войны постоянно что-то случается. Резкое торможение приводит к падению людей и вещей с первых, вторых и третьих полок.
Внезапно очутившись на полу, покрытом некультурным слоем окурков, Галя осознает причину своей тревоги. Изнанка шинели. Это же настоящий шелк! Вот что подсаживает на измену. Шинель маскирует внутренний мир хитреца, ласкающего себя под грубым ворсом. В нежных материях ивановские девушки разбираются не хуже лионских ткачей.
Затихает визг потревоженных. Руки поэта ощупью находят выпавшую из гнезда Галю и возвращают на место. Движение возобновляется. Ритмичная вагонная качка расслабляет. Девушка ловит сигналы из космоса, которые превращаются в картинки ее будущей жизни «за Мишей», позади него, в тени таланта или в ярком, но не греющем свете поэтического Я.
Перед тем как провалиться в сон, Галя принимает окончательное решение. Для сюжета не важно, что история могла происходить в другом месте, на сеновале в колхозе или за кулисами народного театра, когда разошелся драмкружок. Какая разница, где лежала шинель? Важна только эта, изнаночная деталь.
В Москве он позвонил на квартиру Галиных родственников, звал гулять по бульварам. Галя соврала, что дежурит у постели больной тети. Объяснять было нечего. Поэт все равно бы не понял.
В терминах войны отставка действующего жениха равна потере целой дивизии. Тактически это поражение. С другой стороны, избыток поклонников затрудняет девушке оборону и грозит прорывом фронта на любом участке.
Пускай стихотворец идет лесом, решила Галя, чувствуя потребность разобраться в своих чувствах.
Она сидела на подоконнике с тарелкой невкусной, неинтересной остывающей каши. За окном темнела площадь Калужской заставы, откуда было рукой подать до Нескучного сада, а там – вот сюрприз! – играет музыка. Легкомысленная мелодия летит со стороны Москвы-реки. Соблазн. Джаз.
Он зовет забыть о комендантском часе, уйти из дома, перебежать дорогу своей судьбы и увидеть небо в алмазах. На минутку Галя пожалела о том, что отшила поэта, который мог бы прикрыть ее во время прогулки своими красными военкорочками. Но сделанного не вернешь, а любопытство побеждает страх ночных патрулей и проверки документов.
Накинув на плечи кофту, с туфлями в руках, она пробирается темным коридором мимо комнаты тети, которая и вправду нездорова, но Галя чихать на это хотела. Мало ли на свете больных и скучных теток?
Бесшумно открывает дверь, выскальзывает в подъезд, как кошка. Идет вниз босиком, боясь настучать на себя каблучками бдительным соседям. И вот наконец: улица, свобода, приключение. Дура ты, шепчет она, вляпаешься. И улыбается, довольная тем, что не чувствует страха.
Ветер сдувает облако над крышей. А там розовая луна, как воспаленный глаз. В весеннюю сессию Галя заимела себе такой же, когда до утра читала Герберта Уэллса, чтобы отдохнуть от Максима Горького. И вот сама попала в «Войну миров». Крестами заклеенные темные окна зданий. Мертвые тушки аэростатов в небе. Страшный свет фары трехногой машины, притаившейся позади дома. В кабине копошится марсианин, ловец человеков, осьминог с огромным лбом и большими глазами, поджидающий жертву.
Пугая себя, Галя бежит в сторону Нескучного сада. Там, под деревьями, можно стать незаметной для треножника.
Но чем дальше от дома, тем тяжелее детская мысль: вляпалась. Тягучее пространство, как горячий асфальт, затрудняет движение. По спине ползет противный муравей тревоги. Из-за спины доносится звук мотора. Боковым зрением Галя видит черный блеск автомобильного крыла и переходит с бега на шаг, чтобы отдышаться и не выглядеть запыхавшейся уродкой. Машина тоже замедляет ход и, мурлыкая двигателем, плетется за девушкой вдоль обочины.
Она делает вид, что ничего не замечает. Идет равнодушной походкой. Лишь бы достичь калитки и нырнуть во тьму сада. Если там заперто, остановиться и заговорить первой. Четкий план в голове успокаивает нервы, помогает держать дистанцию с миром. Но тут опускается стекло в задней двери машины и раздается негромкий мужской голос:
– Quo vadis?
– Ого! Латынь во время войны. Что бы это могло значить? Шпионаж или проверка на вшивость?
Не поворачивая головы, она отвечает:
– Просто гуляю.
Голос удовлетворенно произносит:
– Так я и думал. Студентка.
Галя продолжает идти, считая метры, оставшиеся до калитки.
– Да не спеши! Там закрыто, – предупреждает голос.
План побега, который известен противнику, не годится к исполнению. Опять же, смерть как хочется узнать, что за древний римлянин катается тут по ночам. Галя обернулась, прищуром наводя на резкость близорукие глаза. Автомобиль встал как вкопанный. Дисциплинированный профиль шофера не шелохнулся в сторону девушки. Зато чей-то силуэт на заднем сиденье внимательно поблескивал стеклышками в очках, а может, пенсне. На плечах погоны, офицерская новинка этой весны. В сорок третьем командный состав Красной армии соскочил с ромбиков на звездочки. Преследователь Гали носил звезды немаленькие. Возможно, даже первой величины.
– Вы генерал? – спросила Галя у силуэта.
– Генерал, – ответил силуэт.
– Каких войск?
– Самых важных.
– Я не знаю, какие у нас самые важные.
– Главное, что я знаю. Ты не местная. – Она кивнула, хотя это был не вопрос, а утверждение. – Владимирская?
– Ивановская.
– Не может быть.
– Почему?
– По говору слышу. Где родилась?
– В Юрьеве-Польском.
– А говоришь, не владимирская. Географии не знаешь. Хотя зачем тебе. Ты гуманитарий.
– Как вы догадались?
В ответ ее собеседник зевнул. Как будто видел людей насквозь и не находил у них внутри ничего интересного. От него веяло древней скукой, словно от мумии в Эрмитаже. Страх улетучился из головы Гали. Любопытно стало узнать, хотят ли чего-нибудь старые мужчины с золотыми звездами на плечах. Чуждо им человеческое или не совсем чуждо? Момент, чтобы спросить, был самый подходящий. Набравшись духу, она задала вопрос.
– Лично я, – признался генерал, – хочу шоколада.
– Я тоже. Но где его взять?
– У меня есть. Садись, погрызем.
Галя подумала: а) никак нельзя отклонить такое приглашение; б) очень умно хотеть то, что имеешь. И забралась в машину, где пахло кожей и табаком. Сидящий посредине автомобильного диванчика человек ни на йоту не подвинулся при ее появлении. Ни туда, ни сюда. У него было маленькое гладкобритое лицо, тонкие губы, круглые золотые очки на остром носу. Если честно, при ближайшем рассмотрении внешность пассажира показалась Гале куда менее интересной, чем внутренность машины. Шикарная лакированная панель с дверцами и квадратным окном отделяла генеральскую часть салона от водительского места. Однако долго вертеть головой было неприлично. Девушка представилась:
– Я Галина.
– Молодец. Открой ящик.
На панели их было несколько. Галя наугад потянула деревянную ручку – прямо на нее выехал черный телефон без диска.
– Не эта. Рядом.
В соседнем отделении лежала коробка сигар и несколько толстых плиток в красной бумаге с колючими готическими буквами.
– Немецкий?
– Открывай, не бойся.
Она развернула обертку шоколадки и вежливо предложила хозяину угощаться первым. Наконец-то он шевельнулся. Маленькая белая рука поднялась с колена, как ночная бабочка, живущая сама по себе, отщипнула кусочек фашистского лакомства, поднесла ко рту, вернулась на место. Генерал сосал шоколад с каменным лицом, не дрогнув ни одним мускулом. Галя подумала: а что, если он и вправду мумия, просто в форме и с личным шофером? Говорят ведь, что фараоны иногда оживают в музеях. Ходят же слухи, что Сталин по ночам ходит в Мавзолей и советуется с Лениным, как побороть Гитлера.
Странное лезет на ум в генеральском авто. Увлеченная странным, девушка забыла о приличиях и незаметно для себя откусила прямо от плитки. Удивительный двойственный вкус! Горечь ударяет в нёбо, сладость ласкает язык. Видимо, из-за того, что она давно не ела таких замечательных вещей, все тело, как электрический разряд, пронзила нечаянная радость. Галя облизнула губы. Еще раз, еще – и не могла остановиться. Это было чувствительно, как в первый раз целоваться с усатым или пить газировку на жаре. Что-то непонятное приятно щекотало верхнюю губу. Она сидела и облизывалась. Генерал смотрел на нее, углы его рта приподнялись, чуть-чуть, самую малость.
– М-м, – сказала Галя. – Как вкусно. Давайте поедем к реке. Я слышала там музыку. Вы представляете? Наверное, с корабля. В Иванове нет ничего подобного. Ни музыки, ни кораблей, только бандиты. Они изнасиловали Егоренкову, мою подругу. Прямо на улице. Теперь она плачет и хочет умереть, а я ей говорю: Вера, в Иванове нет ни музыки, ни кораблей, ни красивых гробов. Вообще никаких гробов. Придется хоронить тебя в цветочном горшке.
– Это смешно. Продолжай.
– Товарищ генерал, я не могу об этом думать. Мысли сводят с ума. Я боюсь одиночества.
– Одиночество – плохая компания.
– Да. Проведешь в ней вечер – и жить не хочется. Особенно в темноте, когда свет отключат за перерасход счетчика. Вы генерал, вам не бывает одиноко.
– Бывает.
– Не может быть! У вас под командованием армия людей. Молодые бойцы. Вы прикажете им атаковать противника – и они как побегут – за Родину! – вперед.
– Мои бойцы не бегают за Родину.
– А что они делают? Летают, плавают?
– Они читают, сидя за столами.
– Ух ты! Надо же! Армия читателей. – Галя живо представила шеренги солдат с книжками под мышками. – Вы не поверите, но я догадалась. Вы – военный цензор.
– Военная сейчас обстановка. А я просто цензор, – ответил генерал. – Как Никитенко, Тютчев и Кукольник.
– Я знаю, знаю. Мы их проходили на третьем курсе. Вы тоже пишете красивые стихи?
– Терпеть не могу. Ешь шоколад.
– А вы?
– Мне хватит.
Осмелев, Галя отломила изрядный кусок и с наслаждением обсасывала, пока он не превратился в маленькую коричневую каплю на подушечке большого пальца.
– Ах, как было бы хорошо, если бы родинки делали из шоколада. – пошутила она и улыбнулась широко-широко, стараясь заполнить улыбкой автомобиль, чтобы внутри не осталось места для грусти. – А я знаете, что думаю? Я бы сейчас совершила какой-нибудь подвиг. Выиграла бы войну или сделала вас счастливым. Это можно?
– Можно, – ответил генерал, показывая маленькие зубы.
– Как?
– Очень просто. Ты понесешь меня на руках.
Галя чуть не задохнулась, едва веря своему счастью. Понести генерала – какой восторг! Да ведь это самое лучшее дело, которое можно придумать военной московской ночью.
– Вы не шутите?! – она прижала руки к горлу, чтобы не выскочило сердце. – Вы правда разрешите мне? Я смогу! Вы не смотрите, что я бледная. На самом деле я сильная как танк. Бууу-бууу, – загудела она, изображая мотор.
Генерал молчал, и это было золото, доставшееся бедной девушке в награду за смелость. Галя, наверное, смогла бы, не кривя душой, полюбить это молчание. Слушать его, раздувая ноздри, чтобы не выпустить из горла зреющий стон.
Но генерал, хоть и седой, оказался нетерпелив как мальчик. Рукой-мотыльком он указал на телефон. Расторопная Галя подала ему трубку, в которую важный пассажир уронил одно-единственное, но прекрасное слово: Иван. Сейчас же водитель выскочил со своего места, распахнул заднюю дверь и, наклонившись внутрь, словно экскаватор, обеими руками зачерпнул генерала.
– Понимаешь, что делать? – спросил Галю генерал.
Она поняла. Взволнованная, вышла из машины, встала перед Иваном и вытянула вперед руки. Водитель молча передал ей тело, оказавшееся таким легким, словно никого и не было внутри шинели.
– Вам удобно? – спросила Галя.
– Вполне, – кивнул генерал. – А теперь иди вперед и постарайся усыпить мою бдительность.
Они гуляли до рассвета. По Нескучному саду, который для них открыл невеселый сторож. По набережной – до Воробьевых гор и обратно. Воробьи чирикали патриотично. Иван с руки кормил Галю шоколадом. Чистая радость переполняла девушку, заставляя чеканить шаг, как на параде. Это было прекрасно. Москва-река, леденцовые звезды Кремля, нежное личико маленького генерала, который все на свете знает, прочитав письма советских людей, воюющих за счастье народа, за Сталина и легкое платье Гали.
Теперь она знала, как писать курсовую по роману «Мать». Ниловна – завод материнского счастья. Павел оплодотворяет ее революционными лозунгами. Забастовка – сперматозоид коммунизма в капиталистической матке. Любовь матери и сына – это гармония темного прошлого и светлого будущего.
Галя озвучила свои мысли, и генерал у нее на ручках согласился, что именно так будет правильно. Обещал, убаюканный, что цензура пропустит ее работу слово в слово.
Взволнованная девушка чувствовала, как это здорово – пропускать через себя все хорошее, что есть в языке. Великий, могучий, потный от напряжения пишущих людей, он входит в цензуру немытым и грязным. Приходится его скоблить, уделяя внимание каждой мелочи вроде холерных бацилл, которые прикидываются пустяком в микроскопе, но становятся эпидемией, когда попадают в открытый водоем.
На такой работе ошибка хуже предательства. Нельзя ее допустить. Лучше перестраховаться, пройтись инструментом по странным местам, чтобы язык вышел на свет чистым и поучительным, как заспиртованный эмбрион…
– Это мухоморы, – сказала тетя.
– Что? – прошептала Галя.
Минувшая ночь осталась в памяти как провал. Сердце-пулемет расстреливало голову рваными очередями. Тошнота поднималась из нехорошей глубины, словно из канализации.
Тетя Поля принесла тазик для рвоты, воду в банке, тряпку на лоб. Суетилась и объясняла, что это не ее вина:
– Свояченица с Вологодчины присылает. Северные мухоморы – злые.
– Ты о чем, тетушка?
– Я их переложила из банки на тарелку. Они целый день были на тарелке, а ты, видно, плохо помыла, вот и пожалуйста.
– Ой, пожалуйста, уйди.
– Уйду скоро. Дождетесь.
Обидчивая, как все виноватые люди. Или виноватая, как все обидчивые. С укоризной закрыла дверь. Уныло зашаркала тапками. Раньше она не была такой кислой. В детстве Галя помнила тетю хорошенькой и веселой, но это прошло, когда дядю Васю убили в Большом театре те трое. Точнее, начали в Большом, а закончили известно где.
Красавец-мужчина, франт и скандалист, дядя Вася много о себе думал и сразу начинал выступать, чуть что было не по нему. Выступление у театральной вешалки после «Лебединого озера» в тридцать девятом году закончилось для него очень печально.
Закончился балет, опустили занавес, народ поспешил в гардероб. Русская народная традиция требует убегать отовсюду как можно скорее, максимально суетясь, панически создавая ходынку на ровном месте.
Те трое хотели взять шинели без очереди. Всякий бы согласился, что они право имеют. Но только не дядя Вася, который стоял первым и уже протягивал номерки через бархатный барьер. Как после этого не верить в приметы? Номерок-то у него был тринадцатый! Холуй-гардеробщик, понятно, кинулся обслуживать тех троих, однако дядя поймал его за рукав куртки:
– Моя очередь, любезный!
Те трое переглянулись. Любезный тихо сомлел под вешалкой. Тетя Поля двумя пальцами робко потянула мужа прочь от опасности, но он уперся как бык, и даже стукнул кулаком по барьеру:
– Моя очередь!
Они велели ему заткнуться. С тем же успехом можно было плеснуть керосину в вечный огонь. Красная шторка гнева в мозгу дяди Васи заслонила от него объективную реальность. Он выставил грудь вперед и обозвал тех троих нехорошими словами. Представляю, как безмолвствовал во время этой сцены народ. Люди забыли дышать. А тем троим пришлось реагировать. Они были вынуждены. А как же? Офицерская честь! Дяде дали под дых, заломили руки. Потащили наружу, мимо оцепеневшего капельдинера, у которого с груди, в последнем припадке сопротивления, дядя сорвал золоченую пуговицу с изображением лиры Аполлона.
Перед тем как запихнуть Василия в багажник, его ударили дверцей машины по лицу. Выбили из головы дурь вместе с зубами. Раздраженные перспективой сверхурочной работы, те трое не заметили, что с ноги клиента свалился хороший крокодиловый ботинок. Тетя его потом подобрала, когда воронок, разогнав пешеходов клаксоном, выскочил на проспект Маркса и умчался к Лубянке. Полина думала, что ботинок еще может пригодиться Василию. Но на другой день ей позвонили оттуда, чтобы забрала тело.
История несчастного В.В.Ражева (1905–1939), услышанная от бабушки в нежном возрасте, надолго отбила у меня желание бывать в театре. Как мог, я уклонялся от школьных культпоходов. Только достигнув зрелости, осознал, что театральный невроз сродни аэрофобии и лечится теми же средствами. С тех пор не посещаю храм Мельпомены трезвым. Пафосный бархат театральных лож и портьер источает опасность.
Кстати, в тот вечер Полина и Василий смотрели не простое «Лебединое озеро», а улучшенное. В новом прочтении, четвертый акт балета (Зигфрид кидает в озеро корону Одетты) символизирует революцию. Поэтому либретто переписали, заменив трагическую развязку оптимистическим финалом. Любовники остаются в живых. Озеро становится колхозным прудом. Лебеди танцуют по его берегам с намеком на грядущую коллективизацию.
«Я здорово была больна. Дело вот в чем. Тете понадобилась банка, в которой у меня было масло. Она взяла тарелку, на которой у нее лежали мухоморы, сполоснула ее в холодной воде и положила на нее масло. Я помазала кашу, поела и через час меня стало рвать и рвало два дня, страшно болит голова, отчаянная слабость. Эта негодяйка меня просто отравила».
Так она жаловалась хорошему парню, летчику Диме, на пути из Москвы в город Энгельс.
Поехала с поэтом, одновременно писала летчику – это нормально. Девушке нужен запасной аэродром. Молодой человек всегда может оказаться не тем, за кого себя выдает. Грибная версия бэд-трипа звучит убедительнее, чем наркотический дойче шоколад. Конечно, арийские химики чего только не подмешивали в сладкую плитку героя-танкиста. Героин, амфетамины, кокс. Сказки все до одной навеяны наркотиками: мескалин, опиум, пирожки Красной Шапочки. Но в нашей истории тетя вероятнее генерала. Больные женщины действительно сушат мухоморы. Народная медицина уважает яды земли. Все это очень похоже на правду.
Вопрос в другом: какова была истинная цель поездки в столицу. За какими песнями? Предыдущее письмо хорошему парню Диме, отправленное из Иванова месяцем раньше, содержит некоторые намеки:
«Я устала от этой жизни, которой живу. Она очень сурова. Не знаю, сколько времени я смогу ее выносить, особенно когда рядом соблазн совсем другой жизни. Окончание института мне ничего не принесет, кроме отправки в медвежий угол, на холод и голод».
В молодости остро чувствуешь, что для выживания на этом свете нужна большая любовь или хорошая работа. Кажется, хитрый Миша-поэт соблазнял девушку перспективой протекции. Он был ценным кадром Информбюро. На страницах армейских многотиражек выступал как ефрейтор Минометов, с боевыми виршами:
Вася наш работал четко,
Очередь по финнам дал,
мылом давится капрал,
а ефрейтор – щеткой.
В басне «Как Вася Теркин „умыл“ белофиннов» описан подвиг снайпера, из засады расстрелявшего врагов, которые беспечно умывались в лесу. За эти стихи автора приняли в Союз писателей как родного. Так что «Ефрейтор Минометов» к середине войны уже имел знакомства в нужных кругах.
Галя училась на последнем курсе своего провинциального педа, с ужасом и тоской представляя распределение в деревню, где едят траву и гнилую картошку. А тут такая замануха – в Москву, в Главлит. Любая выпускница продаст за это душу. Что, собственно, и было условием трудоустройства.
Туда берут не каждого, рассказывал поэт, гуляя с Галей вокруг Чистых прудов; сама понимаешь, время такое, все хотят отличиться.
Он таки добился своего, настойчивый, вытащил девушку из дома, как только ей полегчало.
Покажи себя на собеседовании, поучал поэт, неважно, что ты будешь говорить, главное – как. Словам никто не верит, но все ценят уверенность в словах. Ты меня запутываешь, смеялась Галя. Я голову сломаю. Голову с собой не бери, шутил Миша, только лицо. Им нужны плоские девушки? Сама увидишь, кто им нужен.
Они остановились у трехэтажного здания Наркомпроса.
Это здесь, объяснил поэт. Рассказываю: тебя приведут в комнату с плотными коричневыми шторами. Что в ней такого? Ничего, только стул и стол. Пока сидишь и ждешь, открывается первая тайна ремесла: за шторами удобно душить. Ой, кажется, мне уже страшно! Так и должно быть. Через какое-то время войдет человек без руки, пустой рукав френча заправлен за ремень. На груди орден «Красного знамени». Он – легенда. Как его зовут? Не знаю, захочет ли он представляться, поэт усмехнулся, руки точно не подаст. Руку он потерял на Гражданской войне, читая письма Чапаева в штабе 25-й стрелковой дивизии, в особом отделе,
когда
Василий Иванович,
внезапно появившись на пороге,
разгневался, увидев свои письма
у нашего товарища в руках,
и шашкою своею легендарной
его укоротил.
Миша, что-то мне совсем жутко! Да, это опасная работа, но сразу тебя не отправят на передовую информвойны. На первых порах ты будешь ловить смысловых блох в газетной шерсти. Ну, знаешь, типа «Докладчик привел слона Гавнокомандующего». Блохи раскрывают контрреволюционную суть опечаток. Контрреволюция – это бессмыслица, и мы с ней боремся. Ты всё поняла? Ага, наверное, не знаю. Ты молодец! Не подведи меня. Вперед!
Обменявшись с девушкой дружеским рукопожатием, поэт направился в сторону Покровских ворот. Он уходил, не оглядываясь, широким шагом, как вестник прогресса.
Галя размышляет над его словами. До чего здорово придумано: невеста в Главлите! Спать с цензором – мечта поэта. Умом она, конечно, за. Но есть ли в ней готовность стать плотью Мишиной мечты? Частью этого замечательного плана?
Она поставила ногу на нижнюю ступень наркомпросовского крыльца. Еще один шаг – и дороги назад не будет, комиссариат просвещения притянет ее, как магнит железную стружку. Ох уж этот мучительный нравственный выбор! Туда или сюда? Вверх или вниз? Выбирать тяжело, но еще тяжелее топтаться на месте, когда мимо тебя с серьезными лицами пробегают целеустремленные граждане, живущие внутри раз и навсегда принятого решения. Молодая сотрудница выходит из дверей учреждения с товарищем ответственного вида, говорит на ходу, что необходимо давать оценку каждому выявленному факту. Высокая прическа делает ее старше на десять лет. Она вся в будущем. Ясность, уверенность, правильная речь, словно текст, отпечатанный профессиональной машинисткой, без единой ошибки, с ровными интервалами. Сотрудница и товарищ садятся в блестящую черную машину. Быстро, умело, не пачкая пальцев, не оставляя следов, машинистка заправляет в каретку новую ленту. До таких высот тебе далеко. Ты ученица, тук-тук одним пальцем кривоватые строчки. А сколько в каждой помарок! Надо учиться, учиться и еще раз учиться. Забыть о своем эгоизме, влиться в коллектив, следовать инструкциям, проявлять инициативу, но в то же время не превышать должностных полномочий.
Неделей раньше Галя с легкостью взошла бы по этой лестнице, с радостью запрыгнула бы в социальный лифт и вознеслась. Но вмешались мухоморы, мудрые внеклассовые грибы, в легкой, доступной форме показавшие девушке, почему маленькому человеку лучше держаться подальше от больших людей. Слава мухоморам!
К тому же она его все-таки не очень любила, этого Мишу. Да и он ее, кажется, тоже, если честно.
Отличная новость для хорошего парня, летчика Димы, занимающего в сердце Гали все больше места. Летчик, наверное, был на седьмом небе, когда получил это письмо:
«Вчера я рассталась со своим другом. Рассталась потому, что он понял наконец, что он мне не нужен. Он просто развел руками. Нет, мало в мужчинах силы или любви. Ты ведь не такой, мой милый? Конечно, нет. Если бы я была мужчиной и любила, то, черт возьми, девушка была бы моей. Хочу, чтобы этим сильным был ты. Не отдавай меня никому. Ведь я девушка и пассивна поэтому».
Последняя фраза – чистое кокетство. Пассивности в ней было примерно как в дюжине игристого. Когда она злилась, на электрощитке вышибало пробки. И это не метафора, а бытовая проблема. Мария Васильевна постоянно ругала дочь за домашние блэкауты.
Галя терпеть не могла повышения тона. От критики у нее болела голова. Вряд ли прощание с поэтом было сценой у фонтана. Скорее всего, Галя просто дождалась, когда Миша станет точкой в перспективе бульвара, и шустро дунула на угол Чистых прудов и улицы Кирова, к телеграфу. Взяла бланк, обмакнула железное перо в бакелитовую чернильницу и, выдохнув сомнения, написала в адресной строке «Энгельс 1 ШМА 33», а в поле текста «ЕДУ ТЕБЕ ТЧК ЖДИ ВСКЛ ГАЛЯ». Выстояла очередь, оплатила слова, выбежала на улицу, нырнула в метро.
– Тетя Поля! Я уезжаю в Энгельс. Одолжи, пожалуйста, денег! – закричала она, как только тетя открыла дверь.
– Денег?
Лицо родственницы было сонным, как пыльное зеркало. Полина собиралась долго думать и задавать медленные вопросы. Галя сграбастала тетю в охапку и, покрывая поцелуями ее вялые щеки, со смехом повторяла: уезжаю! уезжаю!
Через полчаса она вышла из подъезда с чемоданом. Улыбнулась солнцу и аэростатам ПВО в голубом небе. Подумала: до чего хорошо, когда есть деньги и нет сомнений, и насколько хуже, когда наоборот.
В трамвае, по дороге на Павелецкий вокзал, повторяла про себя любимое, еще довоенное, сорокового года, письмо от Димы:
«После хорошо проведенного с тобой дня мне море по колено – хорошо и светло. А когда ты мной недовольна – плохо. Повторяю, что всё будет зависеть только от тебя.
Я люблю больше всего свободу! Поэтому буду учиться, буду творить. Тебе еще придется писать в газету об архитекторе. Заранее обещаю тебе первое интервью. Согласна? Миленькая! Маленькая! За меня не беспокойся, я попал в обеденный перерыв у бога: до того, как я вышел от тебя, шел дождь, и только я вошел в казарму – пошел дождь. Это ты меня заколдовала».
Немного обидно, что забылись подробности этого хорошего дня. А ведь прошло всего три года. Что же дальше будет? Через тридцать лет? Страшно представить. Неужели останутся только слова на бумаге? Как это было? Лето, дождь, целовались, жадно пили быстрое время, пузырьки лопались на поверхности лужи, громко тикал будильник. Время кончилось, как всегда, не вовремя, стрелки показывали без десяти, он убежал за десять минут до конца увольнительной, она колдовала, чтобы он не опоздал, удаляясь, цокали его сапоги-скороходы. На бегу он искал слова, которые записал, вернувшись в казарму, и навсегда сохранил этот дождливый день во вселенной письма. Бог, явившись с обеденного перерыва, обнаружил во вселенной новый объект и покачал головой. Люди, люди, зачем вам бессмертие? Знали бы вы… эх! Зевнул и прилег отдохнуть. Над головой нависла тусклая бляха контролер. Галя предъявила студенческий. Чего такая довольная? Хочу родить ребенка хорошему парню. Нашла время! Точно, тетенька, вы правы – нашла. Это будущее время. Его много. Нам хватит до конца жизни, до скончания века. Остановку не проедь, дурочка. Ну да, глупая, ну и что? Вот Миша – умный. У него книги, стихи, заседания поэтической секции, советское информбюро. Он живет на Марсе, это красная планета, очень далеко от людей, около абсолютного нуля. Другое дело – Дима, который пишет теплые письма и строит воздушные замки. Но когда будет надо, он встанет на ноги. У них будет двое детей, мальчик и девочка. А жить они будут где угодно, кроме Иванова. Она еще не представляет, где они будут жить. «В Сибири», – подсказали изнутри мухоморы. «Почему в Сибири?» – удивилась Галя. Так надо, ответили мудрые внеклассовые грибы. Да? Ну и ладно! Это звучит романтично. На севере диком, в стране мехов, можно круглый год носить шкурки животных. У нее будет три шубки. Обезьянья белая, вроде той, что дедушка подарил на двенадцатилетие, продав корову, которую хотели забрать в колхоз, еще – голубая шубка из песца, а третья будет – горностай. Она их никогда не видела, но какое чудесное слово! Так приятно перебирать воображаемый гардероб, что даже неловко за себя перед своими паспортными данными. Через три месяца и три недели ей стукнет двадцать один год. Пора быть серьезной. Не выскакивать из метро вприпрыжку, размахивая чемоданом, вспоминая, как били фонтаны на площади, как было весело, идя на поезд или встречая кого-нибудь, на бегу зачерпнуть с поверхности воды пену и подбросить в воздух, чтобы радужные пузырьки разлетелись брызгами. Взрослые ругались и требовали вести себя прилично. Они никогда не говорили ничего другого. Приходилось вести себя прилично, вести себя за руку, с ненавистью к этой хорошей девочке, думая: вырасту и убью ее! И взрослых тоже, и тогда буду делать, что захочу! Ну вот, пожалуйста, выросла, но момент упущен, в небе невесело, фонтаны на военном положении, обезвожены, заплеваны прохожими, серые одинаковые лица, головы в кепках втянуты в плечи, молчаливая толпа, улица безъязыкая, словно марсиане нарядились людьми, а человеческий язык не выучили. Поэтому бегут молча. Куда они в такой спешке несут эти лица? Наверное, в утильсырье, сдавать на вес, по три копейки за килограмм.
Возле кассы она подстрелила глазками офицера и раздобыла билет. Но не пожелала тратить время на болтовню с благодетелем и отправила его в Тамбов на отходящем через пять минут поезде. Удивительно, как все меняется от одного усилия воли. Только что была покорная, готовая залезть в гадюшник и пресмыкаться, боясь, как бы не выгнали. Бр-р! А потом вдруг щелк – и делаешь что хочешь, и все у тебя получается.
Галя сидела на дубовой скамье в зале ожидания, улыбаясь, как кинозвезда, и чем дальше, тем глупее становились ее приятные мысли.
В этот сладкий момент на нее спикировала бледная женщина-моль из ближнего Подмосковья, одетая в синий восточный халат на вате и серую шаль в дырках, которые сама, наверное, и прогрызла. Моль промышляла на вокзале разводкой дурочек, разлученных с бой-френдами войной, витающих в облаках, как легкая добыча. Она садилась рядом, причитая:
– Устала я, доченька, намоталась по военкоматам, сыночка-то у меня убили, а справку не дают. Горько мне, отдохну с тобой рядышком, красавица, солнышко.
Изображала расстройство чувств, сморкалась в шаль, утирала слезы. Девицы хорошо клевали – делились собственным горем. У кого тогда не было потерь? Моль выслушивала их истории и переключалась в режим гадалки-ведуньи, предсказывая возвращение любимых из страны мертвых. За такое редкая сволочь не даст денег.
Тем, кто еще никого из близких не потерял на фронте, Моль рекомендовала сильнодействующую икону в отдаленной церкви. «Сама больная тогда была ногами и туда не смогла поехать да помолиться, а теперь волосья рву, да что толку, поздно – сыночка-то не вернешь!» Под этот жалостный рэп отлично шел сбор на свечки для «матушки-заступницы».
Моль была довольна собой и тем, как хорошо она устроилась. Только по ночам ей не давали мирно спать убитые солдаты. Являлись и мучили страшным видом. Приходилось, с утра проснувшись, брать из колодца воду и нырять лицом в ведро, чтобы застудить покойников. Но они все равно чувствовали себя как дома у нее в голове. Некоторые даже пытались командовать, кто постарше годами и званием. Говорили: иди, женщина, по такому-то адресу и скажи, что я всем кланяюсь, хотя не могу писать по причине временной бестелесности, но пусть они там не отчаиваются и ждут воскресения, о котором здесь имеются точные данные. Ага, отвечала Моль, разбежалась бесплатно изнашивать обувь. А что, если по вашему адресу никого нет? Или там проживают другие, которые дадут шиш вместо денег? Да ладно, женщина, не жмись, уговаривали ее потусторонние мужчины, тебе самой недолго осталось скакать на поверхности. Сделай под конец доброе! Нет и еще раз нет, кукиш вам с маслом, увольте, такие заказы она не брала. Сидела на привычном месте в зале ожидания и проливала крокодиловы слезы. А могла стать народным телепатом, связующим тыл с фронтом, как Ефим Честняков из Кологрива и другие известные мистики-бессребреники. Но жадность сгубила талант. Моль не верила в свои способности, думая, что просто дурачит людей. Они ведь все одинаковые, у всех душа болит.
Галя была ранена с позапрошлого года, с тех пор, как пропал без вести в воздушном бою над Смоленском ее старший брат. Моль раскорябала эту болячку буквально за пару минут. И увидела свет. Как будто прожектор хлестнул по ночному полю на краю леса. В круге света чернявый кудрявый парень дергался, как кукла на ниточках. Галя быстро догадалась, что имеются в виду стропы парашюта, на котором брат спустился с опасного неба.
– Крепкие у него слова, – морщилась Моль, втягивая голову в плечи. – Уши закладывает.
– Что он говорит?
– А ничего не говорит. Матерится… Хотя погоди, погоди, кажется, слышу…
– Что? Ну!..
– Моль выдержала паузу и развела руками:
– Трудно понять, доченька. Болезнь у меня – воспаление среднего уха. Не имею возможности отоварить предписанную фельдшером мазь, потому как живу без пенсии.
Она работала на результат, грубо, как настоящий профи, с неслыханной простотой вытряхивая из людей последнее. Кошельки глупых девочек раскрывали рты, как волшебные китайские жабы. Щелк-щелк. Когда Галя дала ей на мазь, Моль навострила среднее ухо, прислушалась и доложила:
– Кричит он странное, будто воет песню. Повторяет одно и то же: ветер голого принес.
Эффект от фонаря придуманных слов оказался неожиданно сильным. Галя заревела в три ручья:
– Витя, прости меня! Какая же я плохая! Совсем про тебя забыла. Ты не сердись, пожалуйста! Когда немцев прогонят, я поеду в Смоленск, буду тебя искать. Все перекопаю, честное слово! Вы мне только скажите, – попросила она, – где он лежит? У меня еще есть деньги. Вот.
Деньги – это само собой. Моль взяла. Приложила бумажки к сердцу и почувствовала вдохновение. Заглянув в доверчивые серые глаза девушки, прошептала:
– Нету его в земле. – Подумала, что бы еще добавить для удовольствия клиента, ткнула пальцем Гале в живот: – Здесь найдешь.
Уфф! Обмякла мешком, тяжело дыша, обмахиваясь шалью. Сеанс закончен. Нехорошо внутри. Как будто холодный камень на сердце.
Тут носильщики прокричали отправление саратовского поезда. Засуетился народ. Галя, вся в слезах, поднялась со скамьи и пошла к выходу на перрон, забыв попрощаться.
И слава богу! Гадалке уже не до разговоров, язык на плече. Она думает: завтра никакой работы! Не могу каждый день мурыжиться с мертвецами! У самой ноги дрожат, чашки коленные дребезжат. Пора домой, напиться чайку – и в койку. А то совсем замоталась. Их много – она одна, никакого продыху. Мерещится вон черт-те что. Воронкой закрутилась прорезанная солнечным лучом пыль, словно в воздух бросили пригоршню муки и взбивают живое тесто цвета хаки, которое прет наружу в форме человеческого тела.
Прямо из ничего перед ней возник солдат в драной окровавленной гимнастерке, с расколотой, без крышки черепа, головой, держащейся на плечах, как пурпурная роза, страшный цветок с зубами. Моль растеклась по скамье киселем и тупо пялилась на сверхъестественное явление. Солдат шагнул к ней, раскрывая объятия:
– Здравствуй, мама, я за тобой.
Моль, у которой отродясь не было детей, жалобно охнула, когда ледяные руки сжали ее ребра. На второй ох не хватило воздуха. Она беззвучно изобразила ртом букву О и умерла. Тело завалилось набок, но только через полчаса вокзальный милиционер заметил скандально синее, в цвет халата, лицо усопшей.
Ветер принес голого на окраину уездного города Вязники в год нашествия Бонапарта. Эту историю Галина рассказала мне, когда стала моей бабушкой, сама узнала ее от своей бабушки, та – от своей, и так далее, по цепочке. Старушечий испорченный телефон сообщает, что в двенадцатом году западный ветер дышал на крыши городка перегаром московского пожара, и обыватели тревожились, как бы шалости Зефира не устроили кошмара на улицах Вязников. Французское слово приходило на ум из-за маленького капрала, который засел в Кремле, в кольце огня, словно импортная саламандра.
Вязники сплошь были деревянные и всегда хорошо горели. Мои предки жили на изгибе Клязьмы, на возвышенном месте, где раньше стояла крепость, когда-то служившая для защиты от кого-то. Замечательная фортеция с высокими стенами, которые комендант Суббота Чаадаев выстроил по приказу царя Алексея Михайловича, чье правление было сплошным лихолетьем. В столице бунты медные и соляные. В церквях распальцовка никониан и староверов. При таких обстоятельствах страшно жить маленькому человеку. Хочется укрытия, надежного места. Крепость была идеальным убежищем, бунтовщики и раскольники уважительно обходили ее стороной. Никто не дерзал штурмовать крутые стены. Они сами в одночасье сгорели дотла по неосторожности защитников. Вот как все запутано в нашей истории. А ведь предупреждали умные люди: не курите на бочке с порохом!
Голый появился в октябре. Мальчишки бежали за ветром и встретили крутящегося вокруг себя неизвестного, чья нагота не имела прикрытия, кроме желтого кленового листа, прилепившегося к груди, как звезда. Мальчишки обрадовались безумцу и тут же выдумали дразнилку:
Ветер голого принес!
Крики разбудили девицу по фамилии Ражева. Она высунулась на улицу и обомлела. Божественным показался ей танец обнаженного в вихре листопада. Он вращался отрешенно, как заводной, не замечая камней, которыми угощали его гостеприимные мальчишки.
Девица прикрикнула на мелких злыдней, но те в ответ ноль внимания, и тогда она позвала братьев.
– Убивают! – завопила девица.
Братья, в количестве четырех, выскочили из дома и рухнули от хохота, увидев дикое чудо в листьях, обдристанное кровью из носа, разбитого точным попаданием. Надо ли спасать такое?
Но все-таки решили спасти. Иначе любопытство замучает, если не узнают, откуда взялся сей адам.
Под руки привели его на двор, опоясав ему чресла рогожей, ибо имел он срам несусветный, как у коня. Хозяева даже подумали, не из сатиров ли пришелец. В губернии с древности водились чудесные создания. На стенах здешних церквей можно увидеть портреты мелюзин и кентавров, некогда изображенных с натуры. Теперь они охраняются ЮНЕСКО, а раньше люди просто удивлялись.
Принесенный ветром оказался немычачий. По-русски ни бе ни ме. Это навело хозяев на другую мысль: француз. Не так уж и далеко отсюда Москва. Видно, служивый отбился от своего Бонапарта и потерял дорогу. А пошто голый? Ну, так француз же!
Спорили долго, но всё без пользы. Тайна голого человека оставалась темна. Он не соглашался на разговор и скалил зубы, то ли веселясь, то ли угрожая. В конце концов решили с утра отвести его к священнику, а тот пускай думает. На ночь голого прикрепили к столбу во дворе, посадив на длинную цепь, чтобы не сильно страдал и мог поспать, лежа под забором.
Но прикованный бодрствовал, ему не лежалось. Он отверг рогожу и скакал по двору в лунном сиянии, во всей красе, гремя цепью и рыча на сторожевую псину, которая испуганно скулила, прячясь в конуру. Девица Ражева, как кукушка из ходиков, всю ночь выглядывала из окна и не могла насмотреться…
На этом месте дети всегда спрашивали у бабушек-рассказчиц:
– А потом она с ним поженилась?
Дети знают, что сказки кончаются свадьбой. Но бабушки им отвечали:
– Что вы! Кто бы ее отдал за нагого и немого безумца! Да и цепь он под утро оборвал. Не уследили, когда и куда умчался.
Маленькая Галя и ее старший брат Витя очень любили эту историю, по современным понятиям не годную для детской аудитории. Брат и сестра во весь дух неслись с горки, на которой стоял дом бабушки и дедушки, к речке, в которую они плюхались, на ходу успевая сбросить одежду. Пока бежали – кричали:
Ветер голого принес!
Характер девочки с комплексом гадкого утенка вычисляется по формуле: старший брат, всеобщий любимчик, плюс строгая мать минус слабый отец. Папаша Орлов покинул семью в двадцать восьмом году, оставив после себя только фамилию. Едва он удалился, как восьмилетний Витя объявил себя королем. Мальчик умел радоваться жизни. Чего нельзя сказать о его матери, беззащитной внутри себя перед лицом истории. Мария Васильевна преподавала в школе этот предмет, любила его, верила, что в нем есть смысл, который надо искать, а найдя – подчиниться. В двадцать четвертом году она вступила в партию большевиков, по так называемому «ленинскому призыву». Сам вождь мирового пролетариата, лежа в мавзолее, молчал как фиш, но его партайгеноссе, Троцкий и Сталин, решили, что это будет крутой прикол – записать в партию свеженьких романтиков, как если бы их позвал покойник. С точки зрения Марии Васильевны, это действительно было круто, однако даже Ленин занимал в ее сердце лишь второе место после ненаглядного Витюши. Галя, вечная номер три, искренне восхищалась братом, но хорошее чувство с детства было пропитано ревностью, как пирожные княгини Юсуповой цианистым калием.
На ночь мать не рассказывала детям сказок, презирая народное творчество, темную ложь неграмотных крестьян, а заодно и легкомысленное бла-бла-бла Ершова-Пушкина. Мария Васильевна признавала только non-fiction. Правда и ничего, кроме правды. Перед сном Витя и Галя слушали подлинные истории декабристов, народовольцев, цареубийц и заговорщиков. Юсуповские пирожные, отправившие Распутина в ад, были сладким блюдом этого меню. Когда мать уходила из детской и закрывала за собой дверь, артистичный Витя начинал корчиться на кровати, изображая агонию старца Гришки. Испуганная Галя пряталась под одеялом. Представляю, что ей снилось.
На первый, второй и третий взгляд брат с сестрой были не похожи. Кудрявый, чернявый, рослый, гибкий и веселый, Витя куролесил на улице, верховодил компаниями и обхаживал девчонок с тех пор, как научился говорить. Бледная Галя часто куксилась и отсиживалась дома, страдая мигренями, в которые мать не верила, называя притворством. Хватит гримасничать, говорила она, не хнычь, закрой книгу, иди на воздух. Но Галя хныкала и продолжала читать, вырабатывая характер. Ее список прочитанной литературы был ответом на донжуанский список брата.
Азартное соревнование прервалось осенью сорок первого, когда самолет Виктора вспыхнул в небе над Смоленском. В почтовый ящик упало письмо из военкомата. Галя плакала три дня. Мария Васильевна молчала и ничего не ела. Холодный ужас выбелил ее волосы.
История, жестокая сука, отнимала у нее близких мужчин. Одного за другим. Младший брат убит в Большом театре, старший сбрендил в Ярославле – боится отравления и употребляет только сырые яйца, всасывая их через нос. Сын пропал без вести. На этом фоне бегство супруга выглядело эпизодом водевиля.
Но пропасть без вести – худшее, что может сделать мужчина.
«Нет его в земле», – думала Галя. Что это значит? Какие дурацкие загадки у этих гадалок! Где же он? В какой стихии? Как может сестра найти брата у себя внутри? Вопросы мелькали в уме, как телеграфные столбы за окном вагона. Поезд шел в Саратов.
В купе, кроме Гали, вольготно расположились три весьма интересных пассажира. Всего трое. Как будто не было войны. Черноглазый, розовый, с тонкими усиками лейтенант, напоминающий креветку. Стриженная по-мужски дама на середине жизненного пути. Молчаливый майор со Сталиным в коричневой обложке.
Майор был погружен в чтение. Дама и лейтенант развлекались, играя в «ух ты!». Суть забавы состояла в том, что один закрывает глаза, а другой изображает из себя нечто такое, увидев которое нельзя не воскликнуть «ух ты!».
Первым водил лейтенант. Когда его спутница завязала глаза платком, он сунул за щеки по яблоку, выпучил глаза и высунул длинный язык, отчего стал похож на буддийского демона-защитника. «Ух ты!» – расхохоталась дама, сняв платок. Галя подумала, что у лейтенанта фантастическая пасть. Любой штатский наверняка вывихнул бы себе челюсти. Но молодой человек спокойно извлек изо рта яблоки и зажмурился, ожидая своей очереди прийти в изумление.
Веселая дама не подкачала. Лихо скинула платье и комбинацию, завернулась в простыню, оставив обнаженными плечи, а на голову водрузила тюрбан из полотенца. Галя страшно удивилась, до чего красивой может быть фигура, высокая грудь и все такое у старой (лет 35–40) женщины. А еще тому, что майор остался холоден к стриптизу и ни на секунду не отвлекся от Сталина. Зато лейтенант, открыв глаза, пришел в такое искреннее возбуждение, что Галя испугалась, как маленькая. «Ух ты!» – хором воскликнули игроки.
Лейтенант (весьма довольный): Я победил, два один!
Дама (щеки порозовели): Да уж! Пальма твоя. (Обращается к Гале.) Хотите с нами?
Галя: Спасибо. Я как-то не в настроении.
Д: Куда путь держите?
Г: В Энгельс. К жениху.
Д (глядя на правую руку девушки): Я вижу, что не к мужу. Составите нам компанию? Жених – это не постоянная переменная. Сегодня есть, завтра нет. (Лейтенанту.) Ну что? Поехали?
Л: Жених летчик?
Г: А кто же еще?
Д: Воздушный герой?
Л: Серьезный парень?
Д: Вы его любите?
Г (улыбается): Можно не отвечать?
Л: Сами, что ли, не знаете?
Д: Сомневаетесь?
Г: Не имею права?
Л: Боитесь, что мы будем над вами смеяться?
Г: А вы будете?
Д: Мы похожи на убогих, которые смеются над любовью?
Г: А может быть, я еще не знаю, что такое любовь?
Л: Хотите, научим?
Г: Прямо сейчас?
Д: Почему бы и нет?
Г: А как же товарищ майор?
Д: Разве майоры не люди? (Майору.) Милый, ты человек?
Майор: Что?
Д: Тебе нравится девушка?
М: Какая девушка?
Д: Ты не видишь?
М: Ты не видишь, что я читаю?
Г: Вы любите Сталина?
Д: Ты могла придумать более глупый вопрос?
Г: Я глупая, ну и что?
Л (с веселым смехом): Проиграла! Это не вопрос.
Г: Во что я проиграла?
Л: Ты не поняла?
Г: Вы все время играете?
Д (с улыбкой): Мы начинаем второй тур?
Галя пожимает плечами.
Д: Хочешь, мы расскажем тебе о Сталине?
Г: Кто же не хочет!
Д: И кстати, ты не против на ты?
Г: Почему я должна быть против?
Д: Как можно не любить Иосифа Виссарионовича, мудрейшего из людей, если он подарил нашему народу счастье?
Г: Как можно!
Д: Ты знаешь, что Сталин категорически запретил нам сомневаться, взвалив этот груз на себя?
Г: Когда?
Л: Представляешь, как трудно – всю ночь сомневаться за всю страну и каждый раз находить единственно правильное решение?
Г: А вы это представляете?
Д: Ведь что делают на Западе?
Г: Что-нибудь ужасное?
Д: Разве там не морочат людям головы так называемыми свободными выборами?
Л: А какой от этого прок? Какая польза для народа?
Д: Зачем все время пробовать что-то новое?
Л: Какого черта?
Д: Не похожи ли тамошние граждане на избалованных детей, которым позволяют без разбора хватать из вазы конфеты?
Л: Приходилось тебе облопаться сладким, хотя бы раз в жизни?
Г: С кем не бывало!
Л: Хочешь конфетку?
Г: Это метафора?
Д: Хочешь кандидата от правой партии?
Л: Или кандидата от левой партии?
Д: Шоколадку или ромовую бабу?
Г: Я должна выбрать?
Л: А ты способна попробовать всё?
Д: К чему это приведет?
Л: Не придется ли вызывать «скорую»?
Д: Тебе знакомо чувство тошноты?
Л: Представляешь, как мучаются трудящиеся в мире капитала?
Д: Ты читала Сартра?
Г: Кто это?
Д: Тебе не стыдно? Как можно не знать выдающегося французского сталиниста!
Г: Чем он так прекрасен?
Д:…который не побоялся назвать капиталистическое общество его настоящим именем?
Л: «Это ад», – сказал он.
Г: Ха-ха. Вы увлеклись и проиграли.
Д: Возможно, да, а возможно, нет. Ведь мы всегда задаем вопросы, ответы на которые знаем заранее благодаря Сталину. Мы живем в здоровом обществе, не мучаясь ерундой. Поэтому брось ломаться и давай играть в «ух ты!».
Много лет спустя, выпив за праздничным обедом немного вина, бабушка со смехом вспоминала, как сексуально озабоченная дама подписывала ее на оргию сталинистов и как ловко удалось тогда выкрутиться, побив даму ее собственным оружием – диалектическим материализмом. Галя похлопала глазками и ответила: ах, вы правы, какая я была дура, что сомневалась в любви своего жениха. Спасибо товарищу Сталину!
Но осадочек остался. Моему деду, в то время гипотетическому, она ничего не рассказала о разговоре на железной дороге. Сама капризничала всю дорогу во время их свидания под забором авиабазы и довела бедного парня до того, что он чуть-чуть повысил на нее голос. Тогда Галя воскликнула: ах так?! И уехала из Энгельса как бы навсегда.
У нее была феноменальная память. Фантазия тоже будь здоров. Плюс гигантский список прочитанной литературы. Словно карлик, стоящий на плечах гиганта, я слушал ее истории о далеком прошлом с подробной детализацией разговоров и думал: было или не было? Жизнь или театр? Клио или Мельпомена? Мы все врем о времени и о себе, но некоторые делают это так художественно, что сдвигают тебе точку сборки. Ходишь потом и сомневаешься как дурак.
Документы не проливают света. Чаще, наоборот, добавляют поэтической темноты. В кладовке старой квартиры хранится пачка писем девушки на фронт. Прекрасный почерк и легкие мысли блондинки, абсолютно безоблачные, когда марьяжные тревоги не портят настроения. Война, как говорится, войной, а девушка стареет. Двадцать один год, не шутка. Летом сорок третьего Галя при свидетелях заявила, что выйдет замуж до Нового года. Обязательно! И вот, приступив к исполнению плана, она садится за письмо:
«Успокойся, Дима, я, кажется, окончательно убедилась, что моим мужем будешь только ты. Ты сильнее всего, ты выше всех обстоятельств. Я никогда не решусь на последний шаг, пока знаю, что есть ты. Раньше я как будто смотрела пьесу, не понимая, кто главный герой. Все персонажи хороши, красивы, остроумны. Но только твое отсутствие на этой сцене огорчает меня до слез».
По-моему, отличная заявка на участие в фестивале стервозности: я, кажется, окончательно. Но влюбленному штурману пикирующего бомбардировщика кажется, что это победа. Летая над театрами военных действий от Финляндии до Аляски, он осыпает Иваново воздушными поцелуями, которые благосклонно принимаются на земле:
«Мальчик, мальчик! Ты хочешь моих поцелуев. Целую, целую, целую. А ты поцелуй меня. Ой-х! Ну зачем так сильно, милый. Нет, нет, целуй еще, еще».
Путем взаимной переписки они восстанавливают подробности Первого (главного) поцелуя накануне Второй (мировой) войны. Три года спустя летчик признается, что все еще чувствует фантомные боли в нижней губе. Галя любила кусаться. Семейный историк должен быть готов ко всему – открытие архивов шокирует:
«Твоя любимая обезьянка посылает тебе свою шерстку. Надеюсь, эти несколько волосков не изымет цензура. Они такие же, как раньше, только немного потемнели от тоски по моему обезьяну. Родинку оставляю на себе, потому что есть риск ее потерять из-за цензуры. А что будет со мной, если ты недосчитаешься родинок?»
В то время цензура была со своим народом день и ночь в самом ахматовском смысле глагола. Мне повезло. Я знаю об этом из первых рук. Письма на фронт дышали сексом, километры строк дымились от напряжения страсти. В конвертах скрывался любовный мэйл-арт. Перлюстрация возбуждала. Никто столько не дрочил в годы Великой Отечественной, как военные цензоры.
Но это никого не смущало. Пишущие знали, что их читают не только адресаты. Да и плевать! Лишь бы после войны было лето.
«Мы уедем в глухую деревню, где можно голыми купаться в реке и валяться среди цветов. Я буду целовать тебя, мой мальчик, везде-везде и еще раз везде и никогда не перестану…»
Так всегда бывает во время войны. Описания любви заменяют любовь. Миллионы разлученных рисуют картины рая, сочиняют коллективный рыцарский роман, который, если бы мог быть прочитан целиком, поразил открытием – сколько нежности чувствуют люди, занятые уничтожением себе подобных. Особенно под песни Клавдии Шульженко:
Строчи, пулеметчик, за синий платочек…
Влюбленный солдат идет в атаку, убивает вражеского влюбленного солдата, стряхивает его горячие кишки со своих сапог и возвращается на одинокую койку, чтобы написать, как я скучаю по твоим объятиям.
Жизнь другого, оставшегося на поле боя, растворяется в облаке слов, застывает в янтаре последнего письма. Он умирает не сразу, но со скоростью почты, которая, опаздывая, отставая, приходит недели, месяцы, годы спустя официального извещения о смерти автора, чтобы снова оживить его в воображении адресата. Этот танец никогда не кончается. Чтение – вдох, письмо – выдох. Пишущий и читатель меняются местами, перечитала свое письмо и вижу, что не рассказала, как скучаю по тебе, мой дорогой, без тебя, твоих писем мне совсем нечего читать…
Неуверенность заставляет переписывать текст до онемения пальцев, и в какой-то момент наступает отчаяние, клиническая смерть письма, пока новый вдох не освободит из памяти ранее прочитанное.
«Я буду целовать тебя всегда, на берегу реки, в прозрачной воде, в тени деревьев, на зеленой траве, на желтом песке, на белом снегу, под жарким солнцем, под звездным небом, на рассвете, когда птичий хор заглушает наши стоны, в шорохе дождя, утоляющего жажду, в тишине глухого леса, где мы оба станем молчанием».
Жаль, что действительность оказалась жестче этого милого порно и советская глушь была использована государством в иных, мрачных целях.
Но юных девушек государство интересует только в виде загса да еще почтальона, который приносит очередную серию любовных игр бумажных тигров. Ничего другого Галя знать не хотела и раздражалась, когда ее избранник писал о посторонних вещах, о смерти и горящих самолетах, как будто не верил в защитную силу ее чувства.
Она критиковала избранника за проявления эгоизма в ответ на письмо, где он признается, что не любит сбрасывать бомбы на людей, даже если это враги. Нездоровой показалась ей однажды высказанная летчиком мысль о том, что каждый взрыв уменьшает полезную площадь земли, и если война продлится еще год или два, то его самолету, возможно, некуда будет зайти на посадку.
В остальном он годился. Сильный, послушный, серьезный мальчик, с чем-то французским в своей красоте, наверное, потому, что одессит; талантливый, не хуже некоторых – отлично умел рисовать. Но главное, был готов пожертвовать всем, и собой в первую очередь, ради счастья любимой Галуси.
13.12.43. Мой маленький мужчина, поздравляю тебя с твоим 23-летием. Я дарю тебе свою, чуть было не потерянную нами, любовь. Пусть эта любовь заставит нас следующий декабрь, месяц наших рождений, провести вместе. И пусть заставят нас когда-нибудь мечты четырех лет очнуться от детства, стать взрослыми. 21 и 23. Это, кажется, уже немало.
Поздравляем коллектив цеха № 10
с Наступающим 1981 годом!
Желаем крепкого здоровья, трудовых успехов,
счастья и семейного благополучия.
В старину люди имели размах. Мой прадед, Павел Васильевич Филимонов, точно знал, какие слова произнесет перед смертью. Вот они: «Раньше надо было думать!» Найденные в минуту вдохновения, слова хранились в записной книжке, ожидая своего часа. Пока час не пробил, Павел Васильевич служил.
Малороссийские Филимоновы, от которых он произошел, любили перемены и в каждом поколении искали новую стезю на другом месте. Сын адвоката из города Сумы, внук черниговского священника, Павел Васильевич выбрал для себя Одессу, где занял должность инженера надземной железной дороги в грузовом порту.
Объект назывался Эстакада. С большой буквы. В Одессе любят большие буквы. По воздушному рельсовому пути товарняки подъезжали вплотную к бортам пароходов, где не лишенные театральности биндюжники открывали настежь двери вагонов, выпуская на волю сыпучие тела муки, зерна, угля, которые потоком изливались в широкие желоба и уползали, под собственной тяжестью, в пароходный трюм. Цвет поднимающихся над Эстакадой трудовых облаков, словно индейский телеграф, оповещал город, какая субстанция нынче грузится на корабли. Во-первых, это было красиво…
Интересную работу нашел мой прадед. Словно античный бог, он восседал на перекрестке четырех стихий: у границы земли и воды, где по воздуху, плюясь огнем, бегают локомотивы.
Настаиваю – восседал. Глагол употреблен не для красоты. Время было такое: заседания да отсидки. Приличные люди относились к ситуации с пониманием. За теми, кому не сиделось, бегала злая милиция.
Оставшиеся в его жизни часы свободы инженер отдавал карточным играм. Нежно любил преферанс. Был в нем непобедим. Зимой расписывал пульку с капитанами дальнего плавания, летом вписывал сына на их корабли за мизерную плату.
Мальчика звали Митя. У него было завидное детство баловня Черного моря.
В июне закрывалась школа. В гавани разводил пары какой-нибудь «Красный черноморец», возивший в сказочный Батум членов профсоюза. Митя с чемоданчиком поднимался на борт в последнюю минуту, как было условлено.
Отчаливали, любуясь Лестницей. Говорили о революции девятьсот пятого года. «Броненосец Потемкин» был еще свежим блокбастером. Не многие видели его дважды.
Первый якорь бросали в Новом Свете. Членам профсоюза, которые страдали морской болезнью, наливали голицынское шампанское, недопитое членами Крымревкома. Со своим чемоданчиком Митя спускался на берег, ловил попутную телегу до Старого Крыма, где скучала пожилая родственница, не дождавшаяся алых парусов. Здесь, в десяти километрах от моря, начиналась Татария, сквозь которую просвечивала древняя Киммерия. В скалах над городком ютились худые армянские монахи.
Пожилая родственница ходила в церковь, откармливала ленивого трехцветного кота и раскладывала пасьянс. На Митю возлагалась обязанность таскать святую воду из источника, сонно пузырившегося в церковном дворе. В этой засушливой глуши вода неохотно выходит на поверхность. Возвращаясь с ведром по кривым пыльным улицам, Митя проходил мимо компаний маленьких татарчат, но они ни разу не проявили к нему интереса. Мальчишки ногами подбрасывали в воздух сухие кости животных. Девочки держали на руках свертки с младенцами. И так каждый день.
Вспоминая сверстников из родного города, Митя удивлялся. В Одессе дети разных народов были живыми и шкодливыми, даже воспитанные еврейские девочки. А здесь казалось, что детство проходит как сон.
Через пару недель старокрымской скуки другой карточный должник Павла Васильевича подбирал Митю на набережной Коктебеля и увозил на восток, в деревню контрабандистов, к дружественным туземцам, где маленький гость за три рубля имел сервис all inclusive – кумыс, лепешки и полную свободу.
На рассвете, проснувшись от молитвенных выкриков мужчин в тюбетейках, мальчик шел гулять на край земли. Это было рядом. Надо было только продраться сквозь ущелье, заросшее можжевельником. Крутая тропинка, петляя, вела в голубую бухту, куда тихие парусники причаливали, чтобы укрыть в холодном гроте груду наживы – коньяк, чулки и презервативы.
Они подходили к берегу на веслах, как на цыпочках, по-быстрому сбрасывали товар и исчезали в тумане моря голубом. Речь этих аргонавтов была еще страннее татарской – сброд языков со всего побережья.
Дождавшись отплытия парусника, Митя вступал в индивидуальное владение пиратской бухтой. Инспектировал берег, собирая потерянные моряками пылинки дальних стран. Колотил по бочкам с контрабандой в гулком, как барабан, гроте. Жарился на солнце. Растворялся в воде. Ловил розовых крабов на большой палец ноги, долго и терпеливо притворяясь утопленником среди камней.
Этому приему, делать вид, что ты сам – еда, он научился годом раньше у хлопцев с Днестровского лимана, которые лихо выманивали из-под берега жирных раков. Морские гады тоже велись на простую хитрость. Запеченные в можжевеловых углях, они истекали соком и утоляли жажду. После обеда солнце, расплываясь от собственного жара, поджигало море и горизонт. Мальчик ленился возвращаться к дружественным туземцам и засыпал на теплой спине белого камня.
Ночью, открыв глаза, он долго не мог понять, где в этом мире верх, где низ, где настоящее звездное небо, а где только образ на пленке моря. Смотрел в ночь, не мигая, отчего звезд становилось больше, чем темноты. И темно-синий космос, выворачиваясь наизнанку, забирал юного наблюдателя на другую сторону тверди небесной, где желтые души людей лениво ползают по бесконечности. Это и есть звезды, ростовщики бытия, дающие нам взаймы каплю света в момент зачатия. Бизнес приносит им огромный доход. Получая с человека посмертные проценты, они каждый раз весело подмигивают.
Вот такое кино показывало мальчику дикое лето, пока он болтался по волнам и вялился на берегах страны, которая узкой лентой оборачивалась вокруг Черного моря. Из географии он знал, что на севере есть большие холодные города – Киев, Харьков, Москва. Но туда не тянуло. В конце августа, перед началом осенних штормов, Митю доставляли в родительский дом на улице Лизогуба, спонсора терроризма, казненного на Скаковом поле в царствование Александра Освободителя.
После революции одесситов ужасали ночные грабители – Пружинщики. Они тоже были с большой буквы, эти спортивные молодые люди, которые крепили к ногам рессоры и скакали по улицам криминальными кенгуру, на ходу подрезая у прохожих мешки и лопатники. Для большего эффекта Пружинщики закутывались в саваны. Они вырастали перед обывателями, как лихие привидения, делали грабеж и исчезали в темноте под восхищенный свист беспризорников. Высокая культура гоп-стопа была воспета бардами Молдаванки и Пересыпи.
Митя мечтал стать пружинкой ночного танцующего бандитского механизма Одессы.
В раннем детстве у него была няня, гречанка Афродита из Бессарабии, суеверная и поэтичная, с волосатой бородавкой, печатью Великого Пана, на длинном носу. Она утверждала, что не все одесские привидения – бандиты, что встречаются среди них настоящие мертвые души, у которых связаны руки, из-за чего они не могут поднять с земли даже корку хлеба. Столкнувшись с таким на улице, надо первым делом убрать свои руки в карманы. Иначе он позавидует, а на свете нет ничего хуже зависти мертвеца.
Думаю, что сказка-ложь была камуфляжем воспоминаний о красном терроре двадцатого года. Массовые расстрелы на набережных Крыма и в других туристических местах. Советские палачи халтурили, как все советские люди. Поэтому казненные иногда оживали в мешках, куда их засовывали перед тем, как сбросить в море. Оживали и пытались уйти, но не могли, так же, как няня не могла рассказать мальчику эту историю. Так же, как я не могу нырнуть в прошлое и вернуться с подлинной биографией деда. Руки связаны. Иногда удается распутать узелок-другой, но до полного освобождения еще далеко.
Митя, под впечатлением баек Афродиты, разглядывал свои ладони и пытался прочесть узоры будущей жизни. Он брал карандаш, приказывал руке лететь и создавал на бумаге мир с точки зрения птицы.
Практичный отец хвалил рисунки, но говорил при этом, что художник – профессия никчемная, а вот архитектор – это хлебное дело, и с такими способностями надо ехать после школы в московский или харьковский институт градостроения. Мать сомневалась, что у архитектуры в СССР есть будущее. Из осторожности она возражала по-французски:
– Les Bolcheviks ne construisent pas, ils détruisent. Tu te souviens de ce qui est chanté dans leur hymne?
– Я помню, – отвечал Павел Васильевич. – Там поется «а затем». А затем кому-то придется строить все заново.
Он был типичный попутчик, презиравший красных директоров и ленивый пролетариат, но прятавший усмешку в усах, наивно полагая, что это защитит его от неприятностей. Дед вспоминал, что прадед очень расстроился, когда за ним пришли.
Счастливое детство Мити закончилось в тридцать первом году. Отца арестовали по идиотскому доносу. Как гласит предание, доносчик вырезал фотографию Павла Васильевича из группового портрета выпускников Технологического института и отослал в ГПУ. Стукач вдохновился сходством фасона студенческих тужурок и офицерских мундиров. Сопроводительная анонимка нашептывала, что инженер Филимонов скрывает белогвардейское прошлое. Автор этого креатива, сохранивший свое имя в тайне, явно рассчитывал сесть на место инженера, когда тот сядет в Тюремный замок.
ГПУ отреагировало предсказуемо, но как-то лениво, по-вегетариански. «Белогвардейца» на три года выслали в Полтаву, где ему повстречалась хорошая женщина с выдающимся кулинарным талантом. А Павел Васильевич, как назло, любил налаженный быт и вкусно поесть, поэтому женился на чудо-поварихе еще до того, как вышел срок его наказания.
Придет время, и Митя Филимонов тоже испытает на себе волшебную силу полтавской Цирцеи. Это случится летом 1937 года, когда он, серьезный юноша, без пяти минут студент МАРХИ, навестит Павла Васильевича и его новую семью. А потом до конца жизни не сможет забыть вкуса окрошки с раковыми шейками, которой угощался в тот день. Он тогда все понял и простил отца. Повариха не читала Ницше, она и так знала, что нужно мужчине.
Кто спорит? Чекисты – злобные демоны и сверхчеловеки, плюющие в семейные очаги. Но чтобы понять устройство эпохи и населяющих ее граждан, недостаточно одной только либеральной истерики. Мы должны быть вдумчивы. Мы не должны сбрасывать со счета раковые шейки, борщ с чесночными пампушками, нежные свиные шкварки, щуку, фаршированную по-жидовски, вареники с вишней, галушки в сметане, упоительный хруст жареной скумбрии и баклажаны под ореховым соусом, которые подают в глиняной кастрюле гювеч.
А еще язык. Нежный и холодный, как весенний рассвет. Язык в желейном гробу, запечатанный горчицей и хреном. Украинский свиной, русский говяжий, татарский бараний, персидский соловьиный… Остановите меня! Это непереводимо в слова – это надо чувствовать!
Моя бабушка навсегда усвоила кулинарный урок. Она говорила, что все советские семьи счастливы одинаково – первое, второе и компот.
После измены инженера жизнь в Одессе потеряла смысл. Пароходство, как левиафан, вознамерилось заглотить обратно квартиру, которую прежде отрыгнуло для служебного пользования. Оставшиеся на свободе Филимоновы – Митя, его старшая сестра Ирочка, их мать Елена Карловна – решили переселиться в Киев, город тогда не столичный и недорогой, манящий тем, что в нем одиноко на множестве квадратных метров жила тетя Леля, сводная сестра Елены Карловны. Богачка.
Елена Карловна сообщила сестре, что обстоятельства заставляют ее рассчитывать на родственную помощь. Бедные люди вечно на что-то рассчитывают у себя в голове и невнимательно читают ответные письма, в которых между строк скрываются важные вещи.
Приезжайте, буду вам рада, писала Леля, после кончины папеньки я начала заниматься спортом по ночам. Эту новость Елена объяснила для себя всегдашней эксцентричностью младшей. Пожала плечами и забыла. А зря.
Дело в том, что отец Лели, отчим Елены, был гением торговли, процветающим при всех режимах, кроме военного коммунизма, когда процветать было опасно и глупо. Во время нэпа он цвел как магнолия, владея сетью магазинов и складов. Когда нэп придушили, гений, не сходя с места, стал главным бухгалтером Торгтреста или Трестторга, какой-то абракадабры, наклеенной советской властью поверх его собственной торговой марки. Краденых лошадей перекрашивают, не правда ли?
Зная, что не сегодня завтра за ним придут, он прятал материальные ценности в надежном месте, собираясь в случае ареста шепнуть дочери координаты клада. Очень умный был человек отец Лели, отчим Елены. Очень волевой и предусмотрительный. Современный в самом печальном смысле этого слова. Жаль, что на обратной стороне семейных фотографий выцвели чернила и нет возможности прочесть его имя.
Гений не предусмотрел только одного – что раньше агента с ордером к нему пожалует ангел внезапной смерти. И никто не узнает, где находится клад. Очень может быть, что дензнаки и драгметаллы до сих пор лежат в надежном месте, которое Леля так и не смогла найти.
Киевское ГПУ довольно скоро пронюхало о проблеме и решило помочь наследнице торгового гения. В центральном офисе этой организации был оборудован спортзал, где подпольных миллионеров заставляли делать многочасовые приседания. Занятия шли от заката до рассвета. Инструктор по фитнесу, бодрый молодой человек, хлопал в ладоши, задорно выкрикивая: сдашь валюту – пойдешь домой, сдашь валюту – пойдешь домой! Тех, кто падал, не выдерживая интенсивных упражнений, инструктор стимулировал палкой.
Тетя Леля получила от заведения абонемент. По вечерам ее ждала у подъезда черная машина. Все как положено. Под утро Леля приползала чуть живая от усталости, плакала, как болит спина, и что ее снова ограбили эти бандиты. Она сдавала антикварам безделушки с бриллиантами, чтобы подмазывать инструктора. За чаевые молодой человек разрешал сделать брейк в приседаниях. Не знаю, какая у него была такса, врать не стану. Но у тети Лели совершенно точно не оставалось сил на поддержку бедных родственников одесситов. Наоборот, это они ее утешали, ставили компрессы и бегали в аптеку за сердечными каплями.
Ожидания не сбылись. Киев оказался негостеприимным. Где-то там похоронена Ирочка, которая умерла от менингита в пятнадцать лет. Следы Елены Карловны затерялись. Точно известно, что она оставалась в Городе, когда пришли немцы, но три года спустя, когда вернулась Красная армия, никакой Елены Карловны в Городе не было. После войны Митя безуспешно искал могилу матери, опрашивал уцелевших соседей. Одни говорили – расстреляна с евреями, другие – что отправлена в Германию как фольксдойче.
Странная у нее биография. Вроде черновика, переписанного много раз. Мы писали, мы писали, наши пальчики устали, нить повествования потеряли. Связного текста не получилось из-за нагромождения вариантов. Рукопись долго таскали в чемодане, который однажды забыли на пересадочной станции, а когда спохватились, обратный билет выходил дороже чемодана. В общем, концов не найти.
Павел Васильевич был вторым мужем Елены Карловны. До того, как стать Филимоновой, она носила двойную фамилию Гирсон-Крих. Начало еврейское, конец украинский. Или немецкий? Что скажете, Карл?
Один бог, неизвестной национальности, знает рецепт этого коктейля. К сожалению, все смешалось в голове последнего свидетеля на исходе двадцатого века. Каждый раз он выдавал что-нибудь новое на просьбу рассказать о своей матери. Поэтому варианты ее жизни ветвятся, как расходящиеся тропки.
Она свободно говорила по-французски, проведя юность за границей вместе с Лелей, на правах ее компаньонки. В Бельгии барышни изучали плетение кружев, в Швейцарии технику росписи по фарфору, в Италии копировали фрески со стен подземных монастырей Трастевере. Дело было в конце девятнадцатого века. Европа и тогда была Гейропой: декаденты, нудисты, революционеры. Искушения fin de siecle окружали юных девиц. Неплохая фактура для романа, если бы иметь побольше фактов. Но все, что осталось от прабабки, – это неубиваемая ручная кофемолка из Льежа, которая молола весь двадцатый век и до сих пор продолжает работать, да еще фотографии в альбоме, собранном моим дедом незадолго до смерти. Он обстоятельно подошел к своему последнему арт-проекту. Поместил альбом в обложку черного китайского лака. Серебряным карандашом датировал и подписал снимки. Елена Карловна представлена в трех ипостасях.
1899 год. Пышная юная дама в тугом корсете, похожая на голубя-дутыша. За руку держит мальчика двух-трех лет в матросском костюмчике. Каноническое фото от первоклассного ателье. Качество такое, что можно иллюстрировать ЖЗЛ о рожденных на рубеже веков. Набоков, Поплавский et cetera. Читатель ничего не заподозрит. Рукой деда подписано, что мальчика зовут Володя. Он первенец от первого брака Елены Карловны, о нем речь впереди.
1905 год. Революционное изменение форм. Корсет больше не удерживает в своих берегах обширные бока и материнскую грудь. Корсет уволен. Елена Карловна сидит в просторной блузе и широкой юбке. На руках у нее младенец. Еще трое детей клубятся вокруг, как привидения, потому что не застыли на месте, когда вылетела птичка. Снимок любительский, фотограф и отец детей наверняка одно лицо, к сожалению, не сохранившееся визуально. Жаль. Мы бы побаловались физиогномикой. Гирсон или Крих?
1925 год. Время, вперед! Качество паршивое, советское. Перед нами загорелая блондинка в соломенной шляпке, с худым лицом и двумя детьми на коленях. Подписано: Ирочка – 7, Митя – 5. Дореволюционных детей сдуло ветром истории. Женщина выглядит моложе обеих матрон на предыдущих снимках. Закрадывается подозрение: а вдруг это разные люди?
Я знаю, время было трудное. Продукты по карточкам. Все на нервах. Граждане практически не имели щек. Хорошо кушали только в Полтаве. Вот там были щеки, ну и, конечно, в Кремле – у любимца партии Николая Бухарина.
С голодухи в моду вошли ямочки на щеках. Грета Гарбо, звезда немого кино, нарочно вырвала здоровые коренные зубы, чтобы добиться ямочек. А советские люди имели их просто так, бонусом к классовой борьбе.
Теперь уже не узнать, в чем причина несходства с самой собой женщины на фотографиях. Что виновато? Скудное питание двадцатых или склероз девяностых, когда составитель альбома не всегда узнавал своих родственников?
Чем дальше прогрессировала болезнь, тем вреднее становилось чувство юмора больного. В конце двадцатого века бабушка не могла найти на деда никакой управы. Он ежедневно чудил. Доставал из чулана свой официальный портрет с орденами, много лет украшавший «аллею трудовой славы», и говорил:
– Вот приколочу этого на палку и выйду на парад.
С удовольствием перевирал классиков, приговаривая «бабушка, бабушка в фартуке белом, что ты там строишь, кому?», или «дай, бабушка, на счастье лапу мне», или еще какую-нибудь ерунду. Однажды совсем потерял берега и позволил себе злую шутку над бабушкиным здоровьем. А это всегда было святое. Инцидент произошел осенью девяносто восьмого года. Телевизор сообщил новости о дефолте. Галина схватилась за сердце и легла на диван. Дед в тот момент курил на лестничной клетке. Вернувшись и обнаружив спутницу своей жизни в растрепанных чувствах, он изобразил пальцами пистолетик и, с громким смехом, произнес «пиф-паф, ой-ой-ой, умирает зайчик мой». Бабушку подбросило, как пружиной. Она обругала мужа паровозом, продымившим последние мозги. Он в ответ смеялся и давал сигнал к отправлению:
– Ту-ту-у!
– Кого мне подсунули? – вопрошала пространство Галина. – Это какой-то посторонний старик!
– Я – посторонний старик, – поддакивал дед.
– Верните моего Диму!
– Дима-а! – он заглядывал под диван, под кресло, под газету на подоконнике.
Галина была в отчаянии. А мне, по глупости, эта сцена казалась забавной. Я воображал себя писателем, наблюдающим жизнь. Хотя даже тогда понимал своим крохотным IQ, что вижу не лучшие ее минуты.
На просьбу рассказать о переезде в Киев дед ответил: приехали голые на тарелках. И ушел курить, забыв что пять минут назад уже делал это.
Он вернулся к курению после пятнадцатилетнего перерыва, имея перед тем сорокалетний стаж потребителя «Беломора». Рассказывал, что все годы воздержания ему снилось, будто курит любимые папиросы с картой ГУЛАГа и даже сигареты с фильтром, которые вообще-то не уважал.
Во сне он дымил сигарами Погарской фабрики, мимо которой отступал с остатками своей эскадрильи в сорок первом году. Немцы разбомбили их аэродром на второй день вторжения. Советские летчики как муравьи ползли по земле на восток в поисках исправных самолетов. Возле Погара они встретили брошенный поезд с табачной продукцией и набили ею вещмешки, из-за чего имели козырное положение во всяких бартерных сделках до конца войны.
Снились ему настоящие кубинские сигары в коробках с золотыми феминами, снилась махорка в оранжевых цибиках, голландский трубочный табак и даже северокорейские сигареты «птичка» за пять копеек, о которых ходила шутка, что их набивают морской капустой.
Ровно в семьдесят пять лет, прямо во время юбилейного обеда, дед махнул рукой на данное любимой жене обещание «больше никогда не дышать этой гадостью» и опять стал наслаждаться жизнью.
Когда он вернулся с перекура, я подверг его память новым атакам и выяснил, что про тарелки был никакой не бред, а чистая правда. Имелись в виду фарфоровые блюда, которые Елена Карловна расписывала, обучаясь дизайну в швейцарской школе. Блюда висели на стенах одесской квартиры. Их пустота казалась символической. Они пережили гражданскую войну. Но до Киева не доехали, превратились в средство передвижения, будучи проданы антиквару.
На вогнутой поверхности, не знавшей прикосновения пошлого супа, юная Елена когда-то изобразила фривольные сценки: пастушок заигрывает с пастушкой, поднося к ее алым губкам свою свирель.
Перед выпускными экзаменами бабушка учила меня анализировать «Мертвые души» на твердую пятерку.
– Помещики, которых встречает Чичиков, – говорила она, – делятся на два типа. Запомни: человек-кулак и человек-ладонь. Ноздрев и Собакевич – кулаки, Манилов и Коробочка – ладони. Плюшкин совмещает в себе оба этих типа, так как все, собранное им, пропадает зря.
Время было такое. Нельзя было человеку, а тем более юноше, думать своей головой. Это называлось «заниматься глупостями» или «страдать херней». Повсюду, особенно в сочинениях, требовались правильные мысли. Но их не хватало, как и всего остального. Поэтому репетитор-словесник был нарасхват, как шаман в период засухи у аборигенов Папуа и Новой Гвинеи. Я был счастливцем, имеющим собственного шамана.
– Запомнил? – спрашивала Галина. – Кулак и ладонь. Два типа. Очень просто. В жизни то же самое. Посмотри на нас с дедом. Он типичный кулак – все собирает, а я ладонь – отдаю.
Советская школа учила, что литература отражает жизнь. Лев Толстой как зеркало. Лев Толстой – зеркало как. Эта мысль считалась настолько правильной, что оспаривать ее решались только психи, не боящиеся диагноза «вялотекущая шизофрения».
Лично я боялся диагноза, но все равно выбрал вялотекущую несколько лет спустя, когда передо мной встал серьезный выбор между шизофренией и Афганистаном. Помню табличку «Психиатр» на двери кабинета в военкомате и фразу «сочиняет стихи абсурдного содержания» из медицинского заключения.
– Вы не хотите исполнять интернациональный долг! – с укором произнес глава комиссии, убеленное сединами светило карательной психиатрии. – Почему?
– Хочу быть персонажем Сэлинджера.
Светило покачало головой.
– Молодой человек, вы не далеко пойдете.
И оказался прав. Сам вскоре эмигрировал в Израиль, а я остался на родине, у корыта изящной словесности.
Что касается бабушкиной характеристики деда, то я с ней в принципе согласен, но не осуждаю. Станешь, пожалуй, кулаком, пережив голодомор.
Примерно через год после того, как Елена Карловна с детьми поселилась в Киеве, Сталин запретил украинским крестьянам сеять хлеб, одновременно разрешив всему советскому племени отмечать Новый год. Два решения вождя разъединили древний имперский принцип circus et panem и отразились на судьбе подростка Мити Филимонова. А также всей его семьи.
В Киеве они быстро привыкли вставать из-за стола с чувством голода. Новый год вернулся, хлеб исчез. Точнее, дешевый хлеб. Коммерческие магазины приводили в ужас своими ценами.
Как в торгсине на витрине
Масло, сыр и колбаса.
А рабочий с голодухи
рвет на жопе волоса.
На улицах лежали невидимые тела голодающих крестьян и рабочих. Их в упор не видели ни представители власти, ни рядовые граждане. Только западные журналисты, проныры вроде Артура Кестлера, у которых зрение было устроено по-другому, замечали трупы в пейзаже. Остальные ничего не видели, а когда им пытались об этом рассказать, напрочь теряли слух.
Были и другие проблемы. Не хватало елочных игрушек для украшения вновь легализованных новогодних елок. Киевские газетчики писали на эту тему возмущенные фельетоны.
Митя, которому в декабре того года исполнилось тринадцать, внимательно читал газеты и думал, что неплохо бы заполнить лакуну рынка. Он стал подбирать на улице перья (странное дело: перьев было полно, но куда-то исчезли голуби), раскрашивал и прилаживал веера-хвосты волшебным жар-птицам. Мастерил дирижабли из фольги и картона с праздничными буквами СССР на блестящем боку. Катал из войлока советских дед-морозов, терпеливо накалывая цыганской иглой красные звезды на их буденовках.
По воскресеньям юный кустарь отправлялся на базар сбывать готовую продукцию. Игрушечный бизнес имел успех. По окончании торгов Митя отстегивал копеечку смотрящему за рынком, татуированному польскими ругательствами бандиту-западенцу, а сам шел на Крещатик покупать булки и марки. Ирочка любила чай с булками. Филателия была Митиной первой страстью. Приказчик коммерческого магазина заворачивал хлеб в плотную коричневую бумагу, которая идеально подходила для создания новых игрушек.
Митю забавлял этот круговорот. Оберточная бумага после обработки превращалась в купюры с водяными знаками, а те в свою очередь становились почтовыми марками. Цветные треугольники и квадратики, бумажные ключики, открывающие двери любого жителя планеты. Хочешь – отцу напиши, хочешь – Сталину.
Так мальчик однажды и поступил – отправил тирану поздравительную открытку с Днем ангела, не забыв приписать, что имеет счастье родиться тем же числом. Елена Карловна очень испугалась, когда почтальон принес на квартиру ответ из Кремля в деревянной коробке. Хотя чего тут, по здравому размышлению, бояться? Кремлевские жители давно разучились делать бомбы своей молодости. Да и резона взрывать жилые дома в тот исторический период у них не было никакого. Почта и телеграф захвачены. Танцуй, Митя!
Короче говоря, из Москвы прислали конструктор. Жаль, что на исходе двадцатого века дедушка не умел припомнить, какой симулякр рождался после стыковки деталей. Стеклянный, оловянный, деревянный? Большой, маленький? С колесиками или нет? Мы забыли. Цензура сновидений вытеснила подробности.
В памяти осталось главное – посыл, вложенный в посылку мудрым вождем. Отдариваясь конструктором, Сталин давал Мите Филимонову недвусмысленное указание: сделай сам! Не жди милостей от природы. Дерзай! Ты молод, полон будущего, и руки твои растут откуда надо. Отыщи элементы судьбы в окружающем мире, сложи их единственно верным способом.
Это было такое счастье – стать видимым для Великого! На одно мгновение взгляд из далекой кремлевской башни упал на заурядную киевскую семью, и все осветилось. Какое-то особое чувство… – наверное, правильно будет назвать его ликованием – порхало по квартире до самого Рождества. Оно заставляло примус петь высоким голосом. Оно освещало лица многозначительной радостью даже во сне.
Оно бы, пожалуй, задержалось у Филимоновых дольше, это ликование, но в январе умерла Ирочка. Менингит уничтожил ее за несколько дней. В бреду девушка что-то торопливо рассказывала по-французски. Она любила болтать на этом языке с матерью.
Конечно, посылка тут ни при чем. Простое совпадение. Деревянный ящик. Однако Мите расхотелось писать письма. Он стал настоящим коллекционером, сажал марки на липкие язычки папиросной бумаги и надежно закрывал в кляссере.
Когда вырос, корреспондировал иногородним родственникам мало и неохотно. По большим праздникам, в буквальном смысле.
Осенью, накануне Миллениума, дед все-таки докурился до сердечного приступа. Зав. отделением кардиологии сказал:
– У нас ничего нет, ни сиделок, ни каталок. Столовая не работает. Родственники кормят своего больного и сами убирают за ним. Такие дела. Живем на планете Шелезяка.
Ельцинское здравоохранение было с юморком. Кто его пережил – не забудет. В больницах лечились тем, что принесли из дома. Врачам за их услуги полагалось дарить коньяк.
Мои родители (пусть они останутся фигурами умолчания, поскольку история не про них) закупили товарное количество физраствора для капельницы, а также иглы, шприцы, спирт, вату и даже вазелин, чтобы смазывать присоски электрокардиографа.
Но дедушка категорически отрицал больницу и всё делал для того, чтобы его родные это поняли. Грубо передразнивал врачей или просто не отвечал на их вопросы. Оставшись без надзора, выдергивал из себя иглы системы, норовя убежать домой в пижаме и тапочках. Почти восемьдесят лет он был хорошим мальчиком, заботливым мужем, примерным отцом и законопослушным гражданином, а теперь старался наверстать упущенное. Приходилось его караулить. Мы составили график дежурств у постели больного.
Помню долгую ночь в реанимации, где я боролся с дедом до утра, каждые пять минут возвращая в горизонталь упрямое тело, которое поднималось с фантастической настойчивостью голема.
На соседней койке тем временем отдавал концы посторонний мужчина, деливший с нами палату. Зеленые зубцы на мониторе вытягивались в ровную линию, звенел последний звонок, два измученных доктора с матом и грохотом прибегали, толкая перед собой электрический аппарат для оживления покойников. Они били током бездыханное тело, запускали мотор. Воскреснув, мужчина жалобно просил: отпустите. Но реаниматоры не слушали. За ночь они трижды вытаскивали беднягу с того света, игнорируя его очевидное нежелание жить.
Дед, наоборот, хотел жить, курить, рассматривать фотографии, чинить бытовую технику, читать газеты, систематизировать архивы, засыпать и просыпаться с любимой женой. Хотел умереть дома, в конце концов. Но я ему мешал, своими дурацкими руками возвращая в больничную постель. Сейчас думаю – зачем? Все равно медицина в том заведении была ниже плинтуса.
К утру мы оба вымотались. Дед больше не бунтовал. Лежал неподвижно, глядя в потолок, пальцами что-то суетливо закручивая поверх одеяла, как будто собирал конструктор.
Чтобы отвлечься от окружающего депресняка, я начал рассказывать ему историю Ирочки, которая, в параллельном мире, жива-здорова, на пенсии, собирает в саду-огороде последний урожай осени. У нас тут, в местах отдаленных, все заметает снегом, а там, в далекой Украине, еще висят на деревьях… как житель Севера, я не знаю, что у них там висит в конце октября, но пусть это будут яблоки и груши из старой песни.
Когда спину начинает ломить от работы, Ирина садится на веранде отдохнуть и написать заодно новогоднюю открытку брату и невестке.
– Вот послушай:
Дорогой Митя! Дорогая Галина Алексеевна!
Поздравляю вас с наступающим Новым, 1999 годом!
Желаю вам здоровья, благополучия и душевного покоя! И, как говорят на Украине: «Хай ваше небо даруе сонце, земля – квiта, унуки – любов!»
У меня все по-прежнему. Ращу сад, в этом году уже плодоносили некоторые деревья. Ягод было много в предыдущие года, а главное – я чувствую себя лучше физически.
С искренним уважением,
ваша Ирина
Жизнь у нее в целом сложилась ничего – неплохая. Перед войной девочка поступила на иняз. Прекрасно училась. Вечерами гуляла над Днепром с красивым мальчиком. Между поцелуями они фантазировали о будущем. Завтра была война. На рассвете падали бомбы. Явились немцы, чей фюрер страдал австрийской болезнью – антисемитизмом. В Вене, представляешь, до сих пор обижены на евреев за то, что те в двадцатые годы были богаты, а все остальные – нет. Когда на Крещатике рванули дома, заминированные отступающими почтальонами, немцы совсем озверели и выместили злобу на евреях. Думала тогда, не дай бог тоже примут за еврейку. Немцы, они дотошные, вдруг раскопают мамину девичью фамилию. Соседи иногда выдавали друг друга, позарившись на жилплощадь. Кто первый донесет – тот не еврей. Но мама тихо-мирно умерла в сорок третьем, лежит под деревянным крестом с табличкой «Филимонова Е. К.». При немцах кресты потеснили на кладбищах пирамидки со звездами. Ирина уцелела. После войны, конечно, было неприятно ходить с клеймом «проживала под оккупацией». Из-за этого распределили в Житомир учительницей французского, который там никому не нужен. Зато оживились местные женихи. Красивой девушке в любой глуши есть из чего выбирать. Вышла за инструктора гороно. На десять лет старше, непьющий, положительный. Всегда с уважением. Появились двое детей, девочка и девочка. Улучшились жилищные условия. Мужа обещали перевести на работу в Киев. А это теперь столица. В год Африки ей разрешили Болгарию. Несебр. Настоящие иностранцы. Французский поцелуй на берегу. Было так хорошо погрузиться в любимый язык. Потом, конечно, раскаяние, бессонница. А с другой стороны, имеет замужняя женщина право на одну незабываемую ночь? Девочки выросли. Вышли за военных. Разъехались. Муж все время на работе, потом умер. Хоронили в номенклатурной зоне, на полупочетке, уже в Киеве. Пенсию ей начислили не сто двадцать, как полагалось с ее стажем, а только девяносто. Спасибо оккупации. Но если осторожно, то можно было давать частные уроки французского. Давала уроки. Исправляла ошибки в письмах смелых девиц, выходивших замуж по переписке. Тогда уже никто ничего не боялся. Деньги и флаги стали другими. Материализовались нищие. Город, как планета, описал круг и принес Ирочку обратно в детство. «На улице опять много людей, которым нечего есть», – писала она брату. Решила, что жить в Киеве дорого и опасно. Продала квартиру. А что? Дети взрослые, на своих ногах. В Житомирской, почти родной, области взяла домик с садом и доплату в валюте. Все у нее хорошо. Шлет тебе приветы, ждет в гости.
Когда я закончил рассказ, пациент на соседней койке тяжело вздохнул:
– Живут же люди! Завидую.
Ответить было нечего. Повисло молчание, в котором неожиданно чеканно прозвучал голос деда:
– Херня твоя история! Померла она и улетела в царство бесплатного мороженого, на тот свет.
Сказка, однако, подействовала, дедушка заснул. Сосед, к моему большому удивлению, оживился, сел на кровати и попросил закурить. Я ответил, что не чувствую морального права раздавать сигареты в реанимации. Он махнул рукой:
– Мое здоровье беречь незачем. У меня сын разбился на машине.
Жалость к себе – страшный яд, хуже никотина.
В старину люди так легко не сдавались. Хоронили друг друга и жили дальше. Говорят, их утешали религия, легион угодников и лично бог. Но я не верю, что люди столетней давности наивно верили в магическую силу прикосновения трех пальцев к четырем частям тела. Россия, которую мы потеряли, вряд ли была населена такими дураками, как мы сейчас. Вряд ли.
Чем они точно отличались, историки не дадут соврать, так это частотой истерик, которые они закатывали с легкостью необыкновенной, ежедневно, при любой погоде, в публичном пространстве и частной жизни, по всей империи, от Финляндии до Камчатки. Душевные бури, расслабляющие нервную систему. Старые добрые истерики. Слезы рекой. Театр для себя. Эмоциональная свобода, которую мы напрочь утратили в нашем концлагере иллюзий, где приходится быть таким сдержанно-ироничным, потому что жопа чувствует грозное присутствие невидимых модераторов.
А когда-то Россия рыдала абсолютно свободно. Сколько хотела! Сморкалась в белый жандармский платок и с новой силой проливала слезы. Мужчины и женщины, дворяне и разночинцы, помещики и помещицы, черное и белое духовенство, поэты над поэмой, инженеры над чертежом, государь над манифестом, генералы на поле битвы, депутаты от умиления, террористы от гордости, журналисты за компанию, полицейские на месте преступления, мистики, сами не зная о чем. Только Чехов не плакал, и это его сгубило.
Елена Карловна плакала, как вся Россия. У нее были на то причины. Из четверых детей, рожденных ею в первом браке, двое умерли, двое оказались в эмиграции.
Среди них Володя, первенец, в 1920 году защищавший Перекоп от товарища Фрунзе. Очень жаль, что Володя тогда не справился, не оправдал наших надежд, не сдержал волну Гнилого моря, поднятую Красной Армией. Продул всухую тот гнилой морской бой. Соль Сиваша разъела Володины сапоги. Они утонули. Родина осталась там, под водой, на подошвах сапог, в ледяной ноябрьской слизи. Босой, как Ахиллес, Володя в Севастополе поднялся на борт корабля и ушел к турецкому берегу.
По-турецки сидя на палубе, он распевал шансонетки и готовился к новым подвигам, но в Константинополе узнал, что он больше не герой, а головная боль в заднице Антанты, понятия не имеющей, чем занять этого плохо одетого, но хорошо вооруженного русского. Для начала Володю засунули в унылый концлагерь на греческом острове, с древности населенный призраками вонючих лесбиянок. Ничего лучше Антанта не придумала, потому что истратила весь интеллект на унижение Тройственного союза. Юноша терпел, понимая, что облажавшихся не любят, а он, что греха таить, струхнул в ноябре двадцатого, когда товарищ Фрунзе погнал через Перекоп красную волну.
Забытый, казалось, навечно, он приятно удивился весной следующего года, увидев, как ворота лагеря открываются перед ним с ржавым скрипом. Это означало новую жизнь и свободу идти на все четыре стороны. На юг – в Иностранный легион, на север – в веселую Софию, на запад – в парижские таксисты или на восток – в подмандатную Палестину.
Володя выбрал Софию, где Народный театр возглавлял беглец из МХАТа Николай Массалитинов, с удовольствием принимавший в актеры талантливую русскую молодежь.
Вскоре после Миллениума, со всеми поссорившись, дед отправился в царство бесплатного мороженого, а я за границу, где прежде не бывал и не до конца в ее существование верил.
Когда на юго-западной железнодорожной станции бывшего СССР вагоны поезда разом оторвались от земли для смены колес, я почувствовал себя метафизическим туристом, начинающим воздушные мытарства, бросающим на землю прощальный взгляд.
К счастью, поезд недолго висел в пустоте. Вагоны опустились на узкую европейскую колею и поехали в неизвестность. Молдавско-румынский (тавтология) пограничный пункт уплыл из окна купе, сменившись коричневым полем с одинокой фигуркой пахаря, идущего за деревянным плугом, запряженным в настоящего быка. Плуг вскрывал землю, как консервный нож. Это напоминало иллюстрацию из учебника истории Древнего мира и подогревало мои опасения насчет потусторонности заграничной жизни.
Вместе со мною в купе ехали два случайных попутчика, типичные соотечественники, два берега одной реки – патриот и либерал. Между ними завязался спор:
– Это называется Европа? – усмехнулся, глядя в окно, патриот. – Пашут, как в Средние века.
– Они, по крайней мере, пашут, – возразил либерал. – А мы?
Любовь к обобщениям – страшная сила. Они всерьез говорили «они» об одном-единственном человеке, который прилежно обрабатывал землю и ничего не собирался символизировать. Бедный румын и его домашнее животное, наверное, удивились бы, узнав, что на минуту стали для кого-то Европой.
Хотя вряд ли. После Дракулы и Чаушеску чему удивляться? Крестьянину было плевать на мнение сумасшедших пассажиров русского поезда, который миновал поле и остановился на станции, где бродили худые собаки и пестрое белье на втором этаже вокзала застило свисающий с крыши нестираный государственный флаг. Это было так смешно и красиво, что я расчехлил дедушкин «Киев» с целью произвести фотосъемку. Пока крутил диафрагму и резкость, на платформе материализовались два субъекта в голубом, носившие знаки отличия и фуражки с кокардами. Субъекты обратились ко мне на своем национальном языке:
– Вокзал – объект стратегический. Надо заплатить штраф.
Как тревожно понимать чужую речь без переводчика! Дома, в привычном мире, такое считается ненормальным. Имея за плечами опыт дружбы с карательной психиатрией, я нормально отношусь к ненормальности, но ситуация на перроне ужасно напоминала требование мзды за прибытие в страну мертвых. Я читал об этом в книге «Мифы Древней Греции».
– Вам нужен обол? У меня нету, честное слово, – в доказательство я широко открыл рот, чтобы румынские хароны убедились в отсутствии монеты.
Они попятились и исчезли.
– Вымогатели! – прокомментировал патриот. – Нищеброды. Мы им столько всего построили для счастья, а они все равно нас не любят.
– По крайней мере, они вежливы и не засовывают шампанское в задний проход своим жертвам, как ваши опричники! – огрызнулся либерал.
Всего меня, от заднего прохода до верхней чакры, объял ледяной ужас. Наверное, я все-таки умер, и эти двое – мой посмертный эскорт. Ангел света и аггел тьмы. Инь и ян. Змей-искуситель и святой Георгий. Мункар и Накир. Единство и борьба противоположностей. Гиппопотам, пожирающий грешников, и Озирис-адвокат. Но как определить, кто злой, а кто добрый? Оба выглядят непривлекательно. Один брызжет слюной, у другого изо рта пахнет ногами. Если это весь выбор, который предоставляет человеку загробный мир, тогда, наверное, спасибо, но лучше – ничего.
От тоски я выпил вина и заснул под монотонный бубнеж великая страна / больная страна, проклятый запад / прекрасный запад, а когда утром открыл глаза, в купе было пусто, мои попутчики растворились. Смутно помню, что ночью мы проезжали Бухарест. Ну и Дракула с ними!
Вскоре началась Болгария, и поезд задымился. Табачные облака взметнулись из окон вагонов, как флаги свободы. Курили все, кто обладал легкими, включая птиц в небе и цыганских лошадей у вокзала, с неизбежностью попадавших под дым. Курила, разумеется, и женщина в билетной кассе на маленькой станции, расположенной посредине страны, где я сошел, чтобы пересесть с международного поезда на местный.
Сошел и замер, охваченный чудесным ощущением края света. Парикмахеры выглядят как заговорщики. Язык – крепкая смесь турецкого с церковнославянским. Похмелье называется мухмурлук – словно ворчливый ручей толкает древнее мельничное колесо. Мечети стоят на холмах, а церкви в низинах. Турецкий закон требовал возвеличивать ислам. Но церкви все равно выше. Просто – в низинах. Маленькая славянская хитрость.
Провинция называлась Стара Планина. Считается, что жизнь там почти невозможна, как на Марсе или в ГУЛАГе. «Наша Сибирь», говорят болгары, и лица их суровеют. Ну да, конечно! Именно такой я ее себе и представлял: в горах слива, в трех часах езды на машине – Стамбул. Типичная Сибирь.
А вообще-то, кроме шуток, райское место, населенное просвещенными крестьянами. В каждой деревне есть «читалище» (не путать с Чистилищем!) и духовой оркестр. Никто никуда не торопится, потому что ни у кого нет денег на бензин, но это ничего, потому что есть картонный «трабант», работающий на третьем законе Ньютона. Если спихнуть «трабант» с горки, он по инерции едет вперед метров двести-триста, до следующего подъема, где пассажиры выходят и дружно толкают автомобиль вверх, но это тоже ничего, «трабант» такой легкий, никакого напряжения, одно удовольствие, при желании его можно носить на руках, как ребенка, а можно сложить вчетверо, как носовой платок, и засунуть в нагрудный карман.
Гуляя по долинам и взгорьям Старой Планины, я встретил пастуха, лежавшего на берегу неторопливой реки, на фоне Шипки, с книгой «Искусство этрусков» издания Академии наук СССР.
Разноцветные козы шатались вокруг и недоуменно блеяли: э-э-этрууски? Пастуха звали Федором, было ему тогда лет шестьдесят. Его отец, белый казак из Семиречья, по молодости играл в софийском Народном театре под руководством Массалитинова.
Услышав такое, я сделал стойку – вот она, удача! Мы взяли ноль семьдесят пять ракии и приступили к разбору эмигрантских фотографий, три четверти века ожидавших этой вечеринки в чулане пастушьей хижины. Я был уверен, что найду Володино имя среди подписей на обратной стороне портретов и групповых снимков.
Так и случилось. Мы обнаружили целую кучу Владимиров, Владов и Бобов. Многие без фамилий, кто-то с инициалами. Все примерно одного возраста – ровесники века. Любой из них подходил на роль моего двоюродного дедушки.
Пастух Федор душевно радовался широте открывшихся перспектив. Он, собственно, и подал идею выбрать Володю наугад. Сам Федор не владел информацией, поскольку родился перед Второй мировой, когда театральная карьера его отца уже закончилась и друзья молодости разбрелись по свету. А потом пришли русские советские, и отец все забыл. Три месяца допросов в НКВД заново отформатировали его память.
Мы опустошали бутыль и коробки с фотографиями, погружаясь в сцены из жизни талантливой русской молодежи, никогда не строившей коммунистических иллюзий.
Вот они читают стихи за длинным столом под закопченным сводом механы. Гоняют на лыжах по склонам Балкан. Позируют в очках-консервах за рулем дореволюционного «форда». Дурачатся в любительских киносъемках, изображая вампиров и ковбоев. Куражатся на баррикадах во время какой-то маленькой балканской революции. А вот их девушки, хохоча, выходят из Черного моря в смелых купальниках. Они все такие веселые и разные, с модными прическами, в шикарных парижских обносках, не похожие на зомби-сверстников из СССР.
Конечно, Володя там присутствовал, на снимках в архиве пастуха, мучительно трудно говорившего по-русски, но счастливого оттого, что кому-то еще интересны эти всеми забытые люди.
В полночь Федор взял лопату и ушел в сад, где выкопал бутыль пятидесятилетней отлежалой ракии, спрятанной в землю его отцом.
– Это последняя, – сказал он.
– Не жаль?
– Нет. Время это пить.
Мы пили это время, и к рассвету оно кончилось. Пастух уснул среди фотографий, разбросанных на полу. Я подумал, не взять ли одну карточку на память о Володе. Колебался, покачиваясь на нетвердых ногах. Потом решил: если пасьянс не сложился – оставлю все как есть. Попрощался с козами и пошел горной тропой вниз, держа курс на Шипку, запинаясь о камни.
О, Шипка! Тернистый путь.
Почти одновременно с бестарелочным переездом Филимоновых в Киев старший сын Елены Карловны натурализовался в Англии. Тут даже не лакуна, а дырка на странице семейной хроники. Как он туда попал? Учился? Женился? Никаких данных. Густой альбионский туман.
Однако в 1963 году из тумана вынырнуло письмо, укрепившее нелюбовь моего деда к почтовым сюрпризам. В то время он был уже никакой не Митя, а Дмитрий Павлович, кавалер ордена Ленина, член партии, начальник секретного цеха номер десять на военном заводе «Сибмотор» в наглухо закрытом для иностранцев Томске.
И тут – нате! – весточка из натовской Великобритании от полубрата-белоэмигранта. Танцуй, Митя!
Органы проявили бдительность. Письмо тормознули на почте, адресату не дали его прочитать. Только раздраженно помахали конвертом у лица адресата в кабинете директора завода, куда адресат был вызван для разговора.
За столом расположились двое в штатском. Один с мрачным видом читал личное дело Дмитрия Павловича, другой барабанил пальцами по столешнице, нагнетая обстановку. Оба выглядели злыми. Возможно, полагающийся в подобной ситуации добрый следователь на той неделе взял бюллетень. А возможно, в провинциальном КГБ это амплуа вовсе не предусмотрено.
Дмитрию Павловичу разрешили присесть. Молчание, шелест страниц, тревожная дробь пальцев. Эффектная пауза не для слабонервных. Наконец барабанщик приступил к делу:
– Вы скрыли факт существования родственников за границей.
– Виноват.
– Да, виноваты. Почему нам не известно об этом факте?
– Не могу знать.
Читатель вынул из личного дела Дмитрия Павловича пожелтевший лист и показал своему товарищу, который театрально вскинул брови:
– В 1947 году, при поступлении на завод, вы написали в анкете, что никого не имеете за границей. Ваша подпись?
– Моя.
– Как это понимать?
– Я забыл.
– Нехорошо забывать родственников.
– Мы никогда не встречались. Он уехал из страны до моего рождения.
– Он бежал, как трус.
– Ладно. Бежал.
– Впрочем, это не играет роли.
– Ясно.
– Каким образом вашему брату стал известен ваш почтовый адрес?
– Не знаю. Он, наверное, сообщает об этом в письме.
– Вы знакомы с содержанием письма?
– Нет.
– Тогда откуда вы узнали, что в письме раскрывается способ, которым ваш брат получил адрес?
– Догадался.
– О чем вы еще догадались?
– Дело пахнет керосином.
– Можно и так сказать, хотя шутки тут неуместны.
– Виноват.
– Так о чем письмо?
– Я думаю, он пишет, что написал в Киев, тете Леле, которая знает, где я живу.
– Так. А потом?
– Потом рассказывает о себе. Должно быть, сделался капиталистом и хорошо зарабатывает…
– Почему вы так думаете?
– Ну, из-за бедного коммуниста вы бы не стали беспокоиться.
– Хорошо. Дальше.
– Он пишет, что достиг в жизни чего хотел. Собственное дело, достаток, дети. Но ему тяжело на душе оттого, что он не знает, где похоронена наша мать. Владимир хочет приехать в Киев, предлагает встретиться там и вместе искать ее могилу.
Дознаватели переглянулись, барабанщик спросил:
– Вы в это верите? В то, что им движут родственные чувства?
– Верю.
– А мы считаем, что это вербовка.
– Я понял.
– Боюсь, вы не поняли и не отдаете отчета в том, какая идеологическая промашка вами допущена.
– Как скажете. Дал маху.
– Товарищ Филимонов, наше терпение на исходе. Это попытка шпионского внедрения. Вы отказываетесь сотрудничать?
– Куда я от вас денусь? Говорите уже, что делать.
Ему объяснили: в ответ на непрочитанное письмо он должен написать так называемому «брату», что никакое общение между ними невозможно ввиду обострения международной обстановки. Написать здесь и сейчас, в кабинете директора завода, под диктовку товарищей из органов.
– Во-вторых… – начал товарищ.
– Он не знает моего почерка. Можете сами написать, как будто от меня, – перебил Дмитрий Павлович.
Все-таки он был кавалером орденов и страшно затрахался вести этот мудацкий разговор. Гэбисты изобразили негодование. Читатель сжал кулаки, барабанщик вскричал:
– За кого вы нас принимаете?!
Явные и тайные полицейские в России ужасно обидчивы и всегда готовы закатить истерику с применением табельного оружия. Это называется «защитой офицерской чести». Умный Дмитрий Павлович извинился за дерзкое предположение, что система больше не нуждается в человечинке. Рядовой коммунист должен знать свою роль живого винтика, увлажняющего теплыми, желательно кровавыми соплями шестеренки аппарата. Дмитрий Павлович сделал вид, что все понял. Барабанщик притворился, что простил.
– Вы напишете ответ, – сказал он твердо, но спокойно, как бы смягчившись. – А затем мы вместе с вами подумаем об искуплении вашей вины.
– Вместе – это хорошо, – кивнул родственник белогвардейца, понимая, что все уже решено.
Но прежде чем открыть, какую епитимью возложили на Дмитрия Павловича спецслужбы, надо рассказать, как он попал со всей семьей в этот богом забытый сибирский город, всего дважды упомянутый в мировой литературе: Жюль Верном в романе «Михаил Строгов» и Аполлинером в военном стихотворении 1917 года.
Train couvert de neige apporte à Tomsk en Sibérie des nouvelles de la Champagne, – написал поэт, желая этим сказать, что даже гипербореи на краю земли узнали о шампанской победе.
Это была страшная авантюра, как бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Только вместо атомной бомбы на чужой город сбросили Диму. Точнее, он сам бросился в 1947 году, когда твердо пообещал Гале, что увезет ее в новую жизнь.
В Сибири у них не было никого, кроме однофамильцев. Нормальные Филимоновы прежде не ступали ногой за Урал.
Город назывался Томск. Дима приехал сюда после демобилизации. Первое, что поразило, – все носят ватники. Мужчины и женщины неразличимы. Грань стерта, как завещал великий Ленин. Нормально одевается только начальство, третий пол, но его, по техническим причинам, в связи с отсутствием тротуаров, невозможно встретить на улице.
Начальство выгружалось из служебной машины прямо на крылечко учреждения и сразу начинало крыть матом нижестоящих. По-другому оно не разговаривало.
Дима нашел место работы на заводе «Сибмотор». Что это за работа, он никому не имел права рассказывать. Ему под расписку запретили болтать языком. «На нашем заводе, – предупредили его в первом отделе, – стоит гриф секретности. Имейте в виду!» Он иногда представлял себе этого грифа на крыше завода.
До войны здесь был железнодорожный техникум, но в результате эвакуации гриф выпихнул учебное заведение из гнезда и завладел имуществом. В том числе действующей моделью вокзала – рельсы, шпалы, семафор, водокачка, паровоз, вагон, перрон, станция. Всё в натуральную величину.
Пока шло строительство заводоуправления, бухгалтерия сидела в зале ожидания учебной станции. Начальство занимало учебный спальный вагон, было недовольно темпами работ и материлось без передышки.
Дима получил свою порцию, когда зашел в вагон представиться начальству. Не отрывая ушей от телефонных трубок, оно сказало, что он … … должен … … иначе ему придет … … !
– Можешь идти, …твою мать!
В бухгалтерии молодому специалисту выписали ордер на вселение в общежитие. Он спросил: это далеко? Бухгалтерия рассмеялась. Далеко, товарищ, Москва. Твой новый дом рядом, на другом берегу лужи. Выходишь отсюда, идешь через лужу пять минут – и на месте. Смотри под трамвай не попади. Это была такая местная шутка. Трамвай был редкой, но популярной в народе птицей. Он двигался медленно. Ватники свисали из дверей, как гроздья северного винограда.
– В зад! В зад проходите, бараны! – кричала кондукторша с высокого насеста.
– Цыц, курва! – отвечали пассажиры.
Первый и единственный номер курсировал от вокзала до базара и обратно по одной колее. Встречные разъезжались на остановках, где были устроены запасные пути. Вагоновожатая, могучая баба с железной клюкой, выходила из кабины, втыкала свой инструмент между рельсов и наваливалась на него, кряхтя, словно поворачивала земной шар. Иногда баба не дожимала стрелку, и вагон сходил с рельсов. «Ёёё!» – выдыхала в момент крушения под завязку набитая единица.
Если живыми достигали конца маршрута, площади имени декабриста Батенькова, кондукторша орала:
– Ботинково! Ботинково! Выходите, бараны!
– Цыц, курва!
На самом деле горожане любили трамвай, но стеснялись в этом признаться и нарочно хамили друг другу, скрывая подлинные чувства. Сама идея общественного транспорта казалась им ошеломительно свежей, как ветер с вершины Казбека. Сосед по общаге рассказывал, что раньше из средств передвижения у них были только грузовики и пьяные извозчики. А теперь пришла современность. Трамвай запустили первого мая. Дима в шутку написал жене, что это к его приезду.
Он вообще держался молодцом и часто шутил в письмах, чтобы не выдать паршивого настроения. Но иногда перебарщивал, увлекаясь местным колоритом. В середине мая беспечная корова, проломив на бульваре лед весенней лужи, с рогами ушла под воду. Все вокруг смеялись, и никому не пришло в голову спасать тонущую скотину. Описание этой сцены заняло в письме полстраницы. Жена ответила: «Боже мой! А ведь нам придется там жить».
Получив такое замечание, автор понял, что лучше бы ему находить менее грубые сюжеты, иначе он рискует потерять читателя.
Год назад они вместе придумали бегство в Сибирь, подальше от родственников, как взрослые, и теперь ежедневно чувствовали детский ужас на огромном расстоянии друг от друга. Галя с младенцем в Иванове, Дима в Сибири, одинокий, как первопроходец. И никакой возможности повидаться. Поезд в европейскую часть страны влачится неделю. Как во времена поэта Аполлинера. Билет в один конец стоит как вся зарплата.
Дима ходил на вокзал наблюдать отправление поезда просто так, от нечего делать в выходной день. Люди на перроне плакали и целовались. Оркестр играл бодро-пьяный марш. Начальник поезда в мундире и белых перчатках важно стоял на балкончике паровоза. Начальник станции, тоже в форме, лично давал сигнал к отправлению. Это напоминало парад, по окончании которого идешь домой, думая о том, что вот есть же настоящая жизнь, но она почему-то всегда уезжает от тебя под веселую музыку.
Но что делать? Кому жаловаться? И главное, на что? Утром, продрав глаза под храп соседа, Дима рассматривал паутину, висящую на черном от копоти потолке. Испокон века здесь освещались керосином. Электричество было фантастикой, как сливочное масло. Паутина была нежилой, без хозяина. Густая и серая, с оборванными нитями, она колыхалась в сумерках, как борода легендарного лодочника, построившего этот дом. Местная легенда гласила, что лодочник был серийным убийцей, загубившим десятки своих клиентов ради их кошельков. На середине реки раскачивал лодку и резким движением вываливал пассажира за борт. Протягивал тонущему, якобы для спасения, весло, нарочно смазанное рыбьим жиром. Плавучий театр одного Харона, продуманный до мелочей. Никто не подозревал злого умысла. «Драма на переправе», – иногда сообщала местная пресса в рубрике «Происшествия». Даже проницательный Чехов, чуть не ставший жертвой душегуба в начале мая 1890 года, ничего не заподозрил. В тот день лодочник маленько не учел речного волнения и сам опрокинулся вместе с писателем.
Оба спаслись. Антон Павлович возненавидел Томск. Лодочник, испытав смертный ужас, начал задумываться о неисповедимости путей господних. Постепенно раскаялся, к концу XIX века, бросил топить путешественников, а затем пожертвовал награбленное приюту для сирых и убогих, которые и сочинили, неблагодарные засранцы, готическую байку, гуляющую, как сквозняк, по лестницам и коридорам. Ради красного словца убогие никого не жалеют. Но вот этим конкретно фольклором они испортили себе карму. Пришла советская власть, не признающая буржуазной филантропии, разогнала обитателей богадельни и устроила общежитие пролетариата.
Представляя Чехова с лодочником в ледяной первомайской реке, Дима размышлял о том, что крыша над головой важнее искусства. Утони тогда лодочник – и неизвестно, где бы сейчас кантовался молодой специалист. Без «Чайки» и «Вишневого сада» жить можно.
В одиночестве лезет на ум странное. Нездоровые мысли бродят в голове одинокого человека, как пациенты по коридорам дурдома. Лежа на спине, Дима смотрел в паутину и думал, какая жалость, что Галя испытывает неприязнь к столичной жизни. Чувство страха, маскируемое чувством юмора, мол, не имею большого интереса к Большому театру.
Он уважал в своей жене всё, даже непонятное. Но сам по себе предпочел бы Москву. Там хотя бы есть тротуары. А в Большой ходить не обязательно. Однако штука в том, что он давно уже не сам и не по себе. Поэтому мается сейчас один в Сибири и готов терпеть, сколько понадобится, лишь бы получить жилье.
Однако в очереди на квартиру стоял весь завод и лично главный инженер. У молодого специалиста мысли о будущем были как щи – кислые. Жрать тем временем нечего. Отправляя ползарплаты в Иваново, Дима сидел на картошке с крупой и не отказывался только от курева. Из Иванова в ответ приходило унылое:
«Милый Димуська!
Не могу понять, почему ты молчишь? Уж не хвораешь ли ты? Я в очень плохом положении. Со среды пошла третья неделя, как я хвораю. Сил никаких нет. Лежу одна, как собачонка. Спасибо Нюре с Андреем, а то бы подохла. МВ ни разу не зашла в комнату, Виктора попросила сходить в аптеку. Он больше не приходил и лекарства не принес. Очень плохо с сердцем. Не поправляюсь потому, что голодная. Есть ничего не могу, а что съем – сейчас же вырвет. Мне уж все равно, только бы не мучиться. Мне предлагают по состоянию здоровья получить инвалидность. Завтра нужно идти во ВТЭК, но я, наверно, не пойду.
Деньги получила, спасибо. У тебя, конечно, на уме 100 упреков, но мне все равно. У меня грязь в комнате, пол не метен две недели, посуда грязная, лежу хуже собаки. Вижу, что никому не нужна. Ребенок заброшен. Что ест – не знаю. В голове все путается. Вот и всё. Я даже перестала ждать твоих писем. Ты ведь злой и несправедливый. Не пиши. Если мать бросила, то про тебя что говорить. Будь здоров и счастлив. Целую крепко. Галя».
После прочтения тоска наваливалась, как подушка, и ноги отказывались идти на вокзал. Было страшно заплакать под музыку среди толпы. Чужие люди, а все равно неудобно.
Занимающий в комнате вторую койку пожилой – сорокалетний – Михалыч успокаивал:
– Сибирь, сука, вредная. Слезы и неволя.
Он вкалывал на заводе грузчиком. До этого воевал, до войны сидел. Такая биография в Советском Союзе тиражировалась миллионами экземпляров. Михалыч не любил вспоминать прошлого, не мечтал о будущем, он кайфовал в текущем моменте. По выходным жарил на примусе вымя и лакомился разливным пивком. Приглашал Диму разделить с ним трапезу. Дима вежливо отказывался. Во-первых, нечем ответить. А главное, ужасный вкус. Вымя – говно, пиво – моча. Михалыч не обижался. Сочувствовал заброшенному в стесненные обстоятельства. А что? Каждый имеет право считать свою жизнь трудной. Особенно если с детства сидел на хорошем месте у окошка или на пляже с газеткой, не зная горя. Во время войны летал, как бабочка, по воздуху. Кнопку тык, бомбу хлобысь – и ауфвидерзеен! Не война, а танцы в доме культуры.
Только одна вещь из жизненного багажа соседа возбуждала в Михалыче интерес. Море, которое Дима видел своими глазами.
– Какое оно? – допытывался Михалыч. – Правда, что ли, без берегов? Совсем черное? А в Белом вода как молоко, что ли? Не верю!
Сибиряк по природе нигилист, ни во что не верит, но с удовольствием интервьюирует пришельцев. Слушает в охотку, так что у рассказчика язык распускается, как цветок. Перед лицом Михалыча Дима чувствовал себя морским волком. Брехал от всей души, перелистывая соленые волны, как страницы завиральных средневековых атласов. Бессовестно населил Черное море китами, в которых лично бросал гарпун. Хвастал знакомством с аргонавтами. Добавил пиратов под веселым роджером. Куда без них? Сосед наслаждался. Вымя, море. Что еще нужно рабочему человеку?
– Сеанс! – жмурился он, блаженно облизывая ложку.
С ним было хорошо. Жаль, что его арестовали, когда на заводе случился пожар и следователю приглянулась биография И.М.Петрова, судимого в тридцать седьмом по пятьдесят восьмой. Михалыч тогда строил оперный театр в Новосибирске и торжественно обещал закончить к двадцатой годовщине Великого Октября. Но вредная японская разведка любой ценой старалась испортить нам праздник. С этой целью она вербовала изменников. Рихард Зорге предупреждал из Токио: Михалыч – вредитель, ему прислали чемодан золота для осуществления саботажа через подкуп и спаивание строительных бригад. В новосибирском НКВД трудились романтики с богатым воображением. Разве что художественного вкуса им не хватало самую малость. Иван Петров с чемоданом самурайского золота – придет же такое в голову! Умный Михалыч не подписал бредятины, которую они сочинили. Отрицалово спасло ему жизнь. Остальных японских шпионов пустили в расход, а этот сохранил себя для новых процессов. После войны томское следствие было страшно признательно грузчику за его довоенное упрямство. Дело ему оформили без проволочек и в лучшем виде. Михалыч пошел на второй срок.
Жаль, конечно. Зато освободилась койка. В профкоме намекнули: если Дима подаст на нее заявление, как семейный, то его рассмотрят. Он написал заявление и неожиданно получил добро.
Теперь он глядел на потолок не в романтической хандре, а по-хозяйски, замышляя побелку. Мерил шагами комнату, прикидывая, сколько осталось времени до приезда жены с ребенком и как сделать ремонт на медные деньги. Пол, стены, потолок – все было в убитом состоянии. Но всего сразу не исправишь. Бедному человеку приходится думать только о главном.
«С Новым годом,
С новым счастьем!
Наш хороший мир цветущий!
Здравствуй, радость!
Юность, здравствуй!
Здравствуй, светлый мир грядущий!»
Главное похоже на слона, которого щупают слепые историки. Бывает, что им почти удается объять необъятное. Но зачем? Вот в чем вопрос. Помните того самодура из Древнего мира, который заказал своим бородатым мудрецам написать для него полный курс всемирной истории? С налогами в его государстве был полный порядок, вот он и чудил, не считая казны. Переглянувшись, обрадованные мудрецы попросили грант на десять лет.
По истечении срока к парадному входу во дворец прибыл караван верблюдов, груженных сундуками с пергаментами (страшно подумать, какой был бюджет у проекта), на которых излагалась история всех народов, когда-либо населявших землю. Прикинув, сколько лет уйдет на чтение эпопеи, заказчик впал в ярость. Стал орать и топать ногами, как человек, сам не знающий, чего он хочет.
– Господин желает более короткую версию? – уточнили мудрецы, когда правитель устал и присосался к кувшину с розовой водой.
– Да, идиоты! Мне нужен дайджест вашей долбаной кладези премудрости.
– Через три года будет готово.
Три года спустя мудрецы подогнали ко дворцу вереницу осликов.
– Что это?! – простонал заказчик.
– Краткий курс. Меньше невозможно-с.
Самодур скрипнул зубами:
– Слушайте сюда. Вы очень сильно рискуете. Я испытываю огромное желание скормить вас крокодилам, но удержусь и дам вашей редколлегии последний шанс. Напишите мне только главное. Самое главное!
С перепугу мудрецы заговорили по-немецки:
– Аллес кляр, мой фюрер! Кардиналпункт! Вы получите его завтра.
Было бы весело, если бы утром они приехали на собаках. Но мудрецы, чувствуя сгустившиеся над головой тучи, решили обойтись без спецэффектов. Явились пешком, одетые скромно, с маленьким сундучком, который, поклонившись, вручили своему капризному господину. Тот вставил в замочную скважину золотой ключик, не без трепета открыл сундучок и увидел пергамент с единственной фразой: «Они рождались, жили и умирали».
Вот и я думаю, что еще тут скажешь? Так всё и было. Причем много раз. Добавить практически нечего. Разве только один маленький флешбек.
На берегу Уводи, в лесопарковой зоне предвоенного Иванова, Галя (17) и Дима (19) блуждают темными аллеями после заседания драмкружка. В тот вечер репетировали «Грозу» – пьесу об электрификации всей страны и самоубийстве Надежды Аллилуевой. Галя играет луч света в темном царстве. Она старается быть роковой, как Джин Харлоу. На голове у нее кудряшки, и ложка касторки выпита для томности взгляда. Взволнованный Дима курит двадцатую папиросу, предвкушая небесное блаженство:
– Почему люди не летают? – спрашивает Галя.
В ответ он так подробно описывает два учебных полета на «этажерке», что становится ясно – любовного опыта у него примерно вдвое меньше, чем авиационного. Это приятный сюрприз, но плохая новость. Смелой атаки ждать не придется. До конца его увольнительной осталась всего одна ночь. После восхода солнца он дунет в свою часть и пропадет с радаров на две недели.
– Вы такой приземленный. Хоть и летчик, – смеется Галя. – А я говорю о мечте. У вас есть мечта?
Эту подачу юный воздухоплаватель тоже пропускает. Что-то несет об архитектурном институте, куда он вернется после армии, окончит с красным дипломом, распределится на Украину, будет строить дома в Киеве, Одессе, Полтаве. Галя вздыхает – какой зеленый!
Они плутают в ненавистном лабиринте невинности, по расходящимся тропкам наводящих вопросов, которые уводят в самую чащу девственного леса, где все дозволено. Однако зануда и там заливается соловьем, излагая свою биографию так подробно, как будто ему не девятнадцать, а девяносто. После войны он переменится, будет скупо дозировать воспоминания, и Галя еще пожалеет о неповторимости той ночи, когда она злилась, чувствуя, как бездарно уходит время. Интуиция девушки работает лучше советского Информбюро и подсказывает, что на свидании в августе тридцать девятого нельзя терять ни минуты. Топнув ногой, Галя прерывает пустую беседу:
– Вы что? Не понимаете?!
– Я знаю, что сказать, но у меня нет слов, – лепечет Дима.
– Тогда я тебя укушу, противный мальчишка!
И сразу все стало хорошо. Она его укусила. Он поцеловал ее в порядке самозащиты.
Это случилось в тот самый вечер, когда по коридорам Кремля, по кулуарам власти, два молодцеватых сотрудника несли два экземпляра секретного документа в двух папках, зажатых под мышкой… Вот тут я начинаю сомневаться. У них что, была одна подмышка на двоих? Нонсенс. Не брали на работу в правительство сиамских близнецов. С некоторых пор туда неохотно брали даже евреев. В любом случае «под мышками» звучит комично, да? Такой документ! Конец Европы – и «под мышками».
Лучше избежать анатомических подробностей. Скажем просто: «несли». Два подтянутых орла несемитской внешности несли на подпись товарищу Молотову и его коллеге Риббентропу будущее Европы… Ну вот, опять! К чему эта рифма: Европа – Риббентропа? Что за кафешантан? Стишками пусть бредят влюбленные! В Кремле занимались серьезным делом. В тот вечер Молотов и Риббентроп готовились к зачатию нового орднунга. Без любви. Мировую войну можно делать только без любви. После пакта они обменялись поцелуем, но фотографии не сохранились для истории. На лицах министров проступило такое отвращение друг к другу, что велено было изъять и уничтожить негативы.
Именно поэтому бытует мнение, что Риббентроп даже не поцеловал Молотова. Но мы-то знаем, что они сделали это по-быстрому – товарищ и господин, нацист с коммунистом, ариец и славянин, аристократ и пролетарий. Мезальянс, с какой стороны ни посмотри. Они и сами это прекрасно видели. Поэтому изображали, что ничего не было. Пытались утопить в крови свое чадо. Но ублюдки живучи. Пакт заявил о себе на весь мир. А его родители… Что сказать? Все у них пошло наперекосяк. Риббентроп отравился. Молотова сослали в Монголию. Жалкая история неудачников. Но ведь это из-за них история Гали и Димы подвисла на целых шесть лет. Буквально повисла в воздухе.
Отложенная и чуть было не похороненная среди бестолковых разлук и нелепых метаний в пространстве военного времени, история состоялась, хотя, наверное, и не в лучшем из возможных миров, поскольку началась с дизентерии. Да, вот это будет честно, по-настоящему. Именно так.
По-настоящему история молодой семьи начинается с дизентерии, эпидемия которой охватила Иваново победной зимой 1945 года. Зараза скрывалась в хлебе, сыром и тяжелом, про который говорили, что туда подмешивают землю взамен украденной на хлебозаводе муки. Всю войну в городе ели черный хлеб, о белом мечтали, как о луне. Думали – привыкли, но то, что появилось в магазинах победной зимой, было чернее земли и безлунной ночи.
Продавцы надевали варежки, выдавая хлеб населению. Грязь стекала из-под ножа, когда резали хлебный кирпич. Есть это было страшно – во рту оставались частицы почвы, глина, ил. Детям говорили: вымой руки с мылом, ты брал хлеб. У всех, кто прикасался к хлебу голыми руками, чернели пальцы. Таких насчитывалось все больше, особенно в инфекционной больнице. Городская молва без труда связывала причины и следствия: хлеб – черные пальцы – дизентерия. Разговоры в очередях и на кухнях скоро достигли критической массы общественного мнения с оттенком паники:
– Травят нас! Фашисты! Враги народа!
– Ночью в трамваях вывозят трупы, спускают в Уводь под лед.
– Земля у нас больная, здоровую мы бы ели – и ничего. У египтян был хлеб с песком, они ели – и ничего.
– Представляете, сколько заразы оттает весной?!
Обывательские разговоры вынудили газету «Рабочий край» откликнуться фельетоном «Ивановские негры». «Шибко умные граждане, – говорилось в фельетоне, – треплют по очередям, что от хлеба становятся черными пальцы. Им бы лучше руки помыть, этим гражданам, и подумать о том, почему африканские негры, никогда не бывавшие в Иванове, имеют черные руки и все остальное? Ответ известен – от природы. И „хлебные разговорчики“ известно, откуда берутся, их распространяют враги советской власти, чтобы запугать темное население, ивановских негров, которые в своей дремучести еще чернее настоящих африканцев».
Наш современник, интернетзависимый хомячок, повизгивая от удовольствия, запостил бы эту расистскую хрень у себя Вконтакте. Ивановский читатель в марте сорок пятого года совершил аналогичное действие, повесив газету на сортирный гвоздик.
Дизентерия, как и было сказано, стояла у истоков. Температура за сорок и другие симптомы, не похожие на фонтаны рая, сопровождали Галину в госпиталь. К неудовольствию врачей, она была на восьмом месяце беременности, совершенно нежелательной с точки зрения инфекциониста. Поэтому Гале сделали кесарево. Кажется, никто не рассматривал эту операцию как роды. Врачи просто избавили организм молодой женщины от лишней нагрузки. Чисто технически. Выживет – новых нарожает. Медицинские учреждения военного времени получили карт-бланш на детскую смертность.
Младенец, однако, умирать не хотел. Во всяком случае, не хотел умирать тихо. Он выплевывал воду и орал, требуя молока, которого не было ни у матери, ни вообще в городе. Все удивлялись тому, как живуч этот недоношенный, питающийся святым духом и сжимающий кулачки при виде чужих. Когда не спал и не плакал, то глядел из своего кулька внимательно, словно запоминал лица.
Мария Васильевна, превратившаяся в бабу Маню после рождения внука, очень переживала, что ребенок начал жизнь не с того конца, как бы с последних песчинок, утекающих у нее на глазах. Для спасения этой внезапно появившейся жизни (родов ждали в мае) баба Маня решила поступиться принципами.
Она дала взятку главному врачу, чтобы тот подмахнул справку о выздоровлении Галины. Взятка была осознанной необходимостью, иначе молодую мать не отпустили бы домой. Действовало негласное распоряжение о принудительной госпитализации больных дизентерией. Со справкой жить стало лучше. Точнее, появился шанс, что младенец хотя бы не замерзнет насмерть. Потому что заразный барак в госпитале не отапливался. Вряд ли это делалось нарочно, скорее всего, топить было действительно нечем, но злые языки все равно шептали, что эпидемию просто-напросто вымораживают.
Дома хранился золотой запас дров и меда. Баба Маня с ног до головы намазывала внука сладким и держала у печки в шерстяном одеяле.
Зятю она сообщила о рождении ребенка только через две недели, после того, как записала мальчика в книгу жизни районного загса. В письме на фронт нет ни слова поздравления:
«Не писала Вам потому, что не было еще уверенности в исходе, и я считала, что тревожить Вас не стоило, т. к. ничем помочь Вы не могли, а расстроившись, много бы пережили без всякой пользы. Сына Вашего я назвала, как Вы с Галей и планировали, – Виктором».
У них были высокие отношения. На Вы с заглавной буквы и ничего, кроме фактов. Они состояли в переписке с начала войны, когда еще никто не знал, насколько все серьезно у Гали и Димы. Он обсуждал с будущей тещей настроения своей будущей жены, если та ему не писала, мурыжила молчанием или отвечала «может быть» на щенячий вопрос «любишь ли ты меня так же сильно, как я тебя?». Летом сорок второго, измученный уклончивостью Гали, он попросил Марию Васильевну, коммуниста ленинского призыва, о рекомендации в кандидаты в члены партии. Звучит двусмысленно, я понимаю, но летчику было не до смеха. Он отправил Марии Васильевне служебную характеристику, чтобы «дополнить Ваши представления обо мне как работнике в настоящее время». Отзывчивая МВ рекомендовала Диму в кандидаты. Другую его просьбу из того же письма – поговорить с Галей о ее поведении – она игнорировала. Просто в силу жизненного опыта.
Известие о появлении новой жизни нашло адресата в Восточной Пруссии. В первых числах апреля он летал над Кёнигсбергом, закидывая город погремушками. Так летчики называли между собой оружие устрашения, изготовленное по древнему скифскому образцу. Бочки из-под керосина дырявили ломом и наполняли, для грохота, обломками кирпича. Сброшенные с высоты 500-1000 метров, погремушки летели к земле, издавая дикие звуки, которые приводили осажденных в отчаянье. После войны кирпичи, упавшие в немецкую почву, проросли типовыми советскими жилищами. Так появился Калининград.
Советское командование выдавало эту воздушную операцию за военную хитрость и даже за гуманизм по отношению к могиле Канта, но я подозреваю, что все объясняется проще: не подвезли боеприпасы. Это было очередное голь на выдумки хитра, философия нищеты: если чего-то нет, мы берем что-то другое, и, даже когда нет ничего, мы все равно находим замену. Кант бы не понял.
Дмитрию очень нравилась идея потешного бомбометания. Годы спустя он будет озвучивать кёнигсбергский эпизод на школьных утренниках, посвященных Дню победы. История отлично подходит для утренников: все остались живы, фашисты наложили в штаны – есть над чем посмеяться.
Наверное, эту скифскую байку сочинил какой-нибудь поэт-фронтовик, откосивший от окопов в штабе 3-го Белорусского фронта. Сказка – ложь, но, во-первых, детям нельзя рассказывать правду о войне, а главное, Дмитрий сам хотел верить, что он никого не убил в апреле сорок пятого, когда пришла новость о рождении сына.
Однополчане поздравили молодого отца. Сдвинули кружки с ликером «Три косточки». Так летчики называли антифриз, тайком сливаемый из крыла самолета через фильтр противогаза. Ликер бил по мозгам, как кувалда, вызывая веселые судороги и галлюцинации. Кто заглатывал целый стакан, падал на пол и извивался как змей. Очнувшись, рассказывал о полетах в кромешном мраке, где светящиеся нагие ведьмы раздвигают ноги до горизонта и разваливаются каждая на две половины, которые становятся новыми ведьмами, и так до бесконечности, словно в кетаминовом калейдоскопе.
Дмитрий прикладывался к «Трем косточкам» осторожно. Он не любил пить, потому что не хотел раньше времени заглядывать в мрак кромешный. Ему и здесь было хорошо.
Вот только новости из Иванова приходили чем дальше, тем тревожнее:
«Пишу Вам в страшном горе, наш милый мальчик жить не будет, так приговорили врачи. Уж лучше бы он умер при рождении, а теперь мы так привязались к нему. У него диспепсия, т. е. желудочек так неразвит, что не вырабатывает нужных для переваривания пищи соков, все, что он получает, он выбрасывает обратно. А как он кричит, боже, как он кричит. Вчера все-таки положили его в больницу. Галя, конечно, легла вместе с ним. Дома мы держали его, как котеночка, в тепле. А в больнице все холодное. Почти ночью сшила я ему белое тепленькое одеяльце, унесла в больницу. Врач (наша приятельница, которая лечила еще маленькую Галю) сказала, что может ему помочь 10 – процентный раствор виноградного сока. Весь день бегала в поисках его. И вот наконец Начпрод одного госпиталя дал мне его 200 гр. Раствор этот надо вводить в кровь, т. к. желудок все равно вырвет. А какой это мальчик! Как он по ночам любил смотреть на огонек в печи! Красивее его нет на свете. Неужели мне суждено потерять второго Витю? Господи, я даже молюсь, чтобы он остался жив!»
Откровенное признание в конце письма дорогого стоит. Мария Васильевна начала испытывать к Диме родственные чувства. Молитва была для нее еще большим позором, чем взятка. Это сейчас кажется нормальным – подмазывать на всех уровнях бытия, а тогда люди стеснялись, особенно коммунисты ленинского призыва.
Но каковы врачи! Приговорить к смерти невинного младенца, будущего профессора органической химии, открывателя новых молекул, изобретателя веществ, деда нескольких внуков, моего отца. В сорок пятом врачи сказали, что ничего этого не будет: ни молекул, ни внуков. Не старайтесь, Мария Васильевна. Бесполезно! Забудьте! Передайте дочери, чтобы рожала новых. А этого спишем в расход по законам медицины военного времени. По спартанским законам. Будь у нас, в Иванове, скала, мы бы бросили его в бездну забвения. Но скалы нет, поэтому вы сами бросьте эту пустую возню. Мы вам советуем по-хорошему, как врачи, как специалисты, мы тоже люди, много работаем, мало получаем, очень устаем. Всё понимаем, но ничего не можем сделать. Даже не вставая со стула, видим, что сопротивление бесполезно. Это античный рок, Немезида, по-нашему судьба, бог дал, бог взял. Куда вы пошли, Мария Васильевна, с этим недоношенным нежильцом? Не сходите с ума! Будьте разумны!
Но любовь неразумна. Она все терпит и никого не слушает. Тем и сильна, потому и побеждает режимы.
Мария Васильевна считала молитву и ерзание перед иконами убийством человеческого достоинства. Этой позиции она держалась задолго до вступления в партию, еще в учительской семинарии, которую окончила с отличием по всем предметам, в том числе и по Закону божьему.
На выпускное торжество прибыл князь Голицын, попечитель учебного округа, манифестация власти в черном сюртуке. Состоялся торжественный молебен. Выйдя из церкви, выпускницы сфотографировались с князем на память. Немного отдохнули и снова помолились перед накрытым столом в обеденной зале. Голицын поднимал тост «за процветание народного образования», острые щеточки его усов забавно шевелились.
– На жука похож! – шепнула Мария подруге, которая сочла ее слова дерзкими. Семинаристкам нравились князь и скучная атмосфера школьного праздника. Они как чувствовали, что все это скоро исчезнет.
Стояло лето 1916 года. Брусилов колотил австрийцев в далекой Галиции. Распутин, как цирковой силач, держал на плечах трон самодержца и стульчик наследника. Холодная блистала в фильме «Жизнь за жизнь». Полонский блистал, и Рунич тоже. Девушки бегали в кино по воскресеньям. В дневниках, которые они вели до потери невинности, а потом сожгли в буржуйках военного коммунизма, нет ничего личного, только страдания о них – Полонском и Руниче, блистающих в свете Холодной.
Кинозвезды затмевали надоевшую войну, забастовку железнодорожников, перебои с хлебом, отравленные пирожные княгини Юсуповой, падёж двуглавых орлов с крыш правительственных зданий, бунт крокодилов в Петрограде, заглотивших полицию со всей амуницией. Чуковскому понадобилось много опиума, чтобы скрыть ужасную правду в разбитной басне.
После Нового года ходили слухи: власть в столице захвачена ничевоками, о которых ничего не известно. Говорили, что Герберт Уэллс привез Ленину машину времени, и они укатили в будущее, прихватив с собой изрядный кусок империи.
Но это всё в столице, а провинция жила по старым календарям, не чувствуя истинного масштаба бедствий, возмущаясь только мелочами: переводом часов или новшествами в еде. Страшно раздражала овсянка, внедряемая англичанами, которые сначала были союзники, а потом стали интервенты.
– И-го-го! – кричали молодые люди, завидев на улице барышень.
– Что это вы ржете как лошадь? – хихикали барышни.
– Так ведь овес кушаем-с!
Приходили разные спасители России. Имели провинцию во все дыры, подвергая террору и контрибуции. Испуганные обыватели отсиживались в кинематографе, первом концлагере иллюзий. Молодежь оттуда вообще не вылезала, волнуясь только слухами о гибели Холодной.
– Умерла от тифа!
– Умерла от взрыва!
– Умерла от любви!
– Не может быть!
Девушки рыдали, целуя открытки с божественной Верой, потом бежали в кино, чтобы очнуться от кошмара действительности и убедиться в том, что Она никогда-никогда не покинет нас.
Мария, прогрессивная учительница, читатель газет, запрещала себе любить эту пошлость, но ее воля фатально слабела перед афишной тумбой, кричащей о новой картине. В пошлости таилась свобода таять от любви, заламывать руки и стреляться из браунинга. Нервные люди убивали себя после каждой премьеры. Сейчас бы это назвали пропагандой суицида. А тогда пистолетами соблазнительно торговали в скобяных лавках и магазинах писчих товаров. Пистолет и письмо, если разобраться, похожие способы коммуникации. Кто будет писать самому себе? Только самоубийца.
Великий немой участвовал в жатве смерти Гражданской войны. Его доля была значительно меньше, чем у голосистого Троцкого, но вполне на уровне косноязычного Махно.
Глядя на экран, Мария чувствовала желание совершить финальную глупость, как будто в проекторе крутилась не кинопленка, а древний змей-искуситель. Висок холодел, когда герой очередной драмы картинно расставался с жизнью.
– Вы не хотите застрелиться? – спрашивала Мария у своего спутника, терпеливо убивавшего с ней вечера в кинематографе.
– Лучше бы на вас жениться, – отвечал он в рифму, с улыбкой.
Спутник носил приятное имя Алексей, гордую фамилию Орлов и блестящую от бритья голову. О нем почти ничего не известно. Кроме того, что в детстве он отлично бегал. Когда мальчика Алешу отвозили в школу, расположенную за восемь верст от усадьбы Орловых, он дожидался исчезновения коляски за поворотом и во все лопатки мчался домой, опережая экипаж благодаря знанию лесных сократов. Суеверный кучер шептал кухарке, что барчук, наверное, перекидывается зайцем. Тьфу на него, нечистая сила! Потому что как такое возможно? Отвезешь его, возвращаешься, а он уже на крыльце господского дома ласкает любимых собак.
Осенью семнадцатого года кучер возглавлял коллектив поджигателей, спаливших усадьбу вместе с хозяевами. Эмансипированные крестьяне сделали это на рассвете, облив стены дома керосином и подперев двери, чтобы никто не мог выбраться наружу. Но Алексей, похоже, обернулся орлом и улетел из огня, потому что весной восемнадцатого был жив-здоров, улыбчив, весел, напевал приятным голосом модные песенки и легко соблазнил прогрессивную учительницу. У Марии настолько съехала крыша от его обаяния, что она позволяла целовать себя прямо на улице. Хорошо еще, что фонари не горели.
Они прожили вместе десять лет, родив сначала Виктора, материнское сокровище, смуглый бриллиант, а потом Галю, его скромную оправу.
Время Марии бежало, как муравей по тарелке. Из учителя она выросла в директора школы. Получала партминимум, выступала на партконференциях, боролась с правым и левым уклонами в преподавании истории. Не спрашивайте, что означают эти слова.
По причине вечной занятости педагоги не успевают воспитывать своих детей, которые вырастают раньше, чем их родители заканчивают проверять чужие тетради. Воспитанием я называю передачу жизненной силы, а не прописных истин. Этот канал у педагогов засорен на работе, поэтому лучшие из них в лучшем случае снисходительны к собственным чадам:
Далёко-далёко, на озере Чад,
Гумилев и Ахматова жарят крольчат… —
бывало, пошутит хороший учитель и потреплет родное чадо по голове, мол, всё что могу.
Но такая отрешенность возможна только в мирное время, когда абсурд и абсент спасают от повседневности, а не на стыке эпох, где распадается связь времен, кругом ревущие двадцатые, педагоги пишут поэмы, угрожая наганом ближним своим, которые мешают их труду.
Мария Васильевна, насколько мне известно, ничего не писала, но наганом владела – коммунисты ленинского призыва все имели оружие на тот случай, если партия в одну прекрасную ночь прикажет перечпокать беспартийных.
Когда Виктор по утрам открывал свои зеленые глаза, он сразу тянулся к матери и ее нагану. У них была такая крепкая связь. Мария Васильевна не ставила Витюшу в пример Галочке. Само собой разумелось, что сын – идеал, которого дочери не достичь.
В детстве Виктора Первого дразнили Цыганенком – за смоляные кудри и смуглое лицо. Болтали, что осенней ночью восемнадцатого года младенца потерял табор, уходивший в небо по Конспиративной улице. Или, может быть, по улице Боевиков? Не исключено. Цыгане уходили в небо разными путями. Свободный человек доверяет выбор дороги своей левой ноге.
Цыганская версия, конечно, чушь бредовая. Просто мальчик выделялся на фоне бледнолицых отпрысков рабочего класса. Вот они и дразнились, завидуя его глазам-изумрудам.
В шестнадцать лет Виктор Первый прогуливался по району в папахе набекрень, с семистрункой через плечо, разбивая девичьи сердца на четных и нечетных сторонах улиц. Играл он так себе, три-четыре аккорда, зато гитара была ему органична, словно улыбка Джоконде, которую Виктор с детства умел нарисовать за несколько минут.
Талант копирования проявился в мальчике необычно рано, он с такой скоростью выводил карандашом длинные уверенные линии, что рождение рисунка казалось наблюдателю чудом.
Его коронной фишкой было рисование вслепую. Рассмотрев оригинал, неважно что – портрет, живое лицо человека или чучело дикобраза, Виктор закрывал глаза и создавал на бумаге копию, которой могли гордиться и человек, и дикобраз. Разумеется, каждый второй советовал ему рисовать деньги. Виктор смеялся и в два счета набрасывал червонец, заменяя профиль Ленина изображением податчика этой светлой идеи. Все, к чему он прикасался, обращалось в шутку, но не злую и обидную, как было принято в то время, а легкую и бодрую, как ай-нэ-нэ.
Однако, при наружном раздолбайстве, Виктор задумывался о том, чтобы использовать свой талант для карьеры, например, стать главным художником Монетного двора. После школы он отправился в Ленинград учиться промышленному дизайну. Семейная легенда гласит, что на вступительном экзамене Виктор устроил перформанс слепого рисования и сорвал аплодисменты приемной комиссии.
– Плюньте на дизайн, юноша! – якобы воскликнули экзаменаторы. – Займитесь нетленкой! Вы можете отображать действительность в ее революционном развитии!
Но юноша отказался, заявив, что нетленка требует фантазии, которой он лишен, да и бог с ней, потому что ему достаточно ловкости рук. В этих словах звучала цыганская мудрость: искусство должно быть прикладным. К чему морочить себе голову творческими поисками? Гораздо лучше морочить окружающих, создавая волшебные иллюзии.
Сдав экзамены, Виктор поселился в Ленинграде, на берегу Невы, в общежитии, куда девушки являлись по вечерам для снятия с себя точных копий. Он делал их с удовольствием и в большом количестве, обожая девушек за то, что они, как вино, всегда дают нужный эффект. На искусство он принципиально чихал. Девушки и вино отвечали ему доступностью. Искусство, закованное в кандалы соцреализма, влачило тогда жалкое существование.
По всему выходило, что парень должен быть в шоколаде с его легкой рукой и жгучим обаянием, но вмешалась политика. Ангел истории широко открытыми от ужаса глазами наблюдал тайное венчание Молотова и Риббентропа. Хитрый Сталин получил в приданое Финляндию. Виктору дали задание отработать этот калым.
Его призвали в Воздушные силы, научили крутить штурвал фанерного биплана с пулеметом и отправили на фронт, где командование полюбило новобранца как родного. Виктора любили везде, но тут была особая причина. Он срисовывал неприятельские позиции лучше всякой аэрофотосъемки. Причем делал это буквально на лету, в продуваемой ветрами кабине, при температуре минус тридцать.
Экстремальные условия работы летающий рисовальщик воспринимал как вызов. Ему хотелось знать, можно ли химичить карандашом на морозе, под свист ветра, когда самолет делает вираж и хвост дымится, прошитый выстрелом из зенитки. Оказалось – можно. Виктор остался доволен новым опытом. Командование осталось довольно Виктором. Даже финны, чьего мнения никто не спрашивал, остались довольны результатами Зимней войны.
«Ньет, ньет, Молотофф!» – распевали финны, поедая не доставшееся красноармейцам мороженое.
Конечно, история могла бы повернуться к нам другим боком, если бы Виктор, отложив карандаш, начал строчить по врагам из пулемета, как призывала Клавдия Шульженко. Нам ведь самую малость не хватило пороху, чтобы сломить упрямых чухонцев. В этом случае Хельсинки был бы наш и Гитлер не выдумал бы план «Барбаросса», незначительным эпизодом которого стал воздушный бой в небе над Смоленском осенью сорок первого года.
Война – это когда из твоей квартиры исчезают люди. Но ты спокойно относишься к этому факту. Потому что в других квартирах происходит то же самое. Люди исчезают по всему городу. Можно сказать, что у тебя все как у людей.
Ты живешь в тылу. Выстрелов здесь не слышно. Тебе на голову не падает огненный дождь и железный град. Война – это только слово, объясняющее исчезновение людей из квартир и конфет из магазинов. Твой город находится далеко от линии фронта, которую ты не можешь увидеть своими глазами. Линия фронта, в отличие от линии горизонта, существует только в воображении. Конечно, ты ходишь в кино, где показывают разрушенные мосты, горящие дома, кресты самолетов в небе, розы взрывов на земле. Но ты ведь и раньше видела такое в кино. До войны. До того, как из твоего дома начали исчезать люди. С некоторыми из них ты бывала в детстве на утренних сеансах, а потом на вечерних фильмах про любовь и героев, умирающих за красивые глаза блондинок. Ты мечтала стать блондинкой, которая вдохновляет мужчин на подвиги. А те, кто сидел в зале рядом с тобой и тискал в темноте твою руку, они мечтали стать героями. Ваши мечты сбылись. Ты покрасила волосы, учишься в институте и сдаешь экзамен по античной литературе. Тебе объяснили, что герои всегда исчезают. Ты чувствуешь, что живешь в героическое время. Но тебе постоянно хочется плакать.
Когда стало известно, что Виктор Первый пропал без вести, девушки заплакали по всей стране. Но сильнее всех Галя. Она плакала каждую свободную минуту и выплакала бы все глаза, если бы имела больше времени. К счастью, у нее было очень плотное расписание: учеба, танцы, чтение книг, встречи с интересными людьми. С мужчинами в форме. Их было очень много. Целая колода для марьяжного пасьянса. Некоторые вылетали на первом круге, другие ложились перед ней снова и снова. Далеко идущий поэт, галантный рыботорговец из Нормандии, офицеры и джентльмены. С ними было хорошо, но в свободное время она плакала. Сохранились ее письма с размытыми строчками в тех местах, куда падали слезы. Часть текста уничтожена слезами, как позиции неприятеля бомбами с самолета хорошего парня Димы, занимающего в сердце Гали все больше места.
Он выкупал ее своими признаниями. В ответ на ревнивый вопрос А с другой ты снова будешь изображать, что не умеешь целоваться? – отвечал обстоятельно: Я не умел целоваться до встречи с тобой. И сейчас плохо умею. Но при желании всему можно научиться. По правде говоря, я тебе этого говорить не хотел, но скажу… несколько дней, стоя на посту, я учился целовать себе руку и искал лучшего понятия. Конечно, таким способом шедевра достичь нельзя, но какой-то успех есть…
После этого мастеровитые стихи Миши звучали странно, как будто их написал покойник:
И, может быть, в песке, в размытой глине,
Захлебываясь в собственной крови,
Скажу: ребята, дайте знать Ирине —
У нас сегодня пели соловьи.
Конечно, он – большой талант, думала Галя и закрывала книгу, возвращаясь к письмам Димы, от которых в душе играл ветерок удовольствия:
…мы с тобой так много и горячо целовались вчера, что забрали у бога все тепло, и тепла не осталось для погоды. Резко стало холодно. Ты, наверное, на футбольный матч пошла легко одетой. Смотри не заболей. Ты же знаешь, что я тебе болеть не позволяю!
«Вопрос в том, кто разрешил тебе мной командовать?» – отвечала Галя. Но ей нравился его стиль. Когда мужчина превращается в письмо, сразу видно, чего он стоит. Ему бы еще вьющиеся волосы в придачу, и был бы он совсем как Витя: летчик, художник, брюнет. Они даже почти одного роста. Минус: Дима – серьезный. Плюс: никаких соперниц, посторонних девиц у него на коленях, чуть только отвернешься.
Дима и Витя. Она их постоянно сравнивала. Живой и мертвый. Тот, что в прошлом, и тот, который обещает будущее.
При этом она вовсю целовалась с другими. Не стесняясь, ходила на футбол одетой легко, и даже очень. Много танцевала, выбирая красивых офицеров, пополняющих тайную колоду. Ездила в Москву кушать с подругами мороженое в Парке культуры, у фонтана. Однажды весной, в предпоследний год войны, московская подруга, с завистью рассматривая Галины кудряшки, открыла ей свои планы на будущее:
– Вот найду себе кудрявого – и будут у меня кудрявые дети.
– А я, – ответила Галя, – сама могу родить такого.
Этот диалог вдруг показался ей странно знакомым, как будто она уже играла его в драмкружке или когда-то, сидя на облаке, подслушивала болтовню двух девиц. Фонтан замер как нарисованный. Капли воды остановились в воздухе, тысячи капель с маленькими хвостиками, устремленные вверх, к большому, горячему, круглому, дающему жизнь. На одно мгновение Галя забыла слово солнце. Но это было очень долгое мгновение. Потом налетел ветер и обрызгал ее лицо. Галя засмеялась. Пазл сложился. Дима и Витя больше не соперничали у нее в уме. Она почувствовала, что готова произвести Виктора на свет, и точно знала, кто ей для этого нужен. Остальное было делом техники.
В тот же вечер она написала Диме, что согласна выйти за него замуж. Через три месяца они поженились в Энгельсе, честь по чести, с шампанским и криками «горько», огласившими столовую авиабазы. Откуда взялось шампанское? Из Франции, конечно. От Цезаря. Узнав, что Галя сделала выбор, парень не поскупился и даже произнес что-то красивое, типа «в память о непрожитой жизни».
– Мерси боку! – поблагодарила Галя. – Ни о чем не жалей. Если к другому уходит невеста, еще неизвестно, кому повезло.
Цезарь не понял. Но за два года, проведенных в России, он привык к состоянию неопределенности.
Вторым пунктом магического плана было зачатие новой жизни. Осенью, узнав о своей беременности, Галя написала мужу «будет Витя». Ультразвука тогда еще не изобрели. Беременные обходились приметами и предчувствиями. Галя не сомневалась в том, что носит мальчика.
Это была дерзость, вроде попытки дворцового переворота. Мария Васильевна лишилась сна, ревнивые чертики прыгали в ее взгляде. Чувствуя свою растущую женскую силу, Галя наконец осознала, для чего был нужен этот растянувшийся на три года кастинг возлюбленных. Ее Витя, вернее, его дух, носился в темном пространстве бестелесности, пока она раскладывала свой пасьянс. Наконец она решилась подать ему знак. Он увидел огни аэродрома и зашел на посадку.
Такой наивный буддизм Галя практиковала до конца 1944 года, а затем пространство легким движением руки почтальона разрушило картину мира, созданную гормонами в организме будущей матери.
Будущий отец Виктора Второго утверждал, что бог хлопает в ладоши, когда хочет привлечь наше внимание. Поэтому внезапные резкие звуки полны смысла.
Утром десятого декабря Галя проснулась на рассвете от хлопка входной двери. Снег проскрипел во дворе под ногами Марии Васильевны, торопившейся на работу. Манная каша у нее опять получилась не шедевр. Соли чересчур, огонь торопливый, короче – подгорела. Это всегда приводило Галю в бешенство, но сегодня кулинарная нелепость матери показалась ей трогательной. Она с аппетитом хлебала невкусную жижу, проверяя оставшиеся с вечера тетрадки. Четвертый месяц она ведет начальные классы. Замужняя женщина в положении, настоящие хлебные карточки вместо прежних студенческих объедков.
Конечно, никогда не бываешь доволен тем, что есть, всегда хочешь чего-то большего. Сидишь и думаешь вкусную мысль: бутерброд со сливочным маслом. Вспоминаешь золотистый бублик, твердый снаружи, сдобный внутри, который дедушка привозил с ярмарки давным-давно, когда крестьяне были уважаемыми людьми. Угощая внуков, дедушка делил бублик повдоль на две идеальные половинки. Каждую щедро намасливал.
Показывал детям чудо – опасный фрукт-томат из Америки, который можно кушать только с крутыми яйцами, иначе испортишь печень. Рассказ сопровождался наглядной демонстрацией. Фрукт нарезали кружочками, перекладывая мясо томата ломтиками белка, создавая красно-белый шар, каких не бывает в природе. Галя его боялась. Смелый Витя любил ярмарочное угощение, которое называл «яйцо индейца», вызывая смех взрослых.
Живот обиженно ворчит, обманутый воспоминаниями. Внутри идет борьба двух голодных существ, ее желудка и растущего мальчика. Они там, в темноте, как будто дерутся за каждый кусок еды. Слава богу, мальчик сейчас дрыхнет в персональной ванне, защищенный от внешнего мира. Такие удобства есть только у начальства и эмбрионов. Но скоро манная каша разбудит ребенка, он взбодрится, начнет утреннюю гимнастику, будет дубасить мать изнутри.
Стучат в дверь. Галя идет открывать. Почтальон с мороза появляется в белом облаке, протягивает толстый конверт. Говорит, что не сумел запихнуть его в почтовый ящик. Что это тебе такое прислали? Топчется на пороге, желая пополнить копилку районных сплетен. Любопытный старичок. Галке сёдня отнес пакетище, а там… Размечтался удовлетворить интерес и погреться чужим теплом, собачья ведь жизнь – таскать корреспонденцию, все пишут и пишут, а что и зачем? Сами не знают. Вот ему никто не пишет, детей нет, жена в могиле, и так скучно на свете, что одна радость – чужие новости.
Галя сует почтальону гривенник. Выпроваживает: спасибо, дядя! Бежит к столу, в круге света от низко висящей лампы разрывает конверт… На стол сыплются рисунки…
Пространство сделало ей шикарный подарок, хотя и убило мечту. Где-то в Баварии американские морпехи освободили Виктора из немецкого лагеря для военных летчиков. Он провел за решеткой три года, не имея возможности сообщить о себе родным, потому что письмами через линию фронта занимался Красный Крест, о котором Сталин четко сказал – шпионская организация. И все, разговор окончен, никаких здравствуй, мама, я жив, у немцев в плену. Пленные мертвы, а мы не дикари, приносящие жертвы покойникам. Мы – атеисты и в загробную жизнь не верим.
Поэтому Виктор пережил три года лагерной голодухи, в то время как другие узники, французы и англичане, получали из дома письма, вкусные посылки, относительно свежие газеты и даже индеек на Рождество. Советский летчик хлебал баланду с эрзац-маргарином и, от нечего делать, рисовал иностранные лица за колючей проволокой, делившей лагерь на русский, французский и английский секторы. Когда в конце войны с неба начали падать американцы, педантичная администрация четвертовала территорию. Ordnung über alles.
Жизнь за колючкой воскресший описывал летящим почерком, смеясь над собой и всеми остальными. Французы – добрые, сообщал он, дают нашим затянуться через проволоку. Англичане – сволочи, курят сигары, а бычки давят каблуками, чтобы нам не досталось. Американцы лихо перебрасывают в советскую зону пачки сигарет и смеются над угрозами охранников, которые лают в точности как их овчарки. Карандашные рисунки дополняли описание.
Жаль, что письмо не сохранилось. Какой графический роман утрачен! Зато Галя в то утро насладилась сполна – читала, смеялась, рассматривая картинки, и в результате опоздала на первый урок. Директор школы, Мария Васильевна, сделала молодой учительнице выговор. Сразу после того, как обрела дар речи.
Через две недели прилетела телеграмма ЖДИТЕ ЗАВТРА. Мать и дочь с утра побежали караулить московский поезд, который мог прийти в любой момент в связи с отсутствием расписания. Поезда ждали с тревогой, ни письмо, ни телеграмма до конца не убедили их в том, что всё это происходит на самом деле и они не сошли с ума. В городе водились такие женщины, которые ходили на вокзал, как на работу, и обнимали воздух в толпе прибывших. От них шарахались, боясь подцепить несчастье.
Поезд опаздывал на три часа. Толпа на перроне шоркалась боками, как пингвинье стадо. Мороз щипал щеки, облегчая работу карманников, которые сильно удивлялись бесконечности ценных вещей у обнищавшего, казалось бы, к концу войны населения. В сотый раз оттянув рукав шубки, Галя обнаружила пропажу с запястья любимых часиков из легкого золота и расплакалась как маленькая:
– Украли время! Как теперь узнать?
Мария Васильевна ответила строго:
– Сама виновата, что украли! Не реви! Я вижу дым.
К дыму оказался приделан поезд. Виктор спрыгнул с подножки вагона одним из первых. Налегке, без медалей и трофеев, с худым рюкзаком через плечо. И сам худой как вешалка. Трудно было поверить, что под этой одеждой есть тело.
Он бежал, легко перепрыгивая через посторонних людей и их чемоданы. Ну, точно призрак. Сейчас пролетит насквозь, и никто ничего не почувствует. От страха Галя зажмурилась. В темноте услышала, как вскрикнула мать:
– Родной, это ты?!
Открыв глаза, Галя увидела, что они целуются. Руки Марии Васильевны жадно гладили спину и бока потертой шинели. Мать прижимала к груди свое обретенное сокровище и всхлипывала, задыхаясь. Объятие продолжалось неприлично долго, сосущий звук поцелуя, тяжелое сопение. Две спины, обращенные ко всему остальному миру, в котором Галя снова оказалась ненужной глупой девчонкой с пустыми руками и тяжестью в животе. Она перепутала: это не брат, а она сама – привидение, которое зимний ветер бессмысленно мотает над скользким перроном. Никто ее не видит, не замечает, люди грубо проталкиваются через нее и ужасно пахнут. Даже на морозе от них несет селедкой. Приступ тошноты накатил и заставил согнуться. Ее вырвало. Очень медленно уходила из-под ног земля. Ноги исчезали постепенно, как Чеширский кот. Вот и прекрасно, думала Галя. Сейчас пропаду. Всем будет лучше. И мне в первую очередь. Потому что на самом деле нет никакой Гали. Дурацкая выдумка. Молодая учительница. Тетрадки. Сорок четвертый год. Великая Отечественная Мировая Троянская война из-за очередного призрака. Как глупо выдумано. Какая пошлость. Седая женщина облизывает молодого человека. Седая, как смерть. На девушку она даже не смотрит. Вот, оказывается, как смерть забирает людей – не глядя. А вот и земля. Ледяная грязь. Правда жизни.
Мария Васильевна не простила дочери вокзального обморока. Она была уверена, что Галя хлопнулась нарочно, чтобы привлечь к себе внимание. Забрать у матери драгоценные секунды первой радости. Эгоистка – все себе. Вечно хнычет и хочет, чтобы вокруг нее суетились, спасая от выдуманных проблем. Мария Васильевна не могла понять, зачем бог дал ей этого ребенка с больным воображением.
Виктор подхватил сестру на лету, не позволил ей упасть, смеялся и тормошил ее, приговаривая, ты что это валишься, как елочка, дурочка? А ну-ка открывай глаза, смотри на меня, мы теперь будем вместе, войне конец, как только зима пройдет, мы поедем в Париж, к моему другу, бесстрашному воздушному асу Жану-Полю, он замечательный парень, всех приглашает в гости весной, когда Монмартр затуманен вишневым цветом.
Он много еще болтал веселого и глупого, отчего хотелось улыбаться и верить каждому слову: Париж, Монмартр, весна. Хотя вокруг было Иваново, лед и чужие чемоданы.
Кто бы мог подумать, что мечты сбудутся. Брат оказался прав. Она действительно побывала на Монмартре. Гуляла под вишнями, сидела на ступенях Сакре-Кёр. Все было настоящее, без обмана. За одним исключением. Никакой Гали Орловой там не было.
Столицу Франции в составе организованной туристической группы посетила Галина Алексеевна Филимонова, заслуженный учитель из далекого заснеженного Томска. Это произошло через много лет после того, как провалилась попытка одной девушки заколдовать мир на свой лад. Брат вернулся из небытия без ее помощи. Жизнь оказалась сильнее магии. Виктор Первый прилетел под крыло матери и остался под крылом до самой ее смерти на девяностом году жизни. Ни о каком Монетном дворе отсидевший в немецком лагере («Отсиделся!» – шипели в военкомате) не мог и мечтать. Будь хоть трижды талантливый. Спасибо, взяли чертежником в техникум. Там и проваландался до пенсии. Но, кажется, он был вполне доволен тем, что жизнь сложилась нормально, как у людей – жена, ребенок, мамочка, работа.
Лишняя Галя уехала далеко на восток, за Урал, превратившись в отдельного человека. Пространство изменило ее.
Читательница книг, она в своем Томске собрала завидную домашнюю библиотеку из трех тысяч томов. Дефицитные и подписные издания. БВЛ. ЖЗЛ. БСЭ. Собрания сочинений стояли на полках, как солдаты, в две-три шеренги. Ротный Толстой имел под командованием 54 тома. Полуротный Чехов – 30. Взводный Пушкин – 10.
В Париже Галина Алексеевна первым делом отправилась на набережную Вольтера, долго рылась в сокровищах букинистов и, убедившись, что поблизости нет никого из членов группы, купила прижизненное издание садистского романа «Жюстина» (Батавская республика, 1797 год) за 20 франков.
Она знала, что если это найдут у нее в чемодане бдительные таможенники, то по головке не погладят. Но что делать? Воздух пьянил. Хотелось либертинажа и авантюры. Тридцать пять лет она не совершала безумных поступков и, наверное, уже не совершит. Пенсионный возраст. Последние стихи от редких поклонников, желающих платонических отношений. Жизнь прошла, на Quai Voltaire очнулась пожилая женщина с книгой в руке. Мимо, по набережной, течет интернациональная река вечной молодости. Грохот транзисторов, гормоны музыки, шипение кофемашин, ароматы французской кухни, вонь винной блевотины, бензиновый туман, смех волосатых, блеск чернокожих, все разноцветное. Книготорговец с моржовыми усами показывает большой палец и зовет мадам в бистро обмыть де Сада по-быстрому. Аншанте! Мадам русская? Эмигре или советик? А впрочем, какая разница? Женщина прекрасна вне контекста. Вдруг налетает ветер из прошлого. Слова на вокзале: мы поедем в Париж весной.
Хорошо бы навсегда отключить машинку памяти, чтобы не раздражал зуд несбывшегося. Laissez-moi, monsieur. Мадам себе не принадлежит, она член организованной группы. Столько всего было за эти годы, вы не представляете, разные обстоятельства незаметно что-то меняли внутри до полного однажды неузнавания себя в зеркале. Девочка из Иванова опрокинула бы с вами стаканчик. Она ничего не боялась. Ей было бы интересно узнать, что вы за морж такой, выныривающий из Сены со своим товаром. Но я, к сожалению, не способна ее заменить. Беспокоюсь, что нас увидят мои товарищи, которые с удовольствием донесут о том, что я поддалась на провокацию и, возможно, уже завербована. Это будет очень нехорошо. Я не могу скомпрометировать мужа, он работает на секретном заводе, известном как почтовый ящик номер семь, руководит цехом номер десять, производящим двигатели для подводных лодок и космических ракет. За полет Гагарина мужа наградили орденом. Теперь вы понимаете, почему наш город закрыт для иностранцев? Нельзя допустить, чтобы вы, месье, засунули свой нос в дырку забора, окружающего завод, где честно трудится Дмитрий Павлович Филимонов.
Как хорошо, что вы не понимаете ни слова. Я могу выболтать военную тайну и, пользуясь непреодолимостью языкового барьера, сознаться, что в КГБ родного города меня знают под кодовым именем Букинист. Так что мы с вами в некотором роде коллеги. Спасибо за книгу. Оревуар.
Дорогие Галина Алексеевна
и Дмитрий Павлович!
Примите наши поздравления по случаю
Нового года и пожелания – прожить 1987 год так же, как и 1986-й, и даже лучше!
Здоровья, счастья, благополучия.
Целуем.
Она собирала книги, как грибы. Три тысячи томов на пятидесяти квадратных метрах. Только инженерный гений ее мужа мог втиснуть в пространство хрущевки такое количество духовности. Ikea отдыхала, когда Дмитрий Павлович вытачивал очередной стеллаж. Работа начиналась с эскиза, который становился чертежом на розовой миллиметровке. Каждый миллиметр стены был учтен и использован, словно в кабине корабля «Восток-1». Не исключено, что инженерный гений применял науку дизайнеров из КБ Королева. Так проявлялась его любовь к бабушкиному книголюбию.
Еще он дарил ей бриллианты. На каждый юбилей совместной жизни. Золотые и платиновые кольца хранились в чреве библиотеки. Духовность отлично маскирует все что угодно. Толстые и скучные романы, вроде «Вечного зёва», служили тайниками для коробочек с драгоценностями. Начиная с семнадцатой страницы содержание книги было аккуратно вырезано… Впрочем, вы и сами знаете, как это делается.
Начиная с семнадцати лет я использовал эту квартиру для секса. По субботам бабушка и дедушка уходили в гости или на прогулку. Соседки ненавидели их променады. «Они люди гордые – стихами говорят», – злобно фрякали соседки, когда из подъезда выплывала элегантная пара. Галина Алексеевна: итальянский плащ, французский шарфик, изумрудные серьги. Дмитрий Павлович: кашемировое пальто, гладко выбрит, аккуратная седая щеточка усов. Супруги под руку чинно удаляются в направлении бульвара.
А внук тем временем трахает подружек среди собраний сочинений. Среди книжных новинок. Под сенью девушек в цвету. Тогда еще водились в живой природе семнадцатилетние девственницы. Сюрприз! Одна из них ни в какую не хотела расставаться со своей жемчужиной. Коварный соблазнитель, я пошел на хитрость и показал ей бабушкин тайник, за что был щедро вознагражден. Сначала девицей, а потом бабушкой, проницательно заметившей, что ее украшения лапали.
– Так-так, – сказала она, – киножурнал «Хочу всё знать!». Ну хорошо. Раз ты такой любопытный, я кое-что расскажу.
Внезапно, без объявления войны, она вывалила на мою голову всю правду о том, что случилось, когда английский Володя написал письмо советскому брату.
– Деда взяли за жопу, – начала рассказ бабушка-филолог. – Его вызвали и сказали, что теперь он должен сотрудничать. Незадолго до этого мы получили трехкомнатную квартиру, казавшуюся нам огромной. Помню, как Дима пришел вечером с работы, а на нем нет лица. Я испугалась. Думала, кто-то умер. И тут он говорит: «По средáм (она всегда произносила правильно, с ударением на последний слог) нам придется уходить из дома с шести до девяти вечера».
Ларчик открывался просто, но с мерзким скрипом. Несколько лет квартира была конспиративной. На кухне, где мы распивали чай, гэбэшные кураторы встречались со стукачами.
– Невозможно было отказаться от их предложения, сам понимаешь, – объясняла бабушка. – Но нам сказали, что это ненадолго. Им часто приходилось изменять место встречи с агентами, чтобы тех не засекли.
– Кто?
– Откуда я знаю! Думаешь, за ними никто не следил?
В шпионов тогда играло полстраны. Кто-то за деньги, а большинство – потому что их «взяли за жопу». В закрытом городе подозрительность достигала высокой степени безумия. Цензура следила, чтобы на фотографиях в заводской многотиражке не была видна линия горизонта. А то, не дай бог, НАТО использует газету для пристрелки. Паранойя была нормой жизни. Нас это, конечно, не извиняет. Мы по самые уши сидели в жидком дерьме. Дедка за репку, бабка за дедку, внучек за бабку. Пока они были живы, я никому не выдал их страшной тайны. Носил ее в себе, как соучастник. Тайна прекрасно дополняла невротическую картину внутреннего мира советского юноши. Я боялся стать голубым, а еще узнать о том, что у меня есть еврейские корни. Слава КПСС!
В то время уже вышел на экраны фильм «Покаяние», но Галина рассказывала историю ни разу не исповедальным тоном. История имела двойную мораль: а) не доверяй посторонним; б) не показывай мою заначку первой встречной манде.
– Все не так просто, как ты думаешь, – вздыхала бабушка. – Ты просто не понимаешь.
Вот эти слова: «вы не понимаете» и «все не так просто» – они меня бесят. Сразу представляю мужчину в штатском, который зевает, разглядывая фотографии на стенах чужой квартиры, пока в кухне строчат донос, а потом где-то еще одного бедолагу берут за жопу.
Галина завершила рассказ таким поворотом сюжета:
– Когда они пришли за ключами, я попросила их не привлекать к сотрудничеству нашего сына (моего будущего отца). Они обещали, что не будут этого делать, потому что никогда не вербуют членов одной семьи.
Ну как им было не поверить, если они обещали? Мы ведь знаем, каких строгих правил держались наши кураторы.
Они говорили дело, даже когда нагло врали в лицо. Этот кошмар и правда оказался недолгим, но вовсе не из-за того, что контора держала слово, а по техническим причинам. Явку провалила Мария Васильевна, которую забыли предупредить.
В то время она уже давно была Бабой Маней. Выезжая из Иванова, вся в переживаниях, на свадьбу Виктора Второго, она перепутала даты. Отбила телеграмму, что будет в четверг, а сама явилась в среду. Простительная оплошность для коммуниста ленинского призыва, дожившего до Густых Бровей, эпохи противоречивой. С одной стороны, мы имели женщину в космосе и Вашингтон под прицелом. А с другого бока у нас шерсти не хватало. В мирной жизни прогресс хромал на четыре ноги, и поезда из европейской части влачились до метельного Томска долгих четыре дня, как после войны. Немудрено, что путешественница обсчиталась.
Кстати, Брови ей совсем не нравилась, вызывали раздражение, казались вульгарными, лишенными революционной чистоты. «Выщипать бы Ему эти Брови!» – ворчала Баба Маня, не скрывая своих чувств перед телевизором. Строгая и прямая, как балерина у станка, она стриглась по-мужски с 1918 года, жила не по лжи и только однажды поступилась принципами – ради спасения жизни любимого внука.
Разумеется, она не могла пропустить его свадьбу. Такое событие, столько волнений! Осенью шестьдесят восьмого года, в среду, во второй половине дня, путешественница спустилась на твердую землю станции Томск-1, где ее никто не ждал. Ни с цветами, ни без цветов. Баба Маня удивленно приподняла бровь, но, поскольку не имела вредной привычки нервничать по пустякам, как-то объяснила для себя неприбытие родственников и, подхватив тяжелый чемодан с подарками, зашагала навстречу приключениям по известному ей адресу, куда от вокзала было рукой подать – через площадь, трамвайную линию, две лужи и три переулка, а потом налево.
Местный житель, привычный к отсутствию тротуаров и прыжкам через ямы, одолел бы дистанцию за пятнадцать минут. Но семидесятилетняя женщина не могла сразу достичь больших успехов в паркуре. Она дважды коротко отдыхала на чемодане, который ставила прямо в осеннюю грязь. Долго сидеть не получалось – земля начинала причмокивать, как живая, засасывая человека и его багаж во глубину сибирских руд.
Баба Маня достигла конца пути ровно в тот момент, когда пробил роковой шестой час и трое серых мужчин юркнули в подъезд буквально перед ее носом. Никто из них не уступил дорогу старухе. Пагубная невоспитанность. Пропустили бы ее с вещами вперед и сразу поняли, что бабка чапает в ту самую квартиру. Могли бы врубить заднюю передачу и тихо смыться без скандала. А так вышло наоборот. Баба Маня, следуя за бойцами невидимого фронта, увидела, что они отпирают дверь квартиры ее дочери и скрываются за дверью.
Она пришла в изумление, но не поддалась панике. Спустилась на улицу, достала из чемодана записную книжку и перечитала адрес. Всё было верно: дом, улица, подъезд, квартира. Всё, кроме одного, точнее, троих посторонних мужчин, вошедших в квартиру со своим ключом. Баба Маня истолковала это единственно возможным способом: воры.
На углу стояла телефонная будка. БМ набрала «02» и вызвала милицию. Примерно через полчаса к дому не спеша подкатил заляпанный грязью желтый луноход, экипаж которого состоял из трех розовощеких комсомольцев. Баба Маня предъявила им свои краснокожие документы – паспорт и партбилет. Партийная книжка, выданная в 1924 году, произвела на патрульных должное впечатление.
Они поднялись на третий этаж и позвонили в квартиру. Естественно, им никто не открыл. А что дальше делать, они не знали. У них не было ни права, ни желания ломать дверь по заявлению иногородней гражданки, хотя бы и ленинского призыва. О чем ими было ей сообщено в устной форме. Затем, сочтя свой долг исполненным, они предложили гражданке расписаться в протоколе и собрались отчаливать, но Баба Маня им заявила: даже не мечтайте! Уедете, сказала она, я сама пойду на штурм, и пусть меня зарежут, но не позволю совершиться грабежу среди бела дня.
Патрульные заспорили с Бабой Маней, указав ей на то, что подобные действия, при всем уважении, будут расценены как нарушение общественного порядка. БМ ответила: к черту такой порядок, при котором неизвестные лица заходят в чужое жилище, как к себе домой. Милиционеры возразили, что лица, неизвестные лично БМ, могут быть хорошо знакомы ответственным квартиросъемщикам. Один из милиционеров, видимо самый начитанный, добавил, что налицо дефицит информации, не позволяющий делать однозначные выводы. Баба Маня попросила не морочить ей голову абстрактными разговорами, а лучше разобраться с конкретным фактом, иначе придется звонить в горком партии и ставить вопрос о халатном отношении к делу сотрудников внутренних органов. Это был сильный аргумент. Юноши струхнули.
– Вы тут нас не пугайте! – просили они.
– Преступников надо взять с поличным! – настаивала БМ.
В конце концов, побежденные Капитаном Очевидность, патрульные заглушили мотор. По рации они запросили у начальства инструкции и получили приказ: ничего не предпринимать. Тем временем отовсюду начал сползаться народ. Становилось интересно. Никаких развлечений на районе не было с 1960 года, когда посреди улицы тонул трактор, который вытягивали из бездны танком Т-34. И вот опять веселье. Соседки жаловались милиции друг на дружку и на бытовых дебоширов из первого, третьего и четвертого подъездов, которых давно пора выселить за пьянку и хулиганку. Отведя душу, женщины перебегали в соседние дворы и распространяли слухи о том, что в их доме, в квартире такой-то, засела вооруженная банда. Соседние дворы, не будь дураки, с фунтиками семечек подтягивались к месту предполагаемой силовой операции.
Очень скоро в курсе текущих событий оказался весь район. Ничего не знало только всеведущее КГБ, чьи сотрудники, завершив свои тайные дела, спокойно вышли на улицу, где внезапно обнаружили себя перед лицом общественности. Баба Маня, возмутитель спокойствия, указала на них рукой:
– Вот они!
Это был полный провал. Капля гласности в океане застоя. Страшный сон чекиста: ты на задании, а кругом – люди, люди, и все смотрят на тебя васильковыми глазами. Щелкают семечки, сплевывают тебе под ноги, интересуясь, что будет дальше. В довершение этого ужаса придурошная милиция, решив исполнить свой долг, закричала как резаная:
– Ваши документы!
Те трое, прижатые к стенке, окруженные народом, пребывали в таком составе: внештатный, глупый и сообразительный. Первый окоченел, забыв дышать, а второй полез в карман за корочкой со щитом и мечом. И ведь достал бы, идиот, если бы не третий, вовремя цапнувший коллегу за локоть.
– Нету документов. Везите в отделение, – приказал он.
Сообразительный перевел ситуацию в конструктивное русло, он сказал: поехали! И руки протянул вперед, чтобы менты поскорее защелкнули на них браслеты и увезли невидимых бойцов от греха подальше, а там разберемся. Наивные милиционеры, еще не подозревая, куда они вляпались, с удовольствием взяли покорных домушников в железа, думая: всегда бы так! Баба Маня, не первый день живущая на свете, начала догадываться, что происходит и кто эти люди. Чистые руки, серые костюмы, холодная голова.
– Сексоты! – громко произнесла она печальным голосом.
Те трое не отреагировали. Только внештатный еще сильнее ссутулился. А народ вообще ничего не понял. Народ васильковыми глазами следил за тем, как утыркивают в зарешеченный зад лунохода подозрительных типов, и жалел только о том, что обошлось без драки. Баба Маня сидела на чемодане, сгорая от стыда, мечтая провалиться сквозь землю, которая сочувственно причмокивала, словно целовала подошвы ее грубых ботинок.
Мария Васильевна уехала домой сразу после свадьбы любимого внука и больше никогда не посещала метельный Томск.
Я родился через девять месяцев после этой свадьбы. Как положено. В три года научился читать и горячо полюбил письма из Иванова, от долгожительницы с Конспиративной улицы. Письма в конвертах, украшенных портретами героев иваново-вознесенской стачки, возбуждали желание побывать в чудесном мире подрывных листовок за счастье народа и чахоточных боевиков с динамитом в карманах. В мире, где моя прабабушка, дьявольский одуванчик, до сих пор носит наган на поясе.
Романтический образ навевала советская пропаганда. На каждом доме висели репродуктор с песнями и транспарант с лозунгом. Скучную новостройку моего детства оживляла безумная фраза:
Есть у революции начало, нет у революции конца!
Всем было плевать, что лозунг вопиюще противоречит тухлой окружающей действительности. По вечерам рабочая молодежь крушила на районе телефонные будки, но даже не помышляла о захвате почты и телеграфа. Хотелось в Иваново, где революция перманентна. С трех до девяти лет я был вундеркиндом, знающим, что такое «план вооруженного восстания». Потом отупел под воздействием средней школы. А тогда, в пору расцвета умственных способностей, просил родителей свозить меня к бабе Мане. Как чувствовал, что она не подкачает, окажется на высоте.
Мы провели вместе незабываемый готический вечер. Над городом полыхала гроза. Тучное небо рассекали жемчужные шрамы молний. Высокие липы качались за окном, как пьяные монахи. Ливень стеной, оглушительные раскаты грома. Баба Маня угощает правнука историями дворцовых переворотов.
Подробно, не упуская ни одной детали, она рассказала, как в спальне Михайловского замка вышибли мозги Павлу Петровичу; как оборвалась веревка у одного из пяти повешенных, но его не помиловали, вопреки старинному обычаю; как Александр, Освободитель Всея Руси от Аляски и Либеральных Иллюзий, вышел 1 марта из развороченной кареты, оглушенный взрывом, восклицая «слава богу, пронесло!», а Рысаков с воплем «вот тебе бог!» кинул под ноги императора вторую бомбу; как Халтурин взорвал вместо царской семьи ни в чем не повинную обслугу Зимнего дворца и удостоился за этот подвиг улицы своего имени в центре Ленинграда.
На десерт баба Маня подала убийство Распутина: «Пирожные были отравлены. Одно надкушено. Гришке шепнули, что княгиня Юсупова заедала волнение перед встречей, и он первым делом схватил княгинино пирожное…»
Целый год после нашей встречи я воздерживался от пирожных, как домашних, так и общепитовских, подозревая в них цианид.
Прабабушка умела произвести впечатление, эффектно, в лицах рассказывая древние истории, какие угодно – декабристы, Павел Первый, – лишь бы не вспоминать свои собственные, тот мерзкий осенний день в Томске, когда она была готова провалиться сквозь землю.
Семье Филимоновых тогда было очень нехорошо, после этого сеанса разоблачения. Какое-то чувство – наверное, правильно будет назвать его тихим ужасом – наполняло квартиру от чулана до кухни, стонало в трубах, искажало лица мучительными гримасами даже во сне. Кто знает, какой вред здоровью членов семьи могло бы нанести это чувство? Но через несколько дней в почтовом ящике материализовалась связка ключей, и от сердца отлегло. Все поняли, что контракт с конторой расторгнут.
О случившемся я узнал спустя много лет от соседки Газякиной из одиннадцатой квартиры, якобы видевшей все своими глазами, но верить ей не стоит, потому что она была и есть главная домовая сплетница, сочинявшая доносы на Дмитрия Павловича еще до полета Гагарина и вечно обижавшаяся на Галину Алексеевну, которая никогда не приглашала Газякину на свои знаменитые пиры.
Пируя, они отводили душу, ровесники «великого октября», стареющие вместе с Брежневым. Ильич повторялся в телевизоре, как фарс. Эпоха Густых Бровей была золотой осенью поколения: дети, внуки, медали, путевки – мирная жизнь, в которой всегда есть место празднику.
Мои родители (пусть они останутся фигурами умолчания, история не про них) собирались в гости к бабушке и дедушке. Я наперед знал, что нас ожидает. Стол, шпроты, хрусталь, скатерть, гости, цветы, шутки, анекдоты, торт «Наполеон» и скука. Почтенные люди в хорошем настроении, вежливо смеющиеся над воспоминаниями друг друга.
Никто ведь не объяснил ребенку, что встреча за этим столом – чудо, а собравшиеся здесь должны были умереть молодыми, кто от Сталина, кто от Гитлера, с вероятностью десять к одному. Вот они и радовались, что живут в лучшем из возможных миров. А мне было неинтересно, когда дед в сотый раз травил военную байку:
– Как-то раз, во время воздушного боя, у нас заклинило пулемет. Решили возвращаться. Летим – и вдруг фриц на «фоккевульфе». Ну, думаем, хана! А он, похоже, свой боезапас расстрелял, потому что, пролетая мимо, только погрозил кулаком. Ну, и я тоже погрозил ему кулаком. Так и разлетелись в разные стороны…
Занятый на заводе шесть дней в неделю, он исполнял роль банкетного повара, подавая гостям свои фирменные блюда: телячьи отбивные и фаршированную щуку. Оба рецепта требовали палки. Накануне званого ужина дед уединялся в кухне с мясом и рыбой. Через тонкую стену доносились звуки ударов. Резких и сильных, когда повар плющил вырезку, нежных и глухих, когда он переходил к избиению щучьих боков. В такие вечера бабушка называла мужа «ударником». Сейчас это искусство почти утрачено. А тогда все знали, как надо бить одушевленные и неодушевленные предметы. Время было такое. Детали в дефиците, мастера в запое. Большинство неполадок исправляли самостоятельно – ударом кулака. Даже дети своими маленькими ручками ловко выстукивали картинку из черно-белого телевизора. Взрослые люди, живущие без телефона, общались с соседями при помощи ножа или плоскогубцев, барабаня точки-тире на стояке центрального отопления. Ударник и стукач были героями нашего времени. Щука моего деда была кулинарным шедевром.
Пир уцелевших продолжался лет двадцать. Сначала я наблюдал его снизу вверх, ползая по узорам ковра среди игрушек; когда вырос, был усажен за стол и посвящен в тайну.
– Ничего не принимайте за чистую монету, юноша, – посоветовал Виктор Вольдемарович Ревердатто, профессор и жизнелюбивый ботаник, чья жизнь была чередой потерь. В детстве он потерял французское подданство, когда с семьей переехал из Ниццы в Сибирь, где его отец нашел место мирового судьи на Транссибирской магистрали. Выбор времени и страны оказался не самым удачным. В двадцатом году судью Ревердатто замучили чекисты Новониколаевска. Его младший сын Юрий, белый офицер, герой Ледяного похода, застрелился от безнадежности в горах Алтая.
Старший Виктор сумел, вопреки неурядицам, найти в новой жизни светлые стороны. Веселый и находчивый, он изобрел «Кенгуру» – клуб молодых интеллигентов, исполнявших на сцене Дома ученых зажигательные репризы «из жизни антиподов».
«Дорогие советские ученые, – сообщали телеграммой антиподы. – Недавно мы узнали, что в СССР есть общество ликвидации безграмотности, и сразу решили организовать у себя общество ликвидации грамотности».
Зал хохотал. После каждого представления бдительные зрители писали рецензии в компетентные органы. Молодого режиссера приглашали обсудить репертуар. Он смело шел, вооруженный остротами. Они со следователем так смеялись на допросе, так смеялись.
И ничего ему никогда за это не было. Наоборот! Виктор Вольдемарович преуспел в тепличных условиях Ботанического сада, которым заведовал с незапамятных времен и до конца жизни. Пальмы в оранжерее напоминали ему о родине предков.
Коллеги сплетничали, что профессор задерживается на работе не только в научных целях, дескать, любил, галантный кавалер, назначать под пальмой свидания. В полночь выходил из-за волосатого ствола в полумаске. Римский профиль. Пряный тропический воздух. Сонеты Петрарки под луной. Кто устоит?
Ему завидовали, называли Синей Бородой, намекая, что свадьбы и похороны были частыми событиями личной жизни профессора. Он пережил четырех жен, не считая молодых сердец, разбитых вне брака. Он буквально испепелял молодые сердца своим жгучим обаянием. С бабушкой Виктор Вольдемарович флиртовал в письменной форме, как старший товарищ:
21 декабря 1965
Милого, хорошего, не всегда доброго, но и не добренького Дмитрия Павловича от всей души поздравляет семья «Ревердаттов» с днем рождения и желает еще, кроме написанного на соседней странице: хорошего настроения, всякого благополучия, никакого скулежа, филателистических успехов. Желаем успешно носить новое пальто и не надевать опостылевшую Вашей жене рыжую шубу. И вообще, не сердить и не огорчать Вашу несравненную Галусю, которую мы все любим. Крепко жму Вашу руку.
Зевс, похищающий Европу из спецхрана библиотеки, он имел разрешение брать на дом вражеские газеты, доставляемые в одном экземпляре из капиталистического окружения. Когда солнце вставало над осажденным соцлагерем, Ревердатто почитывал The Times и Le Figaro, вкушая континентальный завтрак – кофе, два тоста, яйцо пашот. Информацией оттуда он ни с кем не делился, но умел красноречиво молчать, если разговор затрагивал острые темы. Как-то, в шестьдесят восьмом, один из присутствовавших на пиру вдруг ляпнул:
– Интересно, чехи своего добьются? – имея в виду отнюдь не хоккейную сборную ЧССР.
Гости переглянулись, а Ревердатто, наслаждавшийся ломтиком «Наполеона», отложил серебряную ложечку, промокнул губы салфеткой и легонько хмыкнул. Стало ясно, что чехам ничего не светит.
Они все были яркие, как новогодние лампочки, участники симпозия. Не только знатный кенгуровод из Ниццы, но и молодое поколение. Например, вакханка Таисия, полубогиня «оттепели» по прозвищу Таис Афинская, которая в октябре 1957 года прокатилась на трамвае голой. При всем народе. В честь запуска первого искусственного спутника Земли.
Осенний день был теплым. Четырнадцать градусов. Юная Тася вошла в единицу на площади Дзержинского. Оплатила проезд, убрала билет и сдачу в карман плаща цвета беж. Медленно расстегнула пуговицы, а затем решительно стряхнула плащ с плеч. Под ним ничего не было. Точнее, всё было при ней. Упругие ягодицы, высокая грудь, кудрявый золотой треугольник между бедер. Великолепное двадцатилетнее тело.
Пассажиры, кемарившие под стук колес, выпучили глаза. Мальчишки с задней площадки встали на цыпочки. Интересно, как сложилась их жизнь? Но еще интереснее, что стриптизерке ничего не было за этот перформанс. На следующей остановке, прикрыв наготу, девушка вышла и пересела в автомобиль «опель-лейтенант», следовавший за трамваем. В «опеле» ехали местные стиляги, ее друзья: будущий ректор меда, будущий директор драмы и будущий замминистра нефтяной промышленности РСФСР.
В милиции не поверили доносу вагоновожатой. В КГБ усмехнулись. В обкоме расхохотались. Во дает молодежь! Ну и ладно. Родители – свои люди. А доказательств-то нет. Где доказательства? Это сейчас ничего не скроешь, и голые жопы моментально разлетаются по миру. А тогда событие осталось легендой осени, придающей нотку перца образу Таисии Юльевны, директора книжного магазина, в чей кабинет с черного хода не зарастала народная тропа, потому что любимым занятием народа было чтение на ночь хороших книг.
Их мусолили по многу раз. Потому что – дефицит. Хорошие книги дарили на юбилеи друзьям и завещали детям. Своих узнавали по цитатам из хороших книг.
Кто виноват, что в эпоху Густых Бровей они выходили реже, чем политзаключенные? Конечно, не директора магазинов! Ответ на поверхности. Виноваты писатели, писавшие недостаточно хорошо. Современник эпохи сказал: музу нельзя любить нестоячим. А члены СП, к сожалению, часто падали, потому что много пили. Бабушка не дружила с ними, опасаясь конфуза. Ей хватило случая на улице Ленина, когда у нее стрельнул трешку похмельный Виль Липатов, отец милиционера Анискина. Без отдачи, разумеется. Какая, товарищи, может быть в таких условиях творческая потенция?
Именно поэтому книга была лучшим подарком, а директора книжных – венцами творения.
Помню сейф мышиного цвета с засохшими пузырьками масляной краски. Связку ключей на столе Таисии Юльевны. Азартный блеск в глазах бабушки, которая слышала о новом Пикуле. От вас ничего не скроешь, улыбается мадам директор. Действительно, есть экземплярчик.
Но тут в кабинет без стука входит элегантный мужчина, ректор мединститута ВВ. Его шея небрежно, как у Андрея Вознесенского, обмотана цветным платком. Ректор взволнован, он тоже слышал о новом Пикуле. Взгляд бабушки загорается, как меч джедая. Я держу в руках номер журнала «Америка», посвященный Лукасу и «Звездным войнам». Мне его дали, чтобы сидел тихо, пока не закончится бой.
Книголюбы скрестили лайтсаберы. Только один из них выйдет отсюда с Пикулем. Первый выпад делает ВВ: Таис, дарлинг, тебя ждет презент, я только вчера вернулся из командировки, был на Гавайях, страшно устал, сейчас, извини, с пустыми руками, заскочил на минутку, говорят, что… Сейчас он спросит о книге, и все пропало. Таис не откажет другу юности. Бабушка парирует удар в последнюю секунду:
– Дорогой ВВ! – восклицает она. – Как хорошо, что мы пересеклись. Ведь я контрабандой привезла из Франции сочинение одного маркиза, которого вы хорошо знаете.
Джедай пошатнулся от такого мощного батмана. Опускает руки, делает шаг вперед и почти ложится грудью на световой меч противника.
– Вы имеете в виду того самого?
– Именно его, – кивает бабушка. Враг обезоружен, готов предать дело повстанцев и перейти на сторону Империи. Или наоборот, неважно. – Если хотите взглянуть…
– Да! – хрипит побежденный.
Таисия Юльевна понимает исход дуэли. Сдержанно улыбается.
– Сейчас продиктую вам свой номер, – говорит бабушка сладким голосом. – Но, бога ради, подождите минутку. Тасенька мне кое-что обещала.
– Пробейте, Галина Алексеевна, три девяносто в кассе, – отвечает директор, сочувственно глядя на ВВ. Стареет. Хватка уже не та. Меч выпадает из руки.
Эти сцены разыгрывались перед ней регулярно, каждую неделю, когда сейф обновлялся. Ни с чем не сравнимое удовольствие. Бабушка почти всегда выигрывала читательские бои в кабинете директора, потому что, кроме лайтсабера, имела супероружие: знакомства в аптеках. Они все тогда крепко дружили между собой – книги, люди, болезни. Язва желудка и Граф Монте-Кристо. Белая горячка и Марина Цветаева. Ректор меда и маркиз де Сад.
Заведующая аптекой номер девять была гордой женщиной, которая плохо кончила. Она сидела у нас за столом, как принцесса на горошине. Сотрапезникам отвечала, кривя рот, наверное, потому, что ей задавали очень много вопросов. Время было такое. Всем хотелось подлечиться. Особенно женщинам, которые читали журнал «Здоровье» и «Справочник лекарственных препаратов». Самолечение расширяло их кругозор. Мужчины этими глупостями не занимались, они жили просто и умирали рано.
Галина приносила заведующей аптекой дефицитную художественную литературу, а взамен получала доступ в аптечные закрома, где могла раздобыть что душе угодно. Кроме оливкового масла, которого не мог раздобыть никто. Оно считалось волшебным средством от язвенной болезни и раковых клеток. Раз в квартал аптеки получали одну бутылку панацеи. Заведующие аптеками защищали свое право на олей, как феодалы Средних веков свое право первой ночи. Из-за этого случались порой ужасные драмы.
Однажды бабушкина подруга уехала в Москву для повышения квалификации. Во время ее отсутствия пришло масло. Заместитель имела четкие инструкции: убрать в сейф. Но ослушалась и присвоила заповедную жемчужину. Это была неслыханная дерзость. Бунт на корабле. Провизоры и фармацевты замерли в ужасе, ожидая возвращения заведующей аптекой. Она вернулась и устроила метание молний. Целую неделю атмосфера искрила. Рабочие дни начинались и заканчивались скандалом. В резкой форме, не стесняясь выражениями, заведующая аптекой обещала заместителю заведующей, что напишет на нее анонимку, отравит ядом и посадит в тюрьму. Кто угодно сломался бы под таким прессом. Но нахалка оказалась кремень. Она терпела унижения, мертвой хваткой сжимая масло, и дождалась-таки своего счастья. В пятницу вечером заведующую аптекой разбил инсульт. Прямо на рабочем месте. Больше мы ее не видели.
Но ее соперница, унаследовавшая трон, тоже любила хорошие книги. Так что с лекарствами у Галины всегда был порядок. Даже переизбыток. Каждые полгода она устраивала чистку домашней аптечки, выбрасывая медикаменты с истекающим сроком годности, купленные впрок.
Я ждал этого дня, как повтора «Трех мушкетеров» по телевизору. Галина была фантазеркой и, специально для любимого внука, придумала играть просроченными лекарствами в шашки. Королевская битва. Пурпурные против изумрудных. Лазоревые против алых. Красивая таблетка съедала таблетку противника и проходила в дамки.
– Бабушка, зачем тебе так много лекарств? – спрашивал любознательный внук.
– Чтобы кормить болезни, – отвечала бабушка-филолог. – Если я не буду этого делать, они рассердятся и съедят мое здоровье.
– Какие злые!
– Да. Приходится их задабривать. Возить на море и в санаторий.
– Они от тебя никогда не отстанут?
– Нет, милый, это неизлечимые болезни. Они будут со мной до конца.
Болезням Галины Алексеевны повезло – они избороздили моря. Не только банальное Черное, но завидное Средиземное, а еще Северное, Немецкое и даже Атлантический океан. В конце эпохи Густых Бровей они обогнула Европу на круизном лайнере «Михаил Лермонтов».
Каких только гадостей не насмотрелись тогда неизлечимые. В Гамбурге – стриптиз, в Копенгагене – хиппи, в Амстердаме – проститутки. В Лондоне возлагали венок на могилу Карла Маркса. Как бы добровольно, от всего сердца, вскладчину, по доллару с носа. Тридцать два проверенных товарища обоего пола сдали валюту ответственному по группе товарищу Валере, юноше из органов. Деваться им с корабля было некуда, на разграбление девяти капиталистических стран (ФРГ, Дания, Великобритания, Нидерланды, Франция, Португалия, Испания, Италия, Греция) каждый имел 69 долларов, которые им обменяли перед выездом по официальному курсу – 69 копеек за 1 USD. Неизвестно, что символизировала эта камасутра, но зелененьких было ужасно жаль. Словно стайка валютных попугайчиков, они упорхнули в Валерин портфель, с которым юноша отправился на первое в своей жизни ответственное задание.
Наружно владея собой, но внутренне балдея от двухэтажных автобусов и черноголовых полисменов, он бежал по Ист-Энду, мимо Собачьего острова, крепко сжимая портфель, единственную материю, данную ему в ощущениях. Все остальное было недоступно. Рестораны ослепляли через стекла витрин инопланетным блеском тарелок. Разноцветные тёлки в джинсах шли навстречу, как неприличные галлюцинации. Не знаю, кому он снился, этот Валера, – бабушке или Карлу Марксу, но такой идиотизм бывает только во сне – приносишь в банк тридцать два доллара, обмениваешь на фунты, идешь покупать венок, думая по дороге а вдруг не хватит? – или, наоборот, а если останется сдача? Мечтаешь о кружке пива за упокой бородатой Марксовой души. Боишься, что могут настучать. Помнишь о том, что группы сопровождают наблюдающие за ответственным по группе, да и рядовые туристы не дураки, умеют писать анонимки, мол, довожу до вашего сведения, что такого-то числа товарищ такой-то, ушедший на задание, вернулся с душком, распространяя отчетливый запах английского эля…
Начальство было в курсе искушений, которым подвергаются за границей молодые сотрудники. Пиво, девочки – все мы люди. Думаю, во избежание провокаций венок заранее погрузили на «Лермонтова», а деньги, собранные с членов группы, Валера по возвращении отнес куда надо, согласно официальному курсу, который тоже был сном, потому что в реальной жизни, на черном рынке, доллар стоил десять рублей, КГБ, жестоко боровшийся с реальностью, допускал обмен валюты на черном рынке только в одном случае – чтобы снабдить наши круизные лайнеры достойными венками. Потому что тридцать два доллара, умноженные на десять рублей, – это деньги, целое море цветов для Карла Маркса, который при жизни не мог и мечтать о том, как хороши, как свежи будут розы от организованных групп советских туристов, прибывающих в Лондон с высокой целью – продемонстрировать миру дороговизну памяти о великом человеке.
В бабушкином изложении это был водевиль. Лопоухий Валера постоянно забывал в кают-компании свой портфель. Любопытная Галина сунула нос внутрь и обнаружила там настоящий черный пистолет. Интересно, в кого на борту круизного лайнера должен был стрелять юноша, делающий жизнь с Дзержинского?
– Я пришла к выводу, что мальчику дали пистолет с одним патроном, – шутила Галина.
Жизнь маскировалась под анекдот. Своих узнавали по цитатам, которые кишели в речи, как муравьи на языке дохлой собаки. Такой язык не годится для описания жизни. А другого не было. Неописуемая жизнь била ключом между строк худлита. В письмах на нее иногда жаловались, но осторожно, не доверяя почте. Всю правду рассказывали только доносчики. Для выражения чувств не хватало слов. Говорить о высоком было смешно, об интимном – стыдно. Внутренний цензор безжалостно вычеркивал душу и жопу.
Поэтому душу не упоминали совсем, а жопу обозначали буквой Ж. Гинеколог Магинура Хасановна, многолетняя участница нашего пира, любила повторять «вот такая жэ…». Реплика относилась и к женской фигуре, и к обстоятельствам жизни. О своих гинеколог высказывалась лаконично: «У меня была история с географией». И всё. Больше ни слова. Хотя нет, упоминался мимоходом Старый Крым, другая планета, на которой гинеколог родилась так давно, что ее метрика не сохранилась в местном архиве после телепортации крымских татар на сибирскую землю.
Используя этот факт, она с удовольствием молодела после каждой смены паспорта. Выходя замуж, всегда меняла фамилию и возраст. Мужья ею гордились, потому что гинеколог не увядала, сохраняя необыкновенную консервированную красоту, особенно заметную на фотографиях. Рядом со сверстниками она выглядела чьей-то дочерью, затесавшейся в родительскую компанию. Если не присматриваться. Плюс косметика, которую ей подгоняли номенклатурные жены. Так что Ж у нее была очень даже ничего. Отличная Ж! И никакого желания вспоминать прошлое.
До девяти примерно лет я был вундеркиндом, знающим наизусть повести Александра Грина. Сейчас не помню ни строчки, а тогда, услышав про Старый Крым, взволнованно закричал «Гель-Гью» и страшно удивился, когда Магинура не отреагировала.
– Гель-Гью! – повторил я, подозревая, что эта красивая статуя может быть глуховата. – Город, который построил Грин в вашем Старом Крыму.
– Он такой старый. Наверное, его уже нет, – рассеянно ответила гинеколог и вдруг оживилась, потирая руки: – Давненько мы подъевреивали эту рыбку!
– Дедушка вынес из кухни блюдо с фаршированной щукой.
– Как вы сказали? – удивился я.
– А ты не знаешь, как один человек сказал «жид» и его посадили на пятнадцать суток? После этого он стал культурным и всегда говорил только «еврей».
– Анна Константиновна, чему вы учите ребенка! – засмеялась бабушка. – Он еще мал для таких анекдотов.
А то я их не знал! Первый анекдот, услышанный в детском саду, был политическим:
Мальчик идет по улице и читает лозунг на транспаранте: Да здравствует ха-ха три палочки съезд КПСС!
Хорошо быть шутником – выкупаешь безопасность. Жаль, что смешных историй не хватало, как и всего остального. Каждую повторяли тысячу и один раз. При этом в голосах рассказчиков звучали вибрации нервного смеха уцелевших.
Очко играло день и ночь, очко играло.
Задолго до того, как садист Шрёдингер запер кота в ящике с цианидом, наши люди отлично понимали квантовую мудрость: кто угодно может быть ни жив ни мертв на протяжении десяти и более лет.
Голосом поколения служила Фаина Раневская, женщина-катастрофа. Муля, не нервируй меня. Взрослые повторяли эту фразу по всякому поводу и смеялись до слез. Над чем? Тогда я не понимал. Сейчас тем более не понимаю. Подтекст улетучился, а контекст остался в том сортире, где подтирались газетами.
– Позовите Рабиновича. – Его нет. – Я вас правильно понял? – Да.
В конце семидесятых Рабинович превратился в канадскую муку и новозеландское масло. Советская власть с голодухи прикинулась мирным атомом.
Об этом часто говорили на пиру. Не о поправке Джексона – Вэника, а о том, как трудно достать шпроты и 35-процентные сливки. Галина в таких случаях хвасталась, что умеет сама сбивать сливки из деревенского молока. Сидевшая напротив Магинура вспоминала смешную историю о Рабиновиче, втором муже, который вез из Москвы торт-мороженое для новогоднего застолья.
– Во Внуково задержали вылет, и мороженое начало таять. Рабинович бегал вокруг аэропорта по морозу, чтобы спасти тортик. Температура минус двадцать, представляете? Он шесть часов провел на улице с этой коробкой, железный мужчина!
– В Тель-Авиве такой номер не пройдет, – шутил дедушка.
– Дима! – вздыхала бабушка, делая глазами особые укоризненные движения.
Дед умолкал. Тема затухала. Позднее я узнал, что гинеколог развелась со своим Рабиновичем за несколько лет до его эмиграции, так что на ее карьере это никак не отразилось. Но все равно, лучше было помалкивать об этом человеке.
Невыездным гражданам их личные воспоминания заменили историей СССР: революция, коллективизация, победа, «оттепель», Гагарин, физики и лирики, БАМ-БАМ, Олимпиада-80.
Проект курировал товарищ Суслов, дедушка массового гипноза, стремившийся замедлить ход времени, который он по-стариковски воспринимал как угрозу для себя и других развалин. Самый умный член Политбюро, он был аскет и не любил кино про любовь. Особенно американское. Импортные лав-стори по тридцать лет томились на полках цензурного комитета. Однажды, во время очередного просмотра фильма «Это случилось однажды ночью», Михаил Андреевич получил откровение из вашингтонского обкома, который тогда отрицал свое существование, работая в глубочайшем подполье.
Откровение имело вид двадцать пятого кадра, возникшего на экране в эпизоде, где Кларк Гейбл преподает девушке урок автостопа. С поднятым вверх большим пальцем Гейбл вдруг застыл на экране, а из-за его спины появились черные буквы, сложившиеся в короткую фразу: ОПИСАНИЕ ВОРОШИТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ. Товарищ Суслов поначалу испугался, думая, что пришел его конец, но затем выпил воды, успокоился и осознал, что перед ним то самое, чего всю жизнь ждет каждый пиарщик, – послание свыше. Он успел перечитать фразу восемь раз, прежде чем буквы расплылись и Гейбл возобновил свои идиотские, но такие обаятельные прыжки на обочине дороги.
Вскоре товарищ Суслов спустил вниз новую программу действий: использовать громкие продолжительные аплодисменты для борьбы с тяжелыми продолжительными болезнями. Кроме того, была введена в оборот секретная грамматическая конструкция: советское продолженное время (на внутреннем сленге «имперфект для имбецилов»), завораживающая нелепостью фраз:
Ленин и сейчас живее всех живых.
Ни одного глагола, обратите внимание. Благодаря своему изобретению Михаил Андреевич после смерти задержался в имперфекте и продолжает осуществлять руководство из-под кремлевской стены.
Эта штука работает до сих пор: если нажать на любую из кнопок (революция, коллективизация, победа, «оттепель», Гагарин, физики и лирики, БАМ-БАМ, Олимпиада-80), то механический голос, вроде неживой птицы в горле человека, начнет рассказывать о том, какое было время, трудное – да, но и счастливое тоже, потому что мы – молодцы, потому что в лучшее верилось и работалось на ура, и оставались силы для песен, какие были песни, какие голоса! Не то что теперешние.
Мужчина мурлыкал в телевизоре:
Что-то с памятью моей стало,
все что было не со мной – помню.
Всё это было, было, было не со мной, —
заливалась женщина по радио. Так, в простоте душевной, выдавала гостайны советская эстрада.
Пункты обмена памяти работали по всей стране под видом приема стеклотары, химчисток, гастрономов, универмагов, избирательных участков, бюро добрых услуг, желдоравиакасс и, конечно, Мавзолея. Таинство переформатирования совершалось в очередях, отстояв которые человек уже не понимал, кто он такой на самом деле, тварь дрожащая или трава у дома.
Мой адрес не дом и не улица…
Был даже случай, когда в ГУМе одному узбеку по ошибке достались воспоминания Юрия Гагарина. Какой-то старый маразматик со Старой площади, уходя на обеденный перерыв, забыл запереть сейф, а курьер, не глядя, сложил пробирки в спецконтейнер. Тогда в народ утекло несколько знаменитостей. Высоцкий, Чапаев. Скандальная история, но ее замяли, закатав под асфальт виновников и невольных свидетелей. Узбек чудом уцелел. Сейчас он работает дворником в Отрадном, ходит в летном шлеме, машет всем рукой, улыбается и кричит «поехали».
Но я никого не осуждаю. И никому не советую осуждать. Попробуйте сами родиться при Ленине, выжить при Сталине и состариться под мычание Ильича-2. Нельзя требовать от целого поколения, чтобы все поголовно были академиками Сахаровыми. Я бы точно не стал академиком Сахаровым в такое время. Стучал бы, наверное, как дятел, по зову сердца и голосовал за нерушимый блок, попивая «три семерки».
К тому же они все умерли, не считая долгожителей, – 99 целых и 5 десятых процентов ровесников «великого Октября». Как-то глупо учить жизни мертвых.
И не стоит забывать, что они любили своих детей (и внуков) в трудных условиях дефицита, боролись за их счастливое детство, героически покупая игрушки и жизненно важные вещи в пустых магазинах.
На четвертом году эпохи Густых Бровей Галина Алексеевна и Дмитрий Павлович привезли любимому внуку детскую кроватку из «Детского мира», что на площади Дзержинского в Москве.
Огромный магазин имел два входа, но ежедневно, по традиции, работники «Детского мира» открывали только одну дверь. Желающих отовариться было много, а товаров наоборот. Поэтому выбор правильной двери определял успешное прохождение квеста. Опытные люди, зная правила игры, являлись парами, чтобы сделать лотерею беспроигрышной. С глубокой ночи к магазину тянулось две очереди.
Галина Алексеевна и Дмитрий Павлович были прекрасной парой. Стоя каждый в своей очереди, они пять часов любовались памятником Дзержинскому, греясь чаем из термосов, а потом наступило время открытия магазина. Моему дедушке повезло – дверь распахнулась перед ним, и водоворот счастливцев закружил его, проталкивая внутрь. Когда он перешагивал порог магазина, кто-то наступил ему на пятку, что привело к утрате отличного ботинка, только на днях выстраданного в другой очереди. Дмитрий Павлович по инерции сделал шаг вперед и почувствовал себя странно. Мраморный пол холодил ступню через носок. Дедушка остановился и поджал ногу, как цапля. Он пребывал в смятении. Галина Алексеевна, увидев, что происходит, мгновенно оценила ситуацию и закричала:
– Дима, беги так! Пробивай кроватку!
Это решение – бежать так – было единственно верным. Иначе потеря драгоценного времени и неуспевон. Вечером они уезжали из Москвы. Так что это был их последний шанс.
Дмитрий Павлович побежал, а Галина Алексеевна двинулась наперерез потоку и вырвала ботинок из-под копыт покупателей. Обретя его, размахивая им, как Хрущев, она через головы, звучным голосом лектора общества «Знание», подбадривала мужа, который благодаря своей прыткости оказался у кассы одним из первых, хотя и наполовину босой.
Они были прекрасной парой и с удовольствием вспоминали эту историю. Она считалась золотым фондом юмористики.
В ранние годы золотого детства я развлекал пирующих чтением «Бородино» и таблицы Менделеева. Наизусть:
Скажи-ка, дядя, ведь недаром водород, гелий, литий, бериллий, бор, Москва, спаленная пожаром, углерод, азот, кислород, фтор, Французу отдана? неон, аргон, натрий, магний.
Взрослые рукоплескали: браво, мальчик с феноменальной памятью! Тебя ждут великие дела. Не-а. Память отшибло. Лермонтова разлюбил. Счастливое детство закончилось в 1979 году, когда организм внезапно, без объявления войны, оккупировали половые гормоны.
Мир обернулся соблазном. Ни один банан больше не был просто бананом. Все возбуждало. Группа «АББА» и женщины-стоматологи, лазающие пальцами в рот, меховые домашние тапочки и пушок под мышками одноклассниц, Даная Рембрандта и вывеска «Женское отделение» в общественной бане, изделия номер два за стеклом аптеки и надувные шарики олимпийского Мишки; пляжи летом, катки зимой, а весной – лужи, отражающие капроновые продолжения женских ног. Кроме того: собачьи свадьбы, кошачьи концерты, стоны голубей и защечные мешки хомячка, набитые печеньками.
Но сильнее всего – родная речь. Ее хотелось не по-детски. Одноклассники скучали над учебником, а я чувствовал пряный запах насилия из камеры пыток.
Родная речь, уродливая дочь великого и могучего, мучила, как жаркая ладонь в паху. Меня с детства привлекало уродство. Государственный гимн. Панельное домостроение. Родители получили квартиру на окраине города, где рабочая молодежь с корнем вырывала трубки из телефонов-автоматов. Район назывался Париж. На пустыре, где кончался город, ударными темпами, к двадцать шестому съезду КПСС, возводили девятиэтажку с двадцатью шестью подъездами. Ее прозвали «китайская стена». Возвращаясь из школы, я следил за работой подъемных кранов и радовался увеличению этажности серого панельного чудовища. Париж, окруженный Китайской стеной, казался лучшим местом на Земле. Я чувствовал гордость за свой район. Родная речь возглавляла хит-парад моих девиаций.
Ее жрецы, строгие неулыбчивые граммар-фашисты, терзали кретинов, не знающих ЖИ-ШИ. Они опускали всякого, кто говорил «крайний» вместо «последний» или, не дай бог, «займи денег» вместо единственно верного «одолжи». За кофе в среднем роде невежды отвечали, как за козла в местах заключения.
Моя бабушка была лектором общества «Знание». Я бы даже сказал, Ганнибалом Лектором. Она презирала невежество в точности как герой того фильма. С холодной улыбкой и ядом в голосе. Однажды я сопровождал ее на экзамены. Жуткий, но интересный опыт. По осклизлым ступеням мы спускались в глубокий подвал, шли мрачными коридорами, где стояли гипсовые бюсты великих писателей. Скрипел паркет, тревожно и неритмично мигала лампа дневного света, отбрасывая резкие тени на лица великих. Казалось, они корчат нам рожи. В большой комнате, в полной тишине, какие-то люди неподвижно сидели за столами. Место называлось рабфак. Бледные от страха рабы и рабыни по очереди всходили на эшафот, где их ждала Галина Алексеевна. Я тихо шелестел в углу журналом «Мурзилка», пока она делала свое дело.
– Как вы сказали? – переспрашивала она трясущуюся рабфаковку. – Татьяна и Онегин написывали друг другу любовные письма? Это что-то из серии «Нехлюдов был аристократ и мочился одеколоном»? О чем вы думаете?
Девица начинала рыдать: грешна, матушка. Оскверняю уста варваризмами. Но внутри я не такая, помыслы мои чисты. Люблю я пышное природы увяданье. Люблю мою бедную землю. Я жить люблю и умереть боюсь. И вы полюбите нас черненькими! – шептала она, как в бреду.
Но ответил людоед: нет! Бабушка возвращала зачетку:
– Встретимся в другой раз.
Ее ученики постоянно работали над ошибками, которые заводились в тексте, как вши, – чем длиннее предложения, тем больше насекомых. Падежные окончания кишели. Пунктуация – тифозный кошмар. Двоеточие или тире, двоеточие или тире? Если враг не сдается, тире, его уничтожают? Или, двоеточие, его уничтожают? Или, запятая, его уничтожают? Можно подумать, его оставляют в живых хоть в каком-то случае? На то он и враг, чтобы не знать к нему жалости! Родная речь – это вам не болтовня родственников у самовара. Это ужас и моральный террор. Страшно писать по-русски, господа!
Чтобы снять стресс, ученикам разрешалось смеяться над дебильными фразами из сочинений друг друга. Советская школа поощряет здоровый смех над дебильными фразами, которые зачитывает Галина Алексеевна, молодая, красивая учитель литературы, не боявшаяся носить красное.
Во время урока она, бывало, садилась на стол, закинув ногу на ногу, и цитировала дебильные фразы, демонстрируя всему классу его умственное убожество и свою красоту. Класс обожал эти демонстрации. Сорок лет спустя бывшие ученики присылали ей поздравительные открытки:
Дорогая Галина Алексеевна!
Пусть Год змеи – год женщины – обернется для Вас удачами, радостями, здоровьем. Минул еще один год. Осталось, по-моему, 8 месяцев до 40-летнего юбилея нашей встречи. В класс вошла молодая, нарядная, красивая, умная учительница, кажется, в красном костюмчике (или он потом появился?). И она нас тоже любила, во всяком случае, относилась с интересом и уважением. И уроки были необычными. Такую школу и перестраивать не надо бы сейчас! Вот так. Годы, дни и минуты бегут-бегут. И вот уже мы тоже оба пенсионеры. А кажется, что еще недавно мы писали выпускное сочинение, которое пришлось написать заново, и мы так волновались.
Крепко обнимаем. Ваши Марина и Леня. 22.12.88
Жизнь прошла, а они до сих пор чувствуют мандраж перед выпускным сочинением. Вот это школа!
Строго запрещалось смеяться над дебильными строчками классиков. Желать обнять у вас колени – это не смешно, потому что – Пушкин. Культ мертвых. Культ урны с прахом. Групповые фотографии на могилах и все такое, возвышенное. Над классиками можно только плакать. Годовщины писательских смертей отмечали с торжественным сладострастием. В такие дни главным редакторам позволялось входить в склепы и смотреть на останки великих. Разрешалось даже щупать останки: берцовую кость Толстого, грудную клетку Чехова. Из склепов ехали в редакции диктовать машинисткам скорбные передовицы.
Время было такое. Детей заставляли не только читать, но и любить великую русскую литературу. Что из этого могло выйти? Ничего хорошего.
«Она была, как всегда на вечерах, в весьма открытом по тогдашней моде спереди и сзади платье. Ее бюст, казавшийся всегда мраморным Пьеру, находился в таком близком расстоянии от его глаз, что он своими близорукими глазами невольно различал живую прелесть ее плеч и шеи, и так близко от его губ, что ему стоило немного нагнуться, чтобы прикоснуться до нее. Он слышал тепло ее тела, запах духов и слышал скрып ее корсета при дыхании. Он видел не ее мраморную красоту, составляющую одно целое с ее платьем, он видел и чувствовал всю прелесть ее тела, которое было закрыто только одеждой».
Покуда Пьер жевал сопли, мы с Элен трахались. Чаще всего после бала, когда она, увлажненная, заходила в уборную припудрить декольте. Как демон, я возникал в зеркале позади нее и, глядя в отражение ее глаз, расстегивал скрипучий корсет, выпускал на волю белую грудь, опускал шуршащие подробности нижней юбки, на ощупь отыскивал горячий вход в эту мраморную красоту.
Я никому не рассказывал о наших свиданиях, носил в себе, иногда выплескивая в потолок. Но проницательная бабушка догадалась, в чем дело, и начала заводить гигиенические разговоры о «Преступлении и наказании». Метод суровый, но эффективный. Вспомнишь папашу Мармеладова – и ничего не хочется.
Сама Галина не любила Достоевского, называла его плохим стилистом, которого сильно улучшили западные переводчики. Критикуя его корявую мизантропию, она заодно пихала в меня обед, гигантскую порцию бигуса со свининой и черносливом. Вообще-то, в меню бывало разное: лапша по-флотски, курица с вермишелью, котлеты с макаронами, спагетти с жареной колбасой. Чего только не было. Но запомнился бигус, наверное, из-за повышенной кислотности. Они с Федором Михайловичем образовали ассоциацию и выработали условный рефлекс. Как собака Павлова, я истекаю слюной, проезжая станцию «Достоевская». И наоборот. Когда вижу капусту с мясом, сразу чувствую желание почтительнейше возвратить богу его билет.
Наедине со мной Галина сбрасывала маску зануды и вовсю сплетничала о великих. От нее многим доставалось. Лермонтову за истеричность, унаследованную от отца, убившего себя после домашней постановки «Гамлета». Некрасову за то, что был картежник и врун. Льву Толстому за женоненавистничество.
– Но как же? – спорил я. – Разве Анна Каренина могла поступить иначе? Ведь паровоз символизирует общество, которое наехало на бедную женщину…
– В первую очередь она был дурой, – перебивала бабушка. – Светские дамы девятнадцатого века не раз бросали мужей и сохраняли уважение окружающих. Марья Нарышкина вертела как хотела и законным супругом, и Александром Первым. Авдотья Панаева держала модный салон. Так что не надо мне про паровоз! Умная женщина всегда наладит свою судьбу. В отличие, кстати, от мужчины.
– Ты хочешь сказать, что Каренина была переодетым Толстым, который был неизлечимым подкаблучником?
– Ты знаешь, что он продавал букинистам свои сочинения втайне от Софьи Андреевны. В таких случаях Лев Николаевич говорил, что мужчина должен иметь «подкожные средства».
– Это как в стихотворении Бродского? Пил, валял дурака под кожею…
– Нет. Толстой имел в виду жир. А вот его кузен, Алексей Константинович, тот покончил с жизнью инъекцией морфия. Это было изысканное и современное для второй половины девятнадцатого века самоубийство.
– Говорят, он ошибся в дозировке.
– Самоубийцы не ошибаются. Человеческое им чуждо.
На десерт у нас были декабристы и компот:
– Знаешь ли ты, мой мальчик, что Гавриил Батеньков считал себя масонским богом, управляющим русской историей? Нет? Вот послушай, какие стихи он посылал из тюрьмы царю:
Мне бы тебя хоть одиножды убить.
Тогда бы я прах Твой и рассеял.
А чем? – и подумать нельзя; так мудрено.
Надобно точно знать, на что ты глядел тогда,
когда Бог назначил Тебе умереть.
Невероятно, чтоб Пестель знал ето.
Доселе не с кем и подумать, о Цареубийстве.
Как бы нам, как бы нам, как бы нам.
В боге всегда ищи зачинщика.
Безумный узник Петропавловки был, кажется, единственным гражданином империи, которого боялся император. По всему выходило, что Батеньков сидит ни за что. На Сенатской не был, оружия в руках не держал, солдат не агитировал. Николай хотел освободить Гавриила, но не мог. Сиделец регулярно посылал самодержцу новые стихи о необходимости цареубийства. Мистическая бомбардировка Зимнего дворца из Петропавловской крепости продолжалась двадцать лет. А затем внезапно прекратилась. Заключенный написал в дневнике: «Божественный план исполнен, пора выходить». И вышел, буквально через неделю. Уехал в Томск, где заново учился говорить. Дождался там самоубийства Николая, который, после Крыма, наконец-то понял, о чем были эти записки сумасшедшего.
Наивная советская власть установила Батенькову памятник. В центре Томска, неподалеку от того места, где они со Сперанским проводили заседания ложи «Розовый восток».
Пройдет несколько лет, и, подражая Льву Толстому, я буду сдавать в «Букинист» собрание его сочинений. Тогда вспомню наши домашние семинары веселой науки, а выйдя из магазина на площадь Батенькова, остановлюсь перед памятником, чтобы в который раз услышать странную фразу: здесь все не так, как на самом деле. Она всегда здесь звучит. Эти слова, как воробьи, скачут по площади, заключенной в кольцо трамвайной линии, скачут и чирикают: здесь все не так, как на самом деле.
«Здесь все не так, как на самом деле», – повторяла она глухо, словно репродуктор с другого берега Леты. В последние дни своей жизни она много разговаривала с больничным потолком. В тот пограничный год, когда пошляки дважды отпраздновали приход третьего тысячелетия. Но Галину уже не интересовали наши новости. Ее мысли плутали далеко. Руки обирали одеяло в поисках невидимого.
– Бабушка, посмотри на меня. Ты здесь? – спрашивал я.
– Горький, горький шоколад! – жаловалась она.
Я подносил к ее рту пластиковый клапан кружки-поилки. Всасывая воду, она по-младенчески чмокала. Тонкая струйка бежала по бороздке морщины на подбородке. Вода ненадолго прибавляла сил. Торопясь что-то рассказать, Галина выталкивала из себя слова, но смысл за ними не успевал.
Делать было нечего. Только сидеть и связывать обрывки фраз в подобие текста. Есть такие места, где ничего не поделаешь. Больничные палаты. Их часто показывают в сериалах, чтобы потянуть время.
Палата состояла из двух коек и вялой претензии на уют. Телевизор в углу, серое алоэ на окне, вентилятор под потолком создавали атмосферу «повышенной комфортности». Дверь запиралась изнутри, но приватность не приветствовалась в этом заведении. Больничный персонал ненавидел персональные палаты. Кто-то все время ломился в дверь по нелепым поводам.
Час назад приходила сестра в белом халате с карандашиком смерти в руке. Пробурчала: «ГдездесьИнкаЗайцева». Я ответил, что никакой Инки нет, видите – вторая кровать пустует. Женщина покрутила у виска пальцем, хмыкнула, присела на корточки и, стремительно перемещаясь боком, словно бешеный краб, очертила пространство по периметру комнаты. Удалилась довольная. Через несколько минут из щели между полом и плинтусом полезли тараканы. Реплика сестры была не вопросом, а объявлением войны: «Дезинсектизация».
Они появлялись на свет безо всякого желания. Страдальчески шатаясь, ковыляли на середину комнаты, к центру магического круга, нарисованного медработницей, падали и умирали, дергая лапками.
Лечащий врач, заглянувший проведать Галину, был в шоке. Обещал разобраться и наказать. Хотелось ответить: помилуйте, доктор, вы такой солидный, наверняка маститый, возможно, даже светило. Неужели вы до сих пор не разобрались в человеческой природе? Всего два слова: смертная зависть. С этим ничего не поделаешь. Это само по себе наказание. Разумеется, он все понимал, а возмущался просто так, из вежливости. Старинный знакомый Галины. Лет сорок назад она была членом приемной комиссии и произвела на доктора, в то время зеленого абитуриента, неизгладимое впечатление. Как она говорила! Чистый русский язык журчал у нее на устах.
Доктор ударился в воспоминания. Они встречались и позже, в конце эпохи ГБ, на борту «Михаила Лермонтова». Отважные мореплаватели, немногие избранные, вошедшие в ковчег. Вы, конечно, знаете, что Европу тогда разделяла стена. Да, я помню – соцлагерь, капстраны. Все мы страшно робели. Перед выездом нас учили делать вид, что мы не хотим джинсов, устриц, коньяка, туалетной бумаги, фирменных пластинок, видеомагнитофонов, эротических журналов, жевательной резинки, американских сигарет, продажной любви и немецкого пива. Представляете? Мы не могли хотеть даже пива. По этому поводу Галина Алексеевна цитировала стихи запрещенного поэта: ни съесть, ни выпить, ни поцеловать. Миновать супермаркет с гордым видом диалектического материалиста. Держать марку, что бы это ни значило. Разумеется, не у всех получалось, некоторые кидались к витринам, как дети, с цепи сорвавшись, ели глазами вещи, глазели на путан. Некоторые, многие, почти все, но только не ваша бабушка. Она прогуливалась по Пикадилли, как королева. И по Елисейским полям она шла, как будто там родилась. Галина Алексеевна рассказывала нам обо всем, что мы видели. От нее я узнал, что Елисейские поля – это Элизиум, страна мертвых душ. Очень жаль сейчас видеть нашу дорогую учительницу в таком положении. На полпути к Элизиуму. Но мы всё сделаем, чтобы ей помочь. Поднимем с кровати. Поставим на ноги. Я вежливо кивал. Еще одно пустое обещание. Да, конечно, пожалуйста, вы уж постарайтесь.
Доктора потянуло на философию. Известна ли вам, молодой человек, китайская мудрость: «Нет болезней – мало жить, есть болезни – долго жить»? Нет, такая поговорка мне не известна. Но бабушка, сколько ее помню, всегда лечилась от нескольких хронических болезней, которые атаковали ее здоровье с разных сторон, как гвардейцы кардинала. В детстве я думал о ней как о реинкарнации Д’Артаньяна. Словно мушкетер, она дня не могла прожить без стычки с врагами: диабет, гипертония, мигрень, гастрит, малокровие, подагра. Но каждый раз она выходила победителем. Се ля ви!
Лечащий тихонько рассмеялся. Се ля ви! Между прочим, неглупое сравнение, я вам скажу. Регулярные недомогания закаляют иммунную систему. В борьбе с хворями организм крепнет. С другой стороны, болезнь – это приключение. Никогда не знаешь, чем оно закончится. Даже банальное ОРЗ/ОРВ может отрикошетить на жизненно важные органы. Оборвать, так сказать, нужные ниточки. Поэтому непредсказуемости болезни мы должны противопоставить планомерность лечения. О да! В этом она знала толк. Бабушка делала это красиво. Доктор приподнял бровь. Я объяснил: домашняя аптечка Галины Алексеевны напоминала палитру жизнерадостного импрессиониста. Мане или Моне. Вы должны были видеть их картины во время круиза. Помните музей Оранжери? Это в Париже, рядом с Лувром. Если идти через Тюильри в направлении Согласия, то придете прямо ко входу в музей. Доктор улыбнулся. Почему импрессионисты? Да потому что лекарства в ее аптечке были настоящие, импортного производства, яркие и сочные. У нас таких не делают. Я уверен, что цвет таблеток имеет значение. Врач, прописывающий скучные белые пилюли, просто зануда, который не может добавить красок в жизнь пациента.
Лечащий посмотрел на часы. Как хорошо вы рассказываете! Как будто филологический дух Галины Алексеевны глаголет вашими устами. Но мне, извините, честное слово пора. Заседание. Мы часто заседаем, поэтому так редко видим наших любимых пациентов. Но у вас, кажется, все стабильно. Завтра, надеюсь, мы опять встретимся.
Он убежал, оставив меня одного. Галина была не здесь. Инка Зайцева не в счет. Вам бы такую стабильность, доктор!
Летнее солнце адски нагревало палату через окно, герметично оклеенное по периметру бумажными лентами с синей печатью и надписью от руки «утепление: октябрь 1998». Настенный календарь праздновал год Огненной крысы (1996). Время умерло раньше нас. Древний советский вентилятор гонял по комнате застойный воздух прошлого века. Пять его саперных лопаток, пять затупившихся клинков месили воздух с противным скрежетом. Они качались, как зубы страдающего цингой дракона. Галина хваталась за голову.
– Тебе дует? Выключить? – спрашивал я.
– Дима летит, – бормотала она, глядя в потолок. – За мной.
Эта сцена повторялась каждый день. Как только я запускал вентилятор, чтобы спасти нас от тепловой смерти, бабушка начинала поправлять волосы, прихорашиваясь к возвращению мужа, готовясь взойти на борт его самолета, словно первая леди. Но он все не появлялся, и ожидание вытягивало из нее последние силы. Рука свешивалась с кровати. Веки опускались. Я с тревогой слушал ее дыхание, оно было неровным, обиженным. Дима забыл про нее, развлекаясь в своем царстве бесплатного мороженого.
Ревность оказалась последним якорем, удерживающим Галину. Лежа под вентилятором, она переживала, что Дима прямо сейчас крутит роман с американкой из племени апачей, которую звали А-36. Грозная и прекрасная, несущая двухсоткилограммовые яйца смерти, она имела по два пулемета в каждом крыле, но со всей амуницией была легкой и верткой, как нимфетка. В своих письмах Дима так нахваливал птичку, что Галя ревновала по-настоящему, воображая небесное тело, в которое забирается ее жених. Земных соперниц у Гали не было, но вот американка…
Они подолгу оставались совсем одни там, за облаками, Дима и А-36. В сорок третьем году они встречались чуть не каждый месяц. Он мчался к ней через всю страну и Берингов пролив. Ласковая Аляска ждала советского птицелова, поила его лунным светом, кормила бутербродом из тучной коровы и пшеничного хлеба, подносила к его устам крепкий «кэмел» и бензиновую зажигалку. Но Дима отказывался, потому что любил «Беломор» и прикуривать спичкой от каблука. После обеда он залезал в американку и уходил на Запад, чтобы, пройдя над проливом, вновь оказаться на Востоке. Джаз приятно шипел в радиоприемнике до советского берега, а затем пропадал. Земля под крылом самолета была пуста и безвидна, от Чукотки до Байкала. Дима проносился над ней, как дух божий. Это нахальное сравнение часто приходило ему на ум во время долгого ночного полета. Он и вправду так себя чувствовал, этот пацан за штурвалом: как молодой бог, еще не отдавший команду да будет свет. В кабине темно, только фосфорные зеленые стрелки трепещут на приборной панели и тлеет огонек папиросы. Больше ничего. Беззвездная пустота вокруг и блаженство внутри. Он еще не совершил ошибки творения.
После работы они парились в бане на авиабазе, молодые боги, у которых все было впереди.
– Ну, как новая американка? – спрашивал кто-то, охаживая березой худые ягодицы Димы.
– Такое выделывала! Ты не поверишь, – отвечал Дима, блаженно улыбаясь сквозь густой пар.
Пар становится облаком, а облако – потолком. Крутится-вертится над головой пропеллер воображаемого самолета. Переживая нелепую ревность, бабушка извиняется за то, что ничего не может с этим поделать. За всю эту жизнь. За то, что страшно далека от идеала платиновой блондинки.
– Извини, извини, – повторяет она. – Все исправить. Галина исправит, – и проваливается в молодость, в Нескучный сад.
Не хотел говорить, но скажу. Во время дежурства в больнице я искал понятие о смерти. Держал руку на пульсе, глядя на часы, представляя, что эта секунда – последняя. Раз – и всё. Еще раз – и опять всё. И больше ничего.
Конечно, таким способом шедевра достичь нельзя, но какой-то успех есть.
Конец
Я думал, мы больше не увидимся и последней страницей книги станет мраморная плита с двумя фотографиями, датами, именами-отчествами, цветами – все, как положено у людей. Но я ошибся.
Лет через десять после их смерти я побывал в Нормандии. Не совсем один. У меня была спутница, пожелавшая остаться неназванной. Поэтому назову ее моя радость. Итак, нас было двое плюс два симпатичных русских бандита, владеющих настоящим замком в средневековом игрушечном городке на северо-западе Франции. Они не спешили рассказать, какой волшебный утюг помог им обрести эту чудесную недвижимость. Мы разговорились в самолете:
– Вы кто? – спросил один из них.
– Я… это… журналист.
Язык не поворачивается брякнуть «писатель».
– В смысле, шпион?
Моя радость сидела рядом. Черные очки, длинные ноги и загадочная улыбка подружки суперагента. Бандиты облизывались. Мы взаимно заинтриговали друг друга. Познакомились. Их звали Игорь и Олег. Вещий Олег и гордый варяг. Я сказал, что история, видимо, повторяется, ведь тысячу лет назад их предки оттяпали у французских королей целую страну. Они не поняли шутки. Какие предки? Какую страну? «Не умничай!» – шепнула моя радость. Варяги предложили бросить кости у них в замке. Мы согласились. Ночью кто-то обокрал ювелирный магазин по соседству. Но нас это не касалось. Наутро, за завтраком, было решено поехать в Дюнкерк, вчетвером, на веселый матросский фестиваль, где пьют шампанское и кидаются апельсинами. Парни уверяли, что движуха уже идет, но по дороге моя радость вычитала в Интернете, что фест начнется только через две недели.
И мы завернули в Дьепп, за устрицами и камнями. Припарковались на квадратной площади рыбного рынка у памятника какому-то шевалье в шляпе и при шпаге. Похож на Д’Артаньяна, но не он. В Нормандии есть свои герои. Зачем им тратить бронзу на гасконца? Игорь и Олег знают правильное место с нежнейшими устрицами. Они просят подождать их на площади. Моя радость хочет сидра, я хочу выкурить сигарету у памятника не-Д’Артаньяну, выйти на набережную и ни о чем не думать, повернувшись спиной к Европе. Мир счастливых пенсионеров. Детский мир. Куда ни приедешь – везде старички, катающие шары. Петанк, игра для ревматиков. Моржовые усы, трубки в зубах, последние волосинки на ветру. Старичок зовет друга в песочницу играть шариками: эй, Сезар, выходи! Что? Как он сказал? Сезар? С моря налетает холодный ветер, пробирающий до костей. Судьба обмахнулась веером возможностей. Это Дьепп, детка! На этом месте могла быть твоя бабушка. Этот дедушка мог быть твоим – герой и кавалер, он привез с войны невесту из заснеженной метельной страны. У нее была смешная фамилия Орлофф, ее предки владели рабами, а кто-то из них был любовником императрицы. Бабушка рассказывала сказки о России. О Ленине в красной рубахе, который правит тройкой быстрых коней. О красивых мужчинах, поющих во время дуэли. А еще там было много медведей и коммунистов. Но Сталин всех расстрелял. Осталась только нефть и КГБ. Но мне все равно хочется побывать в России, хотя я знаю, что это дорого и ни к чему. Очень странно чувствуешь себя в параллельном мире. Прямо перед собой я вижу Галину. Вон она – взвешивает серебряную сельдь лиловой женщине из Сенегала. Обычно в магазине работает внук, но иногда ей самой в радость постоять за прилавком, как в старые добрые времена. У нее отменное здоровье, она бодра в свои почти девяносто и с удовольствием разговаривает с покупателями о погоде. Вчера было ветрено, хорошо, что сегодня прояснилось, но завтра опять обещают дождь. Что вы говорите?! Какое дождливое лето! Надо бы поехать в Перпиньян, но я так не люблю эту южную кухню. Честно говоря, у меня изжога от чеснока. Шесть евро двадцать сантимов, силь ву пле. Мерси, мадам!
«Эй, ты чего?» – спросила моя радость, появляясь с бутылкой из-за левого плеча неизвестного шевалье. Я потряс головой. Так, ничего. Завис. Не хочу рассказывать ей о небылом. Пошли! Ребята ждут. У нее в одном месте зудело расшифровать наших попутчиков, насладиться этими новыми русскими феодалами. Мираж настоящей жизни заманивал ее в свои сети. Мы забрались на белую скалу из чистого мела, сидели над морем, чуть выше огневой точки, откуда немецкий пулеметчик строчил по Сэлинджеру 3 июня 1944 года, но я обещал не умничать, мы пили сидр и болтали бог знает о чем. Стаи французских буржуа порхали между облаков на парапланах, разноцветно крылышкуя, с парашютами на животах. Небо над Ла-Маншем не было серым. Цезарь соврал. Оно – голубое. Варяги уклонялись от рассказов о своем прошлом так убедительно, что начинало казаться, будто у них и правда не было прошлого. Мы уворачивались от пикирующих буржуа, которые низенько пролетали над скалой, думая, что это и есть экстрим. «Задолбали!» – сказал один из наших спутников, протянул руку в воздух и дернул пролетавшего над нами за парашютное кольцо. Как будто кишки ему выпустил. «Je mourir!» – закричал несчастный, падая в воду. Лишь недавно прекрасный, взмывавший к тучам, стал таким он нелепым, бессильным, смешным. Полотно парашюта волочилось за ним по воздуху. Он напоминал сперматозоид. Или Икарушку с митьковской картины. Волны Ла-Манша поглотили добычу. Мы помолчали. Затем бандит спросил у товарища:
– Ты охренел, Олежек?
– Не ссы, Игорек.
Спасательный катер примчался через минуту, пара бэтменов в гидрокостюмах приняли Икарушку на борт. Он возмущенно указывал пальцем в сторону белой скалы, нашего разбойничьего гнезда. Игорек и Олежек запечатлели эту сцену камерой с телескопическим объективом.
Потом мы собирали камни для японского сада, который бандиты собирались разбить во внутреннем дворике своего замка. На обратном пути моя радость устроилась на переднем сиденье, рядом с тем, который дернул за кольцо. Всю дорогу они хохотали. Я не участвовал в разговоре, молчал, чувствуя, что мне тоже хочется je mourir. Никогда не смогу развеселить МР с такой легкой жестокостью. Неправильная, ведущая к расставанию мысль, но она появилась, и что делать? Через плечо моя радость бросила на меня взгляд из-под темных очков:
– Ты грустишь?
– Ничуть. Я придумал новую заповедь блаженства.
– Колись.
– Она звучит так: блажен, кто на первом свидании имеет план эвакуации из будущих отношений.
– Ибо?
– Что?
– Ну, если как в Библии, то должно быть «ибо».
– Ибо иди ты на хер!
Мы разосрались навеки. Вернулись на родину и помирились. Потом снова поссорились и разбежались. Через неделю встретились в баре и решили, что не можем жить друг без друга. Я, как маленький, поверил в эту фигню и расслабился, но моя радость оказалась сволочью. Через неделю после своего вечного ко мне возвращения ушла на танцы – и с концами. На звонки не отвечала. В сетях не светилась. Исчезла. Тревога росла у меня в голове, как волшебное дерево, – за ночь до небес. Потеряла телефон. Потеряла совесть. Потеряла себя. Над ней надругались и утопили в реке.
Под утро, намозолив ухо телефоном, решил окатить тревогу холодным душем. Но сделал только хуже, потому что оцифровал исчезновение ее розовой зубной щетки из стаканчика на раковине. Вместо облегчения – слава богу, жива! – зашелся от гнева. Грохнул стаканчик об пол и хлопнул дверью. Оказывается, легче воображать чужую смерть, чем смотреть на свою одинокую зубную щетку и думать, что это навсегда.
За три дня выкурил блок сигарет. Убил желудок. Не мог ни есть, ни спать. Разговаривал сам с собой, запершись в квартире, и даже кричал на себя:
– Она что, больше не придет?
– Обязательно придет.
– Не ври мне, слышишь! Я не маленький. Я, может быть, сейчас заплачу, но я не ребенок, чтобы утешать меня так по-дурацки!
Набрал в скайпе знакомого психотерапевта, авантюриста и фантазера, который скрывался в Черногории от вечных вопросов коллекторских агентств. Изложил ему суть дела. Он хохотал надо мной, скотина:
– Мне бы твои проблемы! Ой, не могу! Девушка ушла, какая драма. Слушай меня. Слушаешь?
– Угу.
– Даю установку: разбитые сердца в задницу. Запомнил? Чао!
Я долго не мог простить психотерапевту издевательского тона. До следующей весны, когда он утонул в Которском заливе, испытывая карнавальный костюм говорящей водяной крысы. Тогда я, конечно, простил. Но осадочек остался.
Потому что после того нашего скайпа я твердо решил обрубить привязанности. На полу в ванной комнате нашел крупный осколок стекла. На сгибе локтя – синюю линию вены. Вспомнил добрый совет древних римлян: резать вдоль, а не поперек. Это важно во многих жизненных ситуациях, но особенно в последней. Двигаться вдоль обозначенного пути, глубоко вспахивая борозду. Поперек – суета, ерунда и бессмысленное кровопролитие. Так делают истерички и дилетанты.
Перед началом операции заглянул в зеркало, где нервно ерзало мое отражение. Пока, двойник! Надеюсь, больше не увидимся. Не трусь! Но он трусил и не хотел расставаться, гипнотизируя умоляющим взглядом. Я смотрел на него не мигая, ждал, когда ему станет понятна бесполезность мольбы. Мы сделаем это. Его взгляд метался по зеркальной поверхности. Что? Предлагаешь зарезаться зеркалом? Он покачал головой. Его губы шевелились беззвучно. Смотри внимательно. Сосредоточься. Хотя бы раз в жизни отвлекись от самого себя. Вдруг не пожалеешь. Ладно, Doppelgänger, давай исполним твое желание. Почему бы и нет? Мы оглядели зеркало, каждый со своей стороны. Не помню, кто первый увидел этот маленький предмет. Я или он. Предмет не больше ногтя, который мы не замечали раньше, в корчах тревоги и ярости.
Ее послание. Она приклеила к зеркалу марочку из счастливого Амстердама. В правом верхнем углу, как на конверте. Выбрала не что попало, а с картинкой, изображающей ядерный мухомор. Как бы в знак уважения к тому, что иллюзии нравятся мне больше, чем настоящая жизнь.
Была у нее, кажется, я уже рассказывал, идея-фикс настоящей жизни, которая бьет ключом где-то рядом, на соседней улице или прямо за стенкой. Поэтому надо ловить сигналы и соглашаться на любые предложения – а вдруг это оно самое? Искать настоящую жизнь, открывая разные двери. Последняя, за которой она исчезла, вела в танцевальную секту, где кружились под заунывную музыку.
Кто она? Не скажу. Во всех файлах я заменил женские имена двумя буквами. Можно расшифровать «моя радость» или как-то иначе. Не имеет значения. Главное, что последняя МР дала мне ключ.
Который я разжевал, проглотил, запил водой из-под крана, отложив на время осколок стекла. Вернулся в комнату, лег на пол и закрыл глаза. Внутри было темно, как до сотворения мира. Ничего не происходило. Потом застучали зубы, по рукам и ногам побежали амфетаминовые мураши. Зачем к благородному веществу добавляют эту дискотечную пошлость? Амфетамин. Лучше уж два пальца в розетку. Или не два. Или не пальца. Или не в розетку. Вот. Кажется, началось.
В дверь позвонили. «Открой!» – крикнул я двойнику. Он метнулся из ванной комнаты послушной тенью, отщелкнул замок. На пороге стояли мои бабушка и дедушка, как живые. Одетые по-воскресному, они выглядели прекрасно. Дима в костюме, при галстуке с бриллиантовой булавкой. Галя с любимой парижской сумкой, на которой бисером вышита Эйфелева башня.
– Конечно, – сказала Галя. – Он ничего не ел. – Из сумки она достала розовую кастрюльку. – Где кухня? Сейчас разогрею пельмени и сделаю блины. Он должен поесть.
– Он должен послушать музыку, – возразил Дима, вставляя в аудиосистему айпод. – Чтобы не страдать херней.
– Это его рабочее состояние. Поверь учителю русского языка. Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда…
– Писать стихи ума не надо, – сурово ответил дед, изучая плейлист. Он знал, о чем говорил. Во время Второй мировой он летал на бомбардировщике, в мирное время работал на военном заводе. – Как ты думаешь, Заппа может помочь этому несчастному? Разбитые сердца – в задницу, а? По-моему, самое то.
– Не клади в бульон слишком много сарказма, – крикнула Галя из кухни.
– Что ты предлагаешь?
– Аохомохоа!
Дима улыбнулся, словно вспомнил приятное.
– Почему бы и нет? Grateful Dead – это позитивно. Хорошее начало для постижения природы любви.
– Много ты в ней понимаешь, Покрышкин! Кто говорил «чтобы сблядовать, достаточно пяти минут»?
– А что, разве недостаточно? Сколько, по-твоему, нужно минут, чтобы сблядовать?
– «Сколько» – это мужской вопрос. Я им не пользуюсь.
Мне стало любопытно, я приподнял голову:
– Вы хотите сказать, что вопросы бывают мужские и женские?
– Конечно! Мужские вопросы прямые как палка. Где, сколько, что делать, кто виноват. Женские обитают в изнанке времени, в шелковой подкладке сиюминутного. И ничего не требуют, а только нежно звенят на ветвях дерева-разговора.
– Помолчи, дорогая, ты мешаешь ему слушать.
Галя рассмеялась.
– Не мешаю, а помешиваю. – Серебряным половником она плеснула на сковороду порцию теста. – Вот вам музыка, мальчики!
Тесто растеклось от центра к краям сковороды, а затем начало чернеть от краев к центру, пока не запеклось в виниловый блин с розовым пятачком лейбла. На соседней конфорке, в кастрюльке, гитарные риффы смачно булькали, наполняя комнату отвальными вибрациями.
Я слушал музыку, зарывшись носом в колючий ворс полового покрытия. Щетина ковра напоминала стриженый газон на лобке моей радости. Легкая колкость всегда присутствовала в наших отношениях. Смеясь, МР говорила, что как бы я ни старался, но лучшие оргазмы – это дело ее собственных рук. Хотелось ее переубедить, но, во-первых, слишком поздно, а главное, что-то мешало трахать ковер в присутствии бабушки и дедушки. Какая-то детская застенчивость. Тень воспоминания о том, что для них это было святое. Ровесники «великого Октября» нежно любили ковры. Зимой выносили их во двор. Вешали на турник и долго били, задыхаясь в облаке пыли, которая никогда не кончалась. По радио передавали песню: на пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. После экзекуции ковры молодели, в них было приятно уткнуться лицом.
Музыка анимирует узор на колючей поверхности. Переплетение линий обретает объем. Темный фон – глубину. Нырнув туда, оказываешься в подвале, где проходят коммуникации, трубы, приносящие воду, уносящие дерьмо. Они соединяются с котлом, нагревающим воду на вечном огне отопительной системы. Эту штуку алхимики отдали сантехникам, когда поняли, что не могут вырастить в ней гомункула. Трепетные стрелки приборов учета. Вентили, которые нужно поворачивать в определенном порядке, чтобы до краев наполнить ванну желания. Иначе ничего не получится. Если трубы засорились и не хватает жара, надо вызвать порнодемона, немецкого водопроводчика с волосами как солома. Он приходит со своим инструментом, насвистывая, продувает стояк, и все становится хорошо. Демон говорит:
– Техника – мужская сторона любви. Искусство – женская. Чтобы это понять, тебе нужно слетать на луну.
– Серьезно?
– Ja. Сейчас бабушка перевернет блин на женскую сторону, и мы стартуем во время проигрыша «Mountains of the Moon».
– Дед, это ты в таком странном облике?
– Natürlich, – отвечает он. – Разве ты не знал, что моя мать была немкой?
– Он многого не знает, – говорит бабушка. – Оттого и бродит в потемках. Но мы ему поможем.
– Как?
– Поговорим об этом на Луне, милый.
Я думал, они подшучивают надо мной, как в детстве. Это было суровое время. Воспитание по доктору Споку. «Педагогическая поэма». Считалось, что жизнь не сахар. Ученые запрещали баловать детей. На детские запросы к мирозданию, начинающиеся словами «я хочу», взрослые отвечали «А я хочу на луну». Наверное, и сейчас что-то в этом духе. Мы не можем улететь из подвала. Разобьемся о потолок, как яйца.
– Не бойся, – успокаивает Галина. – Поверь, мы сделаем это! Неужели тебе хочется вечно сидеть в андеграунде?
– Интересная перспектива. Я подумаю.
– Ты только что подумал и создал еще одну никому не нужную вечность. Не будь как Федор Михайлович. Не думай – поверь.
– Я запутался. В чем разница?
– Вера ничего не создает. Всё принимает как есть. Огонь принимает любые формы. Сжигает мусор, закаляет металл.
– Огонь! – кричит Дима. – Жжем библиотеку научной фантастики. Das ist fantastisch! «Туманность Андромеды» в топку! «Солярис» в топку! Разгоняемся до первой космической.
Оказалось, что разгоняться до первой космической легко и приятно. Вспыхнуло бледное магниевое пламя. Так делали на заре кинематографа, изображая мгновенное перемещение. Мы вознеслись на орбиту и немного покрутились там, чисто для удовольствия. Потом бросили в топку еще одну стопку НФ, и Луна приняла нас на свою белую грудь. Лунные горы ослепляли, голубая лунная река стрекотала цикадой.
Мои спутники обрели красоту и молодость. Они стали черно-белыми, как в старом фильме, но это меня не касалось. Она попросила звать ее Электрой. Он сказал, что он – Том и в доказательство показал банджо. Черно-белая радуга соединяла их макушки. Надо было раскрасить ее вручную. Хорошо, что аптечка и беличьи хвосты всегда под рукой. Пестиком мы истолкли в тычинке красивые таблетки. Изумрудные, лазоревые, пурпурные, никому теперь не нужные. Но какой цвет! Какие линии! Чтобы мы не скучали, Том ударил по струнам со всей блюзовой силы, затянул песню на трех языках – русском, английском, эльфийском:
Черный ворон
The carrion crow
Риг де рол
да да да да да да да.
Счастье было полным и глупым, как завсегдатай «Макдональдса». Лунная радуга и хорошая компания. Что еще нужно, чтобы остаться в вечности? Мы отлично провели вечность, нежась на белом грунте. Электра и Том рассказывали, как прекрасно быть мертвым, какая это гармония со вселенной, какое блаженное спокойствие охватывает, когда присоединяешься к большинству.
– И не нужно бриться, – подмигивал Том.
– Но как же, – спрашивал я. – Тихая радость дышать и жить? А любовь?
– Я не помню, – отвечала Электра. – Любовь была редкой гостьей на нашем пиру. Люба жила в Москве, приезжала редко, всегда была занята, потому что снималась в фильмах. Ей дали народную артистку, но это ее не радовало. Вечно в плохом настроении. Помнишь, какие открытки она присылала нам под конец?
– Я не помню, – отвечал Том. – Но у меня все под рукой. – Из чулана он достал коробку с надписью «Новогодние открытки» и начал читать:
«Галка, дорогие! Поздравляю, моя дорогая! Здоровья, радости и всего светлого! Если бы!?! Сколько можно писать и получать такое, что никак не сбудется. Привет Диме. Возили в Челябинск Инку. Постарела! Муж ее с тремя детьми оставил, женился на молодой и уже умер. Умер Тарковский во Франции. Галя, такая жизнь страшная, ни писать, ни говорить не хочется.
Мир этот бесконечен.
Он бесконечно обеспечен.
Он печально хаотичен.
В начале несомненно личен.
В конце стандартно безразличен.
На кой же черт он сдался мне?
Так писал Коля. Я ни во что не верю. Только природа красива, и когда это замечаешь – обретаешь силы. А творения рук человеческих – диву даешься, думаешь – а есть смысл? Отснялась в телефильмах „Деревня моего детства“, „Возрождение“, „Жизнь Клима Самгина“ – „Анфимьевна. Верую в любовь“».
– Коля был талантливый мальчик, – вздохнула Электра. – Рано пересек черту. Ты не бойся – все люди делают это.
– Я ему сочувствую. Хотя стихи – ужасные.
Вот этого не следовало говорить. Они разозлились. Лопнули струны банджо, полоски радуги смешались в серо-бурую муть. Том, отбросив бандуру, воскликнул, горестно кривя рот:
– Плохие новости, детка. Мы опять на Земле. Это Лунные горы. Ты слышишь звуки?
– Да, милый. Волосы шевелятся на голове и под мышками. Ветер дальних странствий приносит с невольничьих рынков запах бараньей похлебки и бла-бла-бла людских наречий. Мы у истоков Нила. Кто виноват, что так получилось?
– Он! – Том указал на меня. – Землянин. Дослужился до генерала и оживляет мертвых.
– Ты уверен? Но ведь я носила его на руках, баюкала и не спала ночами.
– А могла бы кинуть в реку Москву. Риг де рол! Давай кинем его сейчас. В Нил. Как Моисея.
– Нет-нет-нет! – взмолилась Электра. – Я тебя очень прошу. Давай оставим ребеночка.
– Но разве можно оставить его таким? – нахмурился он. – Это непедагогично. Что делать?
– Я знаю-знаю! – закричала она. – Мы сыграем свадьбу.
Так решилась моя судьба. Они устроили совет да любовь, выбрали президиум и нижнюю палату. Во время голосования хихикали и долго спорили, кого отдать мне в жены: мальчика или девочку. Сошлись на том, что от девочек больше сансары. Том выступал за зелененькую. Электра хотела пухляшку, с вытекшими глазками. Прения шли на трех государственных языках зазеркалья. Наконец они договорились, упаковали мою радость в целлофан, обвязали лентой и усадили рядом со мной, во главе стола, уставленного яствами и питьем. В чашах пенилось заздравное занзибарское. На тарелках морщилось мясо. Ножка мамонта. Крылышко моли. Рыбий язык. Шея жирафа. Щеки волка. Защечные мешки обезьян Старого света. Килька в сперме кашалота. Ноздри зебры. Веки ленивца. Вымя ехидны. Свиное ухо. Бараньи глаза. Черный ворон, фаршированный белым лебедем. Половинки сердец, начиненных мозгами.
– Пировать – так с музыкой! – кричал Том, обнимая Электру, как гитару. – Что сидишь, женишок? Целую свою, пока целая!
Я медленно разворачивал обертку. Они исполняли быстрый народный танец. Было страшно, как в сказке. Лицо невесты было размыто тлением, не в фокусе. На руках, на груди что-то белое, как жирок в колбасе, подозрительно шевелилось. Я помню день, когда она выдавила прыщ. Жирный и толстый, с черной головкой. Думала, я не смотрю, и сама его рассматривала. Девочки любят уродство. Больных котят. Некрасивых подруг. Рыдать на похоронах. Целовать покойников. Мертвые губы к живым губам. Зачем они это делают? Представишь себя на их месте – и становится странно. Я, может быть, тоже хотел бы же мурир. Но это опасная работа. Раньше с ней справлялись поэты. Но их не осталось, ни одного. Все вымерли. Стоило так подумать – и пришло удушье. Паника. Беззащитность новорожденного с пуповиной на шее. Весь в материнском дерьме. Сознание выключилось, как трус. Думал, никогда не приду в себя.
Через тысячу кальп два голоса бранились на границе жизни и чего-то иного:
– Это было грубо. Я не ожидала от тебя.
– Никто не ожидал. В этом и смысл.
– Никогда так не делай!
– Я ни при чем. Он все сделал сам.
Почему темно? Ах да, глаза. Органы чувств. Надо ими воспользоваться. Открыл: знакомая обстановка. Планета Земля. Родной город. Home Sweet Home. Любимая музыка. Я лежу на полу, но, судя по окружающему беспорядку, совсем недавно был очень активен. Возможно, даже танцевал. Во всем теле приятная легкость и пустота, словно в тюбике зубной пасты, до конца исполнившем свой долг. Блаженная лень, отрицающая любую форму суеты. Чистить зубы, давить прыщи, резать вены. Все это напрасный труд. Перезагрузка состоялась. Я не жалел о том, что съел нарисованный мухомор. ЛСД – детский лепет по сравнению с такими сильными галлюциногенами, как близкие люди. Живые или мертвые, они всегда с тобой. Мир заливал ровный ясный свет понимания. Верный признак того, что трип еще не окончен. Я услышал голос Галины:
– Прости. Мы сегодня болтали глупости, но это потому, что ты разговаривал сам с собой.
– Знаю.
– …а это ни к чему хорошему не ведет.
– Согласен.
– Пора тебе покинуть концлагерь иллюзий. И лучше всего – прямо сейчас.
– Не возражаю. У меня давно все готово для побега. Но каждый раз кажется, что чего-то не хватает для завершения истории. Какой-то мелочи. Нескольких точных слов. Вы не могли бы меня выслушать? Оценить, высказать свое мнение? Я хочу рассказать о девушке на фотографии. Вы не против?
Никто не ответил. И не должен был отвечать.