Книга: Ванька-ротный


Ванька ротный
фронтовые мемуары (1941-1945)
"… и каждый из них, умирая, хотел что-то сказать.
Сказать тем, кто останется после них жить
на этой земле, пропитанной их кровью.
Эти мысли и не дают мне покоя."
Сведения о рукописи "Ванька ротный" гвардии капитана запаса Шумилина Александра И льича
Рукопись охватывает период Великой Отечественной Войны с августа 1941 по апрель 1944 г. и затрагивает события которые разворачивались на
Фронтах:
Резервный фронт (21.09 – 07.10.41),
Западный фронт (07 – 21.10.41),
Калининский фронт (21.10.41 – 02.10.43),
1 Прибалтийский фронт (02.10.43 – 15.04.44)
Оборонительных операциях:
Вяземская операция (02 – 13.10.41),
Калининская операция (10.10 – 04.12.41)
Наступательных операциях:
Калининская операция (05.12.41 – 07.01.42),
1 Ржевско-Вяземская операция (08.01.41 – 20.04.42),
Бои у города Белый (02 – 27.07.42),
1 Ржевско-Сычевская операция (30.07 – 23.08.42),
2 Ржевско-Сычевская операция (25.11 – 20.12.42),
2 Ржевско-Вяземская операция (02 – 31.03.43),
Смоленская операция (07.08.43 – 02.10.43), * главы 25-31
Духовщинско-Демидовская операция (14.09 – 02.10.43)
А так же в боях местного значения, вплоть до начала Белорусской стратегической наступательной операции.
Наступление на Витебск (03.10.43 – 12.12.43),
Городокская операция (13 – 18.12.43),
Наступление под Витебском (??.02 -??.03.44)
Рукопись включает в себя отдельные части, каждая из которых имеет собственную нумерацию страниц.
1941 год – части… 1-12, 360 стр.
1942 год – части 13-18, 290 стр.
1943 год – части 19-38, 400 стр.
1944 год – части 39-46, 160 стр.
Общий объем рукописи превышает 1200 машинописных листов, отпечатанных через 1,5 интервала. Каждый лист насчитывает 40-42 строк по 65-70 знаков. Автор работал над руописью, в течении восьми лет, до последнего своего часа. К сожалению, многое не успел, в том числе иллюстрации остались "за кадром".
Все описанные события восстановлены по памяти, основным источником хронологии событий были письма с фронта. Например, складки местности описаны с такой точностью, что я сумел выйти на местности в конкретную точку по её описанию.
В 1984 году, в издательство "Воениздат" на рецензию были переданы части 1-8 и 16.
Рецензия
Вот краткие хвалебные выдержки из рецензии:
"Знакомство с рукописью позволяет сделать вывод о том, что автору есть о чем рассказать читателям…
Подкупает искренность, красочность отдельных зарисовок, касающихся солдатских будней, трудных, изнурительных маршей, тех невзгод, которые выпали на долю красноармейцев и командиров в начальный период войны. Все это, несомненно, является достоинством рукописи, говорир о том, что автор в определенной мере владеет пером…
Слов нет, автором проделана большая работа, но в представленном виде рукопись не отвечает требованиям, которые предъявляются к военным мемуарам…"
* * *

В октябре 1975 года я получил письмо от комсомольцев военно-патриотического отряда "Маресьевец" школы № 42 г. Калинина с просьбой рассказать о боях за ст. Чуприяновка.
Обстоятельства сложились так, что с тех пор я решил привести в порядок свои воспоминания, я выполнил просьбу ребят, написал тогда о боях за ст. Чуприяновка.
Собственно то первое мое письмо и послужило началом, восстановить подробно в памяти все пережитое.
Сейчас, когда финиш недалеко, хочется успеть побольше сделать. Свободного времени мало, я то болею, то работаю, а время бежит быстрее мысли.
В те суровые дни войны вся тяжесть в боях по освобождению земли нашей легла на пехоту, на плечи простых солдат. Получая пополнение в людях, мы вели непрерывные бои, не зная ни сна, ни отдыха.
Захлебываясь кровью и устилая трупами солдат эту прекрасную землю, мы цеплялись за каждый бугор, за каждый куст, за опушки леса, за каждую деревушку, за каждый обгорелый дом и разбитый сарай. Многие тысячи и тысячи наших солдат навечно остались на тех безымянных рубежах.
В декабре 1941 года мы были плохо обеспечены оружием и боеприпасами. Артиллерии и снарядов практически не было. У нас, в стрелковых ротах, были только винтовки и десяток патрон на брата.
Время было тяжелое, враг стоял под Москвой. Вам трудно будет представить, какие это были бои. Немец был вооружен до зубов, его артиллерия разносила наши позиции не жалея снарядов…
Очень многие из вас, имея поверхностное представление – что такое война, самоуверенно считают, что они в достаточной степени осведомлены. Про войну они читали в книжках и смотрели в кино.
Меня, например, возмущают "книжицы про войну", написанные прифронтовыми "фронтовиками" и "окопниками" штабных и тыловых служб, в литературной обработке журналистов.
А что пишут те, которых возвели до ранга проповедников истины? Взять хотя бы К.Симонова с его романами про войну. Сам К.Симонов войны не видел, смерти в глаза не смотрел. Ездил по прифронтовым дорогам, тер мягкое сидение легковой машины. Войну он домысливал и представлял по рассказам других, а войну, чтобы о ней написать, нужно испытать на собственной шкуре! Нельзя писать о том чего не знаешь. О чем может сказать человек, если он от войны находился за десятки километров?…
Многие о войне судят по кино. Один мой знакомый, например, утверждает, что когда бой идет в лесу, то горят деревья.
– Это почему? спросил я его.
– А разве ты в кино не видел?
По кино о войне судят только дети. Им непонятна боль солдатской души, им подают стрельбу, рукопашную с ковырканиями и пылающие огнем деревья, перед съемкой облитые бензином.
Художественное произведение, поставленное в кино или так называемая "хроника событий" дают собирательный образ – боев, сражений и эпизодов – отдаленно напоминающий войну.
Должен вас разочаровать, от кино до реальной действительности на войне, очень далеко. То, что творилось впереди, во время наступления стрелковых рот, до кино не дошло. Пехота унесла с собой в могилу те страшные дни.
Войну нельзя представить по сводкам Информбюро. Война, это не душещипательное кино про любовь на "фронте". Это не панорамные романы с их романтизацией и лакировкой войны. Это не сочинения тех прозаиков-"фронтовиков", у которых война только второй план, фон, а на переднем, заслоняя все пространство в кружевах литературных оборотов и бахроме, стоит художественный вымысел. Это не изогнутая стрела, нарисованная красным карандашом и обозначающая на карте острие главного удара дивизии. Это не обведенная кружочком на карте деревня…
Война – это живая, человеческая поступь – навстречу врагу, навстречу смерти, навстречу вечности. Это человеческая кровь на снегу, пока она яркая и пока еще льется. Это брошенные до весны солдатские трупы. Это шаги во весь рост, с открытыми глазами – навстречу смерти. Это клочья шершавой солдатской шинели со сгустками крови и кишок, висящие на сучках и ветках деревьев. Это розовая пена в дыре около ключицы – у солдата оторвана вся нижняя челюсть и гортань. Это кирзовый сапог, наполненный розовым месивом. Это кровавые брызги в лицо, разорванного снарядом солдата. Это сотни и тысячи других кровавых картин на пути, по которому прошли за нами прифронтовые "фронтовики" и "окопники" батальонных, полковых и дивизионных служб.
Но война, это не только кровавое месиво. Это постоянный голод, когда до солдата в роту доходила вместо пищи подсоленная водица, замешанная на горсти муки, в виде бледной баланды. Это холод на морозе и снегу, в каменных подвалах, когда ото льда и изморози застывает живое вещество в позвонках. Это нечеловеческие условия пребывания в живом состоянии на передовой, под градом осколков и пуль. Это беспардонная матерщина, оскорбления и угрозы со стороны штабных "фронтовиков" и "окопников"
(батальонного, полкового и дивизионного начальства).
Война это как раз то, о чем не говорят, потому что не знают. Из стрелковых рот, с передовой, вернулись одиночки, их ни кто не знает, и на телепередачи их не приглашают, а если кто из них решается что-то сказать о войне, то ему вежливо закрывают рот…
Напрашивается вопрос. Кто, из оставшихся в живых очевидцев может сказать о людях воевавших в ротах? Одно дело сидеть под накатами, подальше от передовой, другое дело ходить в атаки и смотреть в упор в глаза немцам. Войну нужно познать нутром, прочувствовать всеми фибрами души. Война это совсем не то, что написали люди, не воевавшие в ротах.
Тех, кто был во время войны приписан к ДКА, я делю на две группы, на фронтовиков и "участников", на тех солдат и офицеров, которые были в ротах, на передовой во время боя и на тех, кто у них сидел за спиной в тылу. Война для тех и других была разная, они о ней и говорят и помнят по-разному.
Это были не человеческие испытания. Кровавые, снежные поля были усеяны телами убитых, куски разбросанного человеческого мяса, алые обрывки шинелей, отчаянные крики и стоны солдат. Всё это надо пережить, услышать и самому увидеть, чтобы во всех подробностях представить эти кошмарные картины.
Вот и сейчас, я пишу и вижу, они передо мной как живые. Я вижу изнуренные, бледные лица солдат и каждый из них, умирая, хотел что-то сказать. Сказать тем, кто останется после них жить на этой земле, пропитанной их кровью. Эти мысли и не дают мне покоя.
С какой безысходной тоской о жизни, с каким человеческим страданием и умоляющим взором о помощи, умирали эти люди. Они погибали не по неряшливости и не в тишине глубокого тыла, как те сытые и согретые теплом деревенских изб и жителей прифронтовые "фронтовики" и "окопники".
Они – фронтовики и окопники стрелковых рот, перед смертью жестоко мёрзли, леденели и застывали в снежных полях на ветру. Они шли на смерть с открытыми глазами, зная об этом, ожидая смерть каждую секунду, каждое мгновение и эти маленькие отрезки времени тянулись, как долгие часы.
Осужденный на смерть, по дороге на эшафот, так же как и солдат с винтовкой в руках, идущий на немца, всеми фибрами своей души ощущает драгоценность уходящей жизни. Ему хочется просто дышать, видеть свет, людей и землю. В такой момент человек очищается от корысти и зависти, от ханжества и лицемерия. Простые, честные, свободные от человеческих пороков солдаты каждый раз приближались к своей последней роковой черте.
Без "Ваньки ротного" солдаты вперед не пойдут. Я был "Ванькой ротным" и шел вместе с ними. Смерть не щадила никого. Одни умирали мгновенно, другие – в муках истекали кровью. Только некоторым из сотен и тысяч бойцов случай оставил жизнь. В живых остались редкие одиночки, я имею в виду окопников из пехоты. Судьба им даровала жизнь, как высшую награду.
С фронта пришли многие, за спиной у нас много было всякого народа, а вот из пехоты, из этих самых стрелковых рот, почти никто не вернулся.
На фронте я был с сентября сорок первого года, много раз ранен. Мне довелось с боями пройти тяжелый и долгий путь по дорогам войны. Со мной рядом гибли сотни и тысячи солдат и младших офицеров.
Многие фамилии из памяти исчезли. Я иногда даже не знал фамилии своих солдат потому, что роты в бою хватало на неделю. Списки солдат находились в штабе полка. Они вели учет и отчитывались по потерям. Они высылали семьям извещения.
У лейтенанта в роте были тяжелые обязанности. Он своей головой отвечал за исход боя. А это, я вам скажу, не просто! – как в кино, – сел и смотри. Немец бьет – головы не поднять, а "Ванька ротный" – кровь носом, должен поднять роту и взять деревню, и ни шагу назад – таков боевой приказ.
Вот и теперь у меня перед глазами ярко встали те кошмарные дни войны, когда наши передовые роты вели ожесточенные бои. Всё нахлынуло вдруг. Замелькали солдатские лица, отступающие и бегущие немцы, освобожденные деревни, заснеженные поля и дороги. Я как бы снова почувствовал запах снега, угрюмого леса и горелых изб. Я снова услышал грохот и нарастающий гул немецкой артиллерии, негромкий говор своих солдат и недалекий лепет засевших немцев.
Вероятно, многие из вас думают, что война, это интересное представление, романтика, героизм и боевые эпизоды. Но это не так. Никто тогда ни молодые, ни старые не хотели умирать. Человек рождается, чтобы жить. И никто из павших в бою не думал так быстро погибнуть. Каждый надеялся только на лучшее. Но жизнь пехотинца в бою висит на тоненькой ниточке, которую легко может оборвать немецкая пуля или небольшой осколочек. Солдат не успевает совершить ничего героического, а смерть настигает его.
Каждый человек имеет силы сделать что-то большое и значительное. Но для этого нужны условия. Должна сложиться обстановка, чтобы порыв человека заметили. А на войне, в стрелковом бою, где мы были предоставлены сами себе, чаще случалось, что каждый такой порыв оканчивался смертью.
На войне наша земля потеряла миллионы своих лучших сыновей. Разве те, кто в сорок первом с винтовкой в руках и горстью патрон шел на верную смерть, не был героем?! Я думаю, что именно они являются теми единственными и истинными героями. Они спасли нашу землю от нашествия и их кости остались в земле. Но и по сей день, лежат они неизвестными, ни могил, ни имен.
Только за одно то, что перенес русский солдат на своих плечах, он достоин священной памяти своего народа! Без сна и отдыха, голодные и в страшном напряжении, на лютом морозе и все время в снегу, под ураганным огнем немцев, передовые роты шли вперед. Невыносимые муки тяжелораненых, которых подчас некому было выносить, всё это выпало на долю, идущему на врага пехотинцу.
Жизнь человеку дается один раз и это самое ценное и дорогое, что есть у каждого. На войне были многие, но еще больше – десятки миллионов, остались лежать в мертвой тишине. Но не все живые и вернувшиеся знают, что значит идти в составе стрелковой роты на верную смерть.
В моей книге "Ванька ротный", больше человеческого горя и страданий, чем радостных и веселых боевых эпизодов.
Возможно мне не удалось в полной мере и беспристрастно передать всё пережитое, но всё это было в моей жизни, на войне, в действительности и на самом деле. Вы должны понять эту суровую правду!
Окопник сразу и без домысливания понял бы меня. И не только понял, а и добавил от себя, что я больно мягко рассказал про некоторые штрихи войны и не сказал от всей души крепкое слово о войне.
Почитайте книгу "Ванька ротный" и подумайте, чем отличается фронтовик от иного "фронтовика"
и что такое война!

Воинская часть, куда я был назначен после окончания училища, формировалась в лесных лагерях на берегу оз. Сенеж. Боевое назначение и номер нашей новой части мы в первые дни не знали. Мы знали твёрдо только одно, что после получения комплекта людьми и техникой мы будем отправлены сразу на фронт. Солдаты на сборный пункт к нам прибывали командами из Москвы. Они прибывали проходящими поездами и потом пешком добирались вокруг озера до лагерей. Здесь их встречали, сортировали и распределяли. Жили мы в то время в палатках отдельно от летних лагерей. Потом прибывших в сопровождении старшин разводили по ротам. Обмундирование новобранцы получали на сборных пунктах в Москве, куда они по призывным повесткам приходили со своими матерями, жёнами и детьми. Предъявив повестки при проходе железных ворот, они прощались с родными и исчезали в дверях казармы. потом через некоторое время они показывались где-то в узком окне, махали руками и смотрели в толпу, стоявшую за железной оградой. Скомплектованные команды выезжали на машинах с другой стороны. А матери, дети и жёны оставались стоять в надежде ещё раз увидеть их в узком окне. по дороге со станции вскоре загрохотали двуколки, походные кухни и армейские повозки. Потом пропылили две крытых полуторки и одна легковая Эмка. Повозки, машины и люди не сразу входили в воинский строй. Сначала была толкотня, беготня и обычная неразбериха. Решали кого куда направлять. Потом постепенно всё вставало на место. В роты поступили повозки, лошади и повозочные. Московские ломовые извозчики, отобранные быть при обозе, посматривали на солдат огневых расчётов со стороны и были довольны, что их приставили к лошадям и телегам, а не сунули к пулемётам и пушкам. Там, где будут стрелять и убивать, на телегах не ездят! В наших огневых взводах, нужно сказать, простых солдат-стрелков не было. Нас комплектовали специалистами орудийных и пулемётных расчётов. Среди наших солдат были командиры орудий, пулемётных расчётов, наводчики, заряжающие, оружейники, телефонисты. Годами все солдаты были не молоды. Средний возраст их составлял сорок лет. Были во взводе два-три молодых паренька, они выполняли обязанности подносчиков снарядов и патронов. Нашей части присвоили номер, и она стала называться – 297ой арт.-пул. батальон Ура Западного фронта. (УР – это укрепрайон.) Мы должны были занять огневые бетонные доты укрепрайона, протянувшегося от Ярцево до Осташково. Нам этого не говорили, мы этого и недолжны были знать. Через несколько дней в роты прибыли офицеры запаса. Появился и наш командир роты старший лейтенант Архипов. Ему было тогда около тридцати. Архипов был среднего роста, волосы русые, лицо простое, открытое. У него была добрая улыбка. Но улыбался он не всегда. Чаще он был сосредоточен и занят делами роты. Он был кадровый офицер и прибыл в наш батальон из другой воинской части. Движения и речь у него были спокойными, команды и приказы он отдавал негромко, без крика. Он вроде не приказывал, а как будто просил. сначала это было непривычно. На нас прежде орали и от нас требовали подавать команды зычным голосом, а тут был простой деловой разговор. Вскоре мы перестали суетиться, вертеться на каблуках и козырять навытяжку. Его исключительное спокойствие и, в первую очередь, рассудительность передались нам, и было неудобно подходить к нему чеканным шагом, шаркать ногами и стучать каблуками, как этого требовали от нас в училище. Вся фигура Архипова и его внимательный вид говорили за то, на войне нужна голова, а не строевая выправка. Дисциплина не в лихости и не в ухарстве, а в простых русских словах, без надрыва и крика. Вот что теперь должно было войти в нашу жизнь. На войне не нужно будет козырять и бить каблуками. На войне нужна спокойность и выдержка, терпение и спокойствие, точное выполнение приказа и команды. На войне тебя солдат должен понимать с полголоса. В один прекрасный день нам привезли и выдали каски. Командир роты призвал нас к себе и сказал:
– Приучите солдат носить каски! И не на заднице на поясном ремне, а на голове, как положено бойцу по Уставу. Вижу, ходят они и бросают их, где попало. Солдаты были сугубо гражданские лица. За обедом и в курилке у них рука тянулась под скулы. Было всё время желание ослабить ремешок.
– Вот когда с котелком они будут управляться, не снимая каски, – считайте, что вы их уже приучили! Со дня на день ожидалась отправка на фронт. На учебных площадках мы обучали солдат штыковому бою – колоть штыками и работать прикладами.
– Нам это не нужно, товарищ лейтенант! Мы будем, как финны, в ДОТах сидеть. Я им не возражал, но всё же сказал:
– Без физических упражнений немыслима одиночная подготовка бойца. Без физических упражнений солдат не солдат!
– Ну если как учебные, то давай командуй, наш лейтенант! Уже с первых шагов они решили опробовать и прощупать меня. Они хотели узнать, насколько я упорный, придирчивый или покладисто уступчивый. Солдат всегда норовит всё знать наперёд. Я не обрывал их окриками и спокойно требовал своего. Они нехотя подчинялись, но каждый раз старались отлынить, шла проба сил. В конце концов я им сказал:
– Вы призваны в действующую армию и обязаны выполнять то, что от вас требуют. Кто будет отлынивать и сопротивляться тихой сапой, я вынужден буду на тех подать рапорт для отчисления в пехоту! Последние мои слова подействовали на них исключительно проникновенно. И вот настал день отправки на станцию и погрузки в эшелон. роты построились в походную колонну и узкая, мощёная булыжником дорога под грохот солдатских сапог поползла назад. Повозки, гружёные фуражом, продовольствием, амуницией и боеприпасами, стуча и пыля, потянулись на станцию вслед за ротами. За ними повзводно зашагали солдаты. Взвод за взводом, рота за ротой уходили на войну. и теперь эта узкая мощёная дорога вокруг Сенежа стала для нас началом неизвестного пути. Смотреть на солдат было грустно и весело. Здесь действовал какой-то пёстрый закон живой толпы. Одни шли легко, шустро и даже весело, другие наоборот понуро, устало и нехотя. Одни торопились, вырывались из строя куда-то вперёд – другие наоборот, едва по земле волочили ноги. Тут одна мощёная булыжником дорога – в стороны не свернёшь. День был жаркий и душный. Некоторым из солдат скатки шинелей с непривычки тёрли и жгли шеи, и они без конца их перекладывали на плечо и вертели головами. Из-под касок по вискам и щекам сбегали струйки пота. Гимнастёрки на спине быстро намокли от пота и потемнели. Одни из солдат под тяжестью ноши молча, ни о чём не думая (в рукописи так – прим. наборщика). Другие наоборот, шли, переговаривались, шутили, радуясь, что покончили со старой жизнью. У третьих на потном лице выражалась тоска и они мысленно хоронили себя, прощаясь с родными и жизнью. Разные, видать, были в походной колонне, одетые в солдатскую форму, люди. Тут были прямые и сильные, сгорбленные, как на похоронах. Живой поток солдат покачивался над дорогой. Он то расплывался на всю ширину до обочины, то, сгрудившись около выбитой ямы, топтался на месте. Было жарко, безоблачно и безветренно. Дорожная пыль першила в душе (в рукописи так – прим. наборщика) и лезла в глаза. Пахло яловой дублёной кожей, новой кирзой, сбруей, дёгтем телег и лошадиным помётом. В движении, в жаре и в пыли, шагали солдаты и с непривычки потели. У одного каска откинут на затылок, у другого – на носу. Из-под касок смотрели раскрасневшиеся потные лица. колонна двигалась то замедляя, то ускоряя свой шаг. Потом, на фронте, на прифронтовых дорогах, они усвоят свой неторопливый ритм и шаг, пойдёт без рывков, экономя силы. Они пойдут медленно и как бы нехотя, не соблюдая строя и не сбиваясь с ноги. Они со временем забудут, как солдаты ходят в ногу. «Ать-два, левой!» – это не для войны. Уметь пройти полсотни километров в полной солдатской выкладке – это, я вам скажу, высший класс для солдата. Эшелон тем временем стоял на товарных путях. Десятка два товарных, открытые платформы и один пассажирский зелёный. рота вышла на поворот дороги, и мы увидели стоящий на путях эшелон. Для солдат и лошадей – товарные двухосные, для повозок и кухонь двухосные открытые платформы. Зелёный пассажирский – для медперсонала и нашего штаба. Для солдат товарные были оборудованы деревянными нарами в два яруса из простых не струганных досок. Солдат построили вдоль состава, осталось только узнать, в какой вагон их вести. Но состав был не полностью укомплектован, план посадки пришлось изменить. Когда всё было распределено и расписано, солдаты, толкаясь, побежали к вагонам. Им не терпелось пробраться вперёд. Залезая в вагон, они галдели, толкались и спорили. Каждый старался занять поудобней место. Они, как школьники на экскурсии, бестолково цеплялись друг за друга, работали локтями и расчищали себе путь. Как будто было важно, где на нарах достанется им место. Они влезали по настилу, растопыривали руки, кричали, что тут занято и махали руками своим дружкам. Все они орали и старались перекричать друг друга. Вот люди! Едут на фронт и даже тут не хотят прогадать. Я пытался было удержать своих солдат и строем подвести к вагону, организованно по отдельности запустить их вовнутрь. Но где там! Разве их удержишь, если соседние взвода кинулись толпой к подножкам. Когда я поднялся в вагон, солдаты успели разместиться. Страсти их поугасли, они успокоились. Теперь, когда лежачие места были ими отвоёваны, и у каждого в головах остались лежать мешки и скатки, лежать на нарах стало не интересно. Теперь они полезли все снова вниз, попрыгали на землю и кучками стояли у вагона. Я имел старание всех вернуть назад. Теперь им важно было занять место у открытой двери вдоль перекладины. Они хотели иметь хороший обзор и знать, что делается снаружи. Кто ходит вдоль состава и о чём разговаривает. Они торчали в дверях до тех пор, пока я не вернулся от командира роты и не приказал им занять на нарах свои места. Начальство хотело проверить, нет ли свободных мест в солдатских вагонах.
– Внизу у вагона могут стоять только я и старшина, у перил в дверях – дежурные по взводу! Солдаты нехотя полезли на нары. Одеты они были все одинаково, а одежда сидела и висела по-разному на них, да и характером они были все разные. Они успели подружиться по двое-трое и уселись вместе на нарах. А так вообще они фамилий друг друга не знали. Были среди них молчаливые и угрюмые, были, как обычно, болтуны и вертлявые Эти повсюду совали свой нос. Они боялись что-нибудь прозевать, везде искали выгоду и новости, совались со своими советами. Хотя разговор их не касался, и в их советах никто не нуждался. Я смотрел на всех и думал. Кто из них на фронте струсит, кто посеет панику, бросит раненого товарища, обезумев от животного страха. Кто? Вон тот молчаливый или тот вертлявый и шустрый, а может, тот рыжий с веснушками на носу? Сейчас, когда до войны не так далеко, по их виду не скажешь, кто проявит себя человеком, а кто будет шкуру спасать! Времени у меня было мало, чтобы изучить их, и сказать, кто на что способен. Как это в песне поётся? «Этот в горящий дом войдёт…» Внизу вдоль вагонов пробегали офицеры и связные солдаты, прошли железнодорожники и постукивали по колёсам маленькими молоточками на длинных ручках, позвякивая крышками букс. Кое-где ещё у вагонов толпились запоздавшие команды солдат. На открытые платформы догружали ящики и тюки. Слышались крики, команды и ругань солдат, обозников. В одной стороне свистки и короткие гудки паровозов, в другой – голоса людей, ржание лошадей. Люди, как муравьи, суетились около эшелона, подгоняя и торопя друг друга. Но вот, как первая капля дождя, гудок паровоза подхлестнул работяг, и они сразу разбежались по вагонам. Вагоны дёрнулись, звонкие сцепы их звякнули и перезвон, как эхо, как нарастающий ржавый гул покатился вдоль состава. Толчок за толчком, скрипя и повизгивая, вагоны медленно тронулись и покатились по рельсам. Все ожидали, что эшелон пойдёт в сторону Клина, а он, скрипя и стуча, по стрелкам выкатил к выходному семафору основного пути. Паровоз перецепили с другой стороны, и мы сразу поняли, что состав пойдёт на Москву. Никто точно не знал, куда будет держать свой путь эшелон. Ходили всякие слухи. Поезд набрал скорость, и мимо вагонов замелькали поля и леса. Потом в пути стали попадаться пригородные станции и платформы с людьми, ожидавшими пригородных поездов. Не доезжая до Москвы, эшелон перебрался на окружную дорогу и, петляя по бесчисленным скрипучим путям, вышел к Лихоборам. На окружной, состав часто стоял, ждал свободного перегона. В Лихоборах мы простояли около часа. Не знаю, но кто-то разрешил выпустить солдат на платформу, чтобы они истратили деньги, которые были у них с собой. В ларьках брали всё: кто печенье и конфеты, а кто, естественно, – бутылки с водкой и вином. Тот, кто разрешил, сделал большую ошибку. Через каких-то полчаса в вагонах уже гудело хмельное веселье, а кое-где затянули и песняка. Я был молодой и в житейских делах и вопросах особенно не разбирался. Не усмотрел я, и не мог заметить, как в Лихоборах мои солдаты притащили в вагон бутылок десять водки и вина. Как они ловко совали бабам деньги, и как те, за минуту обернувшись, передавали им из сумок бутылки со «святой водой». Я не сразу заметил покрасневшие рожи своих солдат. Они помалкивали и потягивали из бутылок, забравшись подальше на нары. Потом нашёлся один храбрый и шустрый, он подозвал меня и предложил мне выпить для настроения немного красненького вина.
– Выпейте, товарищ лейтенант! Мы расстарались для вас красненького, церковного кагора! Наши ребята все вас просят! Вон, посмотрите, даже и старшина! Я посмотрел в сторону старшины, у него от удовольствия расплылась физиономия. Я взглянул ещё раз на своего помкомвзвода, обвёл внимательным взглядом сидевших на нарах солдат, отвернулся и ничего не сказал. Моё молчание для старшины было как оплеуха. Все сразу поняли, что выпивку я не одобряю. Что всё это надо немедленно прекратить, пока командир роты об этом не дознался. Выговаривать старшине и солдатам я не стал, но на одной из остановок, выпрыгнув на землю из вагона, я увидел, как в соседнем взводе лейтенант Луконин чокался со своими солдатами. А потом, на ходу, когда я стоял у открытой двери вагона, опираясь на поперечную доску, заложенную в качестве перекладины в железные скобы дверного проёма, я увидел, как из идущего сзади вагона через такую же доску перегнулись солдаты, и их рвало.
«Дело серьёзное»,- подумал я. Едут на фронт. По дороге всякое может случиться, возможна бомбёжка, в любую минуту может налететь немецкая авиация. Я не понимал особой радости тех, кто нализался до такого состояния без всякой причины. Я не находил во всём это разумного ответа. Я, конечно, не мог категорически запретить своим солдатам не брать в рот вина, когда весь эшелон гудел, перекликаясь пьяными голосами. Рассказывали, что одну дивизию МВД выгрузили из эшелона и завели в лес, они легли на травку под деревьями и не подумали окопаться. Они были трезвые, не как эти. Налетела немецкая авиация, разворочала весь лес, и всех побило осколками и щепой от деревьев. На одной из остановок меня вызвали в вагон к командиру роты, он был крайне и приятно удивлён, что из четырёх командиров взводов, я был совершенно трезв. Старший лейтенант сам не прикладывался в эшелоне к вину, но и мне ничего не сказал по этому поводу. Он просто запомнил на дальнейшее этот факт.
– Эшелон подойдёт к станции Селижарово, разгружаться будем на рассвете. выгрузка должна пройти организованно. Безо всякой сутолоки и беготни. Не исключён налёт немецкой авиации. Взвод не распускать, держать всех в строю! Из вагона строем и бегом сразу за станцию! Твой взвод пойдёт на марше замыкающим! Если я отлучусь, ты останешься за меня. Всё ясно?
– Разрешите идти?
– Бутылки все выбросить по дороге. При разгрузке никаких бутылок не должно остаться в вагонах!
– Всё будет сделано, товарищ старший лейтенант!
– Надеюсь на тебя. Ступай к себе в вагон! У меня поднялось настроение и я, широко ступая, пошёл в сторону своего вагона. Вот я и получил веское подтверждение своему отношению к водке и выпивке своих солдат. Занеся ногу на стремянину, я легко вскочил в открытую дверь, перемахнул под доской-перекладиной и позвал к себе старшину.
– Меня сейчас вызывал к себе командир роты и приказал покончить с вином. если через час я найду в вагоне хоть одну бутылку спиртного, пеняй на себя. Даю тебе двадцать минут на выполнение приказа ротного! И никаких допиваний и прикладываний! Всё понял? Смотри, чтоб ни в мешках, ни в противогазных сумках, ни за пазухой не осталось ни у кого!
– Всё будет сделано, товарищ лейтенант! Солдаты, видя крутой поворот, не дожидаясь, пока старшина начнёт трясти их мешки, стали выбрасывать в открытую дверь бутылки. Бросали пустые, недопитые, бросали и целые. Вздыхали, охали, шутили и даже стонали.
– Вот счастье подвалит человеку! Пойдёт по опушке леса, вдоль насыпи, глядь, а у него под ногами, как божий дар, бутылка с белой головкой лежит! Слышь, Спиридоныч?
– Ладно, кончай зубы скалить, и без тебя на душе кошки скребут.
– Нет, Спиридоныч, ты в этом деле не крути! Ты её бросай легонько, по-умному, чтобы не разбилась, чтоб человек мог её целую найти! Вот бы у меня душа возрадовалась, случись такое у меня на пути!
– Все бутылки выбросить, сделаю досмотр! – сказал старшина и добавил,
– Если у кого что найду, разговор будет короткий! Все поняли? Поворачивайся и быстрей!
– Нет, ты послушай! От такого заикой можно остаться. Шёл, шёл – и бутылка водки целенькая перед тобой лежит! ночь подошла и навалилась незаметно с разговорами и вознёй. Солдаты избавились от бутылок, легли на нары и притихли. Лежали на нарах, не раздеваясь, подоткнув под головы свои скатки и мешки. Колёса мерно постукивали на стыках. Выглянешь в проём полуоткрытой двери, длинный состав, как сороконожка, ползёт по однопутному пути. Вагоны пошатываются, доски скрипят, а состав бежит по рельсам, то замедляя, то ускоряя свой ход. Где-то у Селижарово мы должны занять оборону. Подошёл немец к этой линии или нет. Ночью поезд несколько раз останавливался. Паровоз надрывно фыркал, издавал короткие визгливые гудки. Потом, видно набравшись сил, дёргал с перезвоном цепей вагоны, и они рывками трогались с места. Я несколько раз просыпался и каждый раз слышал то удары тормозных тарелок, то мерный стук бегущих колёс, то абсолютную тишину и дружный храп моих солдат. Я поднимал голову, смотрел в проём двери, где на чёрном фоне мелькающей земли маячил контур сидящего у дверей часового. То ли он спал сидя, то ли просто задумался, опустив голову. Света в вагоне не было, его зажигать не полагалось. Фигуру часового было видно, когда он курил. По огоньку папиросы, зажатой в кулаке, можно было определить, куда он смотрит, сидит ли он или стоит. Дневальные у дверей сидели молча, они или курили, или полусонно кивали головой на ходу. Дневальные у дверей сидели тихо. Они не торопясь дымили и прислушивались к звукам бежавшей ночи. Но за шумом колёс и за скрипом вагона вряд ли услышишь гул самолёта. Ночью мы проехали Зубцов, сделали остановку во Ржеве, и, свернув в сторону по другому пути, покатили на Торжок и Кувшиново. Где-то в Кувшиново к составу прицепили ещё один паровоз. Дело пошло веселей. Потому что ползли мы всё время медленно в гору. К утру паровозы дымя и бросая искры заторопились, и, посвистывая друг другу, стали набирать скорость. Вправо и влево весело замелькали опушки леса. Тёмные очертания бугров и лощин закружились то в одну, то в другую сторону. Солдаты похрапывали на нарах. Они и не знали, что слышат в последний раз стук колёс, надрывистый, сиплый гудок паровоза, позвякивание цепей, пронзительный скрип буферных тарелок, покачивание разбежавшихся вагонов. Перед рассветом поезд затормозил, загрохотал на входных стрелках у семафора, подкатил к какой-то станции и замер на месте. Потом, как бы нехотя, попятился назад, и вдоль вагонов забегали люди. Вначале было трудно разобрать, о чём кричали они. Но вот вдоль вагонов полетела одна, вторая команда. И наконец громкий голос связного, просунувшего голову в открытую дверь, возвестил, что мы приехали и приступили к разгрузке. Нужно было с вечера предупредить своих солдат, чтобы к утру приготовили всё своё снаряжение. А теперь они возились со своими шинелями и ремнями, с касками и вещмешками. Кое-кто в толчее может забыть и свою винтовку, ведь они к ней не совсем приучены, как приучили их с детства по утрам одевать штаны. Нужно сказать старшине, чтобы всё снаряжение проверил. И всё же, к моему неудовольствию, тот самый настырный и шустрый солдат ухитрился оставить на нарах свою каску и противогаз. Старшина подал команду, и солдаты дружно вывалили из вагона. Взвод построился и поспешил за пределы станции. В предрассветных сумерках слышались голоса, крики и топот бегущих по мостовой солдат. Я послал к командиру роты связного и стал дожидаться ротного построения. Из общей толчеи повозок, лошадей и солдат постепенно стали отделяться взвода, повозки, роты, и наконец весь вываливший наружу эшелон вытянулся на дороге в походную колонну. У вагонов и открытых платформ ещё остались люди, они грузили в повозки грузы, скатывали по настилам на землю тяжёлые кухни. рота тронулась и пошла вслед за уходящей колонной. Мощёная дорога медленно поднималась вверх, и через некоторое время мы вышли аз низины на свет. Несколько гудков паровоза долетело до нас со спины, и как прощальный последний голос живого мира, они потонули в предрассветном пространстве. Мы шли по булыжной дороге, медленно забираясь в гору. Перед нами постепенно открывался далёкий и сумрачный горизонт. Поднявшись на гребень, мы впервые увидели бесконечную даль. Первый взгляд всегда оставляет в памяти неизгладимую картину. Мы шли молча, не меняя и не ускоряя свой шаг, с каждым шагом удаляясь от Селижарово. Колонна рот растянулась по дороге и разорвалась. Наконец, одна из рот свернула в сторону, а мы продолжали идти куда-то вперёд. Каждая рота самостоятельно определяла свой путь. Мы шли, стуча железными набойками сапог по неровной поверхности неширокой дороги. Мимо медленно, меняясь местами, проплывали поля и леса. Солдаты посматривали по сторонам, думая, что они приближаются к линии фронта, но кругом по-прежнему всё было тихо и сумрачно. Тишина! Зловещая тишина! Кругом такое спокойствие и такое безмолвие, что казалось, в ушах звенит, после лязга и грохота колёс товарного поезда. Теперь поезда и шум людских голосов остались далеко позади. Серое утро встретило нас мелким дождём и прохладой. Булыжная мостовая кончилась, и теперь мы шли по грунтовой дороге. Если ротный, идущий впереди, не прибавляет шага, то это значит, что идти ещё далеко. обычно дальние переходы войска проделывают не торопясь, экономят силы, распределяя их на весь маршрут. Опытный командир сразу после выхода задаёт неторопливый и размерный шаг. Хотя на марше строй быстро нарушается, но всё равно кто-то идёт впереди, а кто-то, шаркая ногами, тащится сзади. Я шёл сзади исследил, чтобы никто не отстал. Мне было поручено смотреть за отстающими. Я снимал груз с плеч отставшего солдата, сажал его на телегу и возвращался в конец строя. Через некоторое время отдохнувший солдат отправлялся догонять своих товарищей, а его место в повозке занимал новый обессилевший. Недалеко от дороги, с правой стороны, показалась деревня. Серые крыши, крытые дранкой, прилепились друг к другу. Избы стояли без всякого порядка и строя. Когда мы поравнялись с домами, то заметили, что петушиного крика нет, лая собак не слышно, бабы с вёдрами нигде не мелькают, кринок на заборах нигде не висит, всё оцепенело в молчаливом рассвете. Казалось, что деревня вымерла от какой-то страшной болезни. Скорей всего, подумал я, жителей деревни эвакуировали. Что это? Война близко? Или линия фронта проходит где-то рядом? по моим расчётам мы успели пройти километров тридцать. За деревней опять показался лес, а за лесом поле. Дорога свернула круто влево и пошла лениво вниз. Мы пошли по наваленному хворосту, огибая болото, и вошли в редкий лес. Кусты и трава, грязь и земля, широкие полосы снятого дёрна, следы повозок, лошадей и машин, кучи брошенного строительного мусора, песка и гравия, подмокшие мешки с серым цементом – всё это были следы каких-то строительных работ. Здесь рыли, а здесь копали, здесь клали, зарывали брёвна и ставили столбы, лили бетон, засыпали песок, ровняли землю, укладывали дёрн, прибивая его деревянными колышками. Здесь проходила линия обороны. Мы пришли на передний край укрепрайона. После недолгого совещания со взводными командир роты объявил:
– Карты района на руках не будет, командирам взводов не положено. пойдём знакомиться с местностью, обойдём пешком весь район обороны. И он повёл нас по переднему краю роты. Мы гуськом пробирались за ним сквозь густые заросли кустов и деревьев, пригибались и перепрыгивали траншеи, неотступно следуя за ним. Мы взбирались на насыпи, перемахивали через ходы сообщения и за короткое время обошли весь район обороны роты. Теперь, уточнив границы взводов, сектора обстрела и наблюдения, мы должны были развести по окопам своих солдат. Приказа занять оборону ещё не поступало, поэтому благоустройство и дооборудование позиций было не наше дело. Взводам нужно было рассредоточиться по всей линии участка и ждать боевого приказа сверху. Мы заняли небольшую землянку, я выставил охрану, назначил смены часовых и объявил распорядок дня. На всё это уйдёт не так уж много солдатского времени. Солдаты в армии всего неделю, к полевой жизни на открытом воздухе не приучены. Всё они делают не так и очень медленно, часто рассуждают и дают ненужные советы. Четверо солдат во время перехода потёрли ноги, неумело и наспех завернули портянки. До учебных занятий и плановой боевой подготовки дело не дошло, сейчас было важно приучить солдат к ритму жизни в полевых условиях. Некоторые к вечеру стали поглядывать на дорогу, полагая, что ночевать их поведут в деревню. Они не рассчитывали вот так на земле остаться на ночь и лежать в сыром окопе на дне. Они и не думали, что их дом и постель отныне будет только земля. Окопная жизнь началась для них как-то сразу, без всяких вступлений и подготовки. В землянке весь взвод разместиться не мог, часть людей осталась на ночь в открытых окопах без крыши. Каждый мог на место ночёвки принести себе охапку хвороста или соломы, если где-то под боком была возможность её найти. Ещё вчера, лёжа в вагоне на сухих шершавых не струганных досках, они потягивали из горлышка сладковатый портвейн, курили папиросы и беззаботно пускали табачный дым под потолок. Сегодня, устав от марш-броска, они попали в сырые липкие окопы. От непривычки руки и ноги потяжелели, хребет и шея болели, а снять с себя что-нибудь и положить на землю солдату не положено.В чём есть, стой на ногах, в том и ложись! Да ещё винтовку свою покрепче прижми. Это тебе не с бабой в постели (мягкой) в обнимку! Тут трёт ремень, тут тянет лямка противогаза, врезаются в спину постромки вещмешка и режет плечо ремень винтовки и их нельзя ни сбросить, ни снять. всё, что надели и повесили на солдата, – это как родинки на теле у него, их не снимают на ночь. А тут каска, противогаз, винтовка, патронташ, набитый патронами, поясной ремень, сапёрная лопата, заплечный мешок, фляга, кружка, котелок, пара гранат, н.з. сухарей, запасные портянки, кусок мыла и другое барахло. Всё это солдат должен носить на себе вместе с сапогами, шинелью и собственным телом, пока не убьют, пока не протянет ноги. В этой упряжке отныне он должен ходить, есть, спать, стоять, сидеть, бегать, ползать, стрелять. Солдат должен всегда пребывать в полной выкладке даже оглушённый, пробитый пулей, разорванный бомбой на мелкие куски. Всё это было у солдат впереди, а этот день был только началом. А сейчас солдаты валились от усталости на дно сырых окопов и траншей. Они желали только расслабиться. Им безразлична была окружающая природа, цветущая осень, горящие багряным огнём макушки деревьев и синие дали. Нас в училище маршами и бросками гоняли беспощадно, что-что, а физически на ногах мы стояли крепко. Для меня тридцать вёрст пройти – одно удовольствие, никакой усталости. Я ходил, как на пружинах. С утра я солдат включил в работу. Они, ничего не понимая, копались в земле. Я знал по опыту, что солдат надо сразу втянуть в работу и в суровый режим. Главное сейчас не дать солдату разомлеть и расслабиться. Впереди будет немало тяжких переходов, и каждый раз после них нужно иметь запас сил. В этом, вероятно, мудрость физической закалки солдата. Теперь, когда рота вышла на рубеж обороны, обстановка могла измениться каждую минуту, об этом меня предупредил командир роты. Мы стояли на скате высоты, а впереди в заболоченной низине, виден был расцвеченный осенью лес. За лесом в любой момент могли появиться немцы. но пока там впереди всё было спокойно и тихо. Вечером, когда меня вызвали к командиру роты, я слышал там разговор на счёт немцев. Прибывший из штаба батальона офицер рассказал, что они были верхами впереди километров двадцать и слышали на западе артиллерийскую стрельбу. Орудия били залпами. Настоящая канонада! Слово «канонада» в рассказе офицера звучало солидно и весомо. Я сам никогда не слыхал гула артиллерийской канонады и мог её только представлять по сюжетам кино. А этот незнакомый офицер слышал её в отдалении. Ему исключительно повезло! Он успел побывать на линии огня и фронта. когда я вернулся в расположение своего взвода, я подозвал старшину, я посмотрел на него многозначительно и сказал ему:
– Люди слышали впереди канонаду!
– Это наши наверняка! – уверенно сказал старшина.
– Я тоже так думаю, – согласился я – иначе и быть не может! Устроить канонаду могли только наши! Я вспомнил, как мальчишкой мы играли в военную игру. «Ты за кого?» «я за красных!»
– Все хотели быть за красных, – произнёс я задумчиво вслух.
– Чего за красных? – переспросил старшина?
– Да так, ничего! – ответил я, вздыхая. Я никак не предполагал, что на Западном фронте у нас нет ни снарядов, ни артиллерии. На фронтовых складах вообще отсутствовали боеприпасы, а у отступающих солдат давно кончились ружейные патроны. Вот почему многие, кто бежали и отступали от немцев, побросали свои винтовки. Через несколько дней из-за леса, где по рассказу офицера из штаба громыхала канонада, появились маленькие группы солдат. Они шли без противогазов, без касок и без винтовок, в незастёгнутых шинелях, как говорят, душа нараспашку. Когда мы их остановили и спросили, кто они и откуда идут, где сейчас бои и грохот нашей канонады, они очень удивились и отрицательно помотали головами.
– Мы идём оттуда! – и они неопределённо показали рукой в сторону леса
– Никакой канонады там не слышно! – ответил сержант. ничего конкретного о боях и о нашей артиллерии они сказать не могли. Они шли через леса и болота, без продуктов питания и без курева. Они проходили большую деревню и видели, как жители из колхозных амбаров тащили зерно и увозили его по своим домам на телегах. в деревне они разжились двумя краюхами хлеба. местные брали зерно открыто, не прячась. Как они говорили, забирают свою кровную долю, добытую трудом. Картошку колхозную не копают, пояснил рассказчик, колхозная на зиму останется в поле, своей в огородах полно.
– Что это? – подумал я. – Безвластие и возвращение к частной собственности, к единоличному хозяйству?
– Пока были свои, хозяйство было общее. А теперь каждый сам по себе! – сказал солдат в распахнутой шинели.
– В деревне бабы и старики ходят в открытую, а мужики и парни призывного возраста по избам прячутся. На глаза не лезут. Войну в деревне хотят переждать, – пояснил другой солдат.
– А почему их заранее не эвакуировали? – спросил кто-то из наших солдат, – Здесь, в этой местности из деревень всех вывезли!
– Не знаю! – ответил тот.
– Нам об этом ничего не известно! – добавил рассказчик. Окруженцам показали дорогу на Селижарово, там располагались штабы и тыловые части, там на местах была советская власть. Раздобыв у наших ребят на дорогу хлеба и горсть махорки на всех окруженцы отправились по дороге на Селижарово. Ночь прошла беспокойно. На душе осталась смута и неприятное волнение. Кругом было по-прежнему тихо и с военной точки зрения вполне спокойно. Мы не знали, что перед нами наших войск у же нет. Утром снова надо позициями появились дождевые облака. Заморосил мелкий дождь. Над землёй нависла серая непроглядная мгла. В первый раз я видел, чтобы лохматые тёмные хвосты облаков цеплялись хвостами за землю. И тут я вспомнил. Ведь мы находимся на Валдайской гряде. Взвод занимает позицию между озером Сиг и Волгой. Сзади нас находится шоссе Осташков-Селижарово, а в деревне Язово расположился наш командир роты. Мы находимся на линии обороны, которая проходит по окраине деревни Вязовня. Впереди лес. За лесом – дорога и деревни Ясенское, Пустоша и Семёново. За дорогой высота 288, а далее деревня Косарёво и железная дорога со станцией Сигово. Я смотрел у офицера штаба карту, когда он приезжал. Я зарисовал план местности без нанесения огневых точек и рубежа обороны. По общей схеме обороны укрепрайона взвод занимал не самую первую линию окопов и ДОТов. Я узнал, что нас вывели временно на этот рубеж. инженерные сооружения на этой линии не были ещё готовы. Мы должны были следить за качеством работ и принимать у строителей каждый объект. Мы следили за количеством бетона, чистотой засыпаемого гравия, за пригодностью опалубки, за толщиной бетонных перекрытий. Никто не знал, что через неделю из штаба фронта придёт приказ, и нас в срочном порядке перебросят на другой участок Ура, в район Сычевки. Нм придётся много дней идти пешком через леса, поля и деревни по разбитым и залитым дождём и грязью догам. Мы будем преодолевать крутые спуски и подъёмы и, наконец, к двадцатому сентября выйдем на левый фланг нашего укрепрайона, где среди многих деревень одну зовут Шентропаловкой. И действительно через неделю мы получили приказ сняться и совершить марш в указанный район. Мы вылезли наверх из обшарканных боками шинелей ходов сообщений, потолкались с непривычки у обвисших кустов. Кой-как подровняв солдат, я подал команду:
«Шагом марш!»- и взвод, шагнув, пошёл по дороге на новое место. Мы взяли направление на Язово, где нас дожидался командир роты. Подойдя в язовским избам, мы остановились около крайней избы, у крыльца. Наш брат солдаты и местные мужики. На крыльце сидели и стояли ребята из третьего взвода. Это были солдаты Луконина и среди них несколько местных девиц. Милашки, укрытые поверх кацавеек цветистыми платками, сидели на перилах и болтали ногами. На улице было темно. Цветов на шалях не было видно, они вплотную боками сидели с солдатами и изредка, певуче произносили:
– «Ой! Ай!» – и визгливо без умолку хихикали. Солдаты в годах, что были постарше, держались в стороне. Они дымили папиросами и посматривали на перила. Я остановил и крыльца своих солдат, поднялся по ступенькам и вошёл в избу доложить старшему лейтенанту, что четвёртый взвод прибыл в полном составе.
– Придётся подождать, лейтенант, не все ещё в сборе! Как только все подойдут, я выйду на крыльцо и подам команду к ротному построению.
– Мне можно выйти на улицу?
– Да, иди, погуляй! Я вышел из избы, сошёл с крыльца и сказал старшине:
– Никому не расходиться! Построение роты будет здесь! Я пойду посмотрю повозки. Остаёшься за меня! Я пошёл вдоль деревни к сараям, где располагался ротный обоз. Деревня небольшая, дома все стоят по одной стороне. Дорога идёт по наклонной, и дома ступеньками забираются вверх. Я спросил повозочного, всё ли готово, так как мне придётся идти опять сзади и брать отстающих от роты. Я прошёлся по деревне, просто так, без дела, закурил папироску и вернулся назад. Небо было тёмное, закрытое плотными облаками; вот дадут команду следовать отдельно от роты без карты, то в такой темноте можно запросто сбиться с пути. Компас в планшете есть, а карта на весь маршрут отсутствует. Нужно на всякий случай посмотреть дорогу на карте командира роты. Когда я подошёл к крыльцу, две молодухи уже крутились около моих солдат. Они о чём-то говорили и махали руками.
– «Не хватает гармошки», – подумал я.
Солдаты помоложе были оживлены. Но вот на крыльцо выбежали связной и передал команду ротного выходить на построение. Солдаты неровными рядами зашагали по зыбкой и скользкой земле, оставив девчат на пороге в ночной темноте, не обняв их на прощанье и не сказав им сердечных слов. На крыльце появился командир роты. Взвод пристроился сзади роты, с получил соответствующее указание на счёт отстающих, и рота медленно, пошатываясь, стала подыматься вверх по размытой дождём дороге. В темноте мы упорно двигали ногами и вскоре достигли следующей деревни. Пройдя деревню, мы стали снова подниматься в гору. И только вступив на мощёную дорогу, мы взяли размеренный шаг, зашагали твёрдо, чувствую под ногами твёрдую опору. На слякоть и лужи уже никто не обращал внимания. Через лужи и грязь шли напрямик, брызгая где водой, где жижей. И когда старшина предложил запеть, взвод, раскачиваясь и подстроив ногу, затянул солдатскую песню. Когда идёшь под солдатские голоса, когда прислушиваешься к словам запевалы, к неровному стуку сапог, то забываешь о дороге, о воде, о лужах и о грязи. Если солдаты по своей охоте распоются, то за одной походной песней с присвистом следует другая. Так шагают они среди ночи, подсвистывая нужные куплеты. Но стоит сделать в пути небольшой привал, после него выходят они на дорогу молча, встают в строй неохотно, и потом по дороге уже не поют. протянет запевала свой первый куплет, а подтягивать некому, никто не хочет, и получается, что он пропел вроде петуха. пропел, а там хоть не рассветай! Предупреждаю, что эта книга про солдат и про войну, про людское горе без любви и без наслаждений. В пути по дороге рота прошла заброшенную деревню. В темноте стояли избы, прячась друг за друга. Между изб сновали неясные фигуры солдат, слышен был негромкий говор, позвякивание уздечек и фырканье лошадей. Наши тыловые подразделения и обозники батальона собирались в дальний и нелёгкий путь. Кое-где среди неуклюжих изб мелькали огоньки папирос, по ним можно было видеть, сколько там толпилось людей. В темноте слышалось хлопанье дверей, скрип отворяемых ворот и топот солдатских ног на ступеньках. Всех сборов нельзя было рассмотреть, ночь загораживала от нас людей и повозки. воздух был прохладный и сырой. К ночи в воздухе появилась прохлада. Но вот и деревня осталась позади. Впереди и в стороне, если посмотреть, кругом темно и ничего не видно. Чувствуешь под ногами дорогу, а поворотов её не видно, она то подымается на бугор, то сползает и сваливается снова в низину. Неясные очертания опушки леса проползают назад. Дорога забирается в непроглядный сумрак леса и вновь выбегает в серую пелену полей и кустов. А бесконечные дали горизонта, что нас поразили накануне, теперь не были видны. Потеряв счёт времени и пройденному пути, я не мог точно сказать то, где в данный момент находились. Ещё у лейтенантов не было часов, чтобы определять время по стрелкам. По часам можно было бы сказать, сколько прошли и где на дороге мы находимся. Говорят, у немцев все солдаты ходят при часах. А здесь топаешь по дороге и не знаешь, сколько тебе ещё осталось идти. Я давно заметил, что дин солдат стал отставать от взвода. Немного отстав, он ускорял свой шаг и догонял идущих сзади. К концу марша он стал делать это чаще. Я поравнялся с ним и заглянул. Это был солдат пожилой, небольшого роста. Он как-то неестественно прихрамывал, стараясь перенести вес тела на пятку.
– «Наверное, стёр ноги», – подумал я.
– Ты что же, братец, портянки не умеешь заворачивать?
– Нет, товарищ лейтенант. У меня на правой ноге пальцев нету!
– Как это нет?
– Мне пальцы в больнице отрезали. Когда ещё был молодым. Обморозил сильно, вот и отрезали!
– Позволь, но как же ты попал на фронт?
– Не знаю. На комиссии сказали «годен».
– Как годен? К нестроевой службе в тылу ты, может быть, и годен. А у нас хоть и в возрасте солдаты, но все с руками и ногами считаются годными к войне.
– Пальцы у меня на руках есть. Стрелять могу. Вот и послали. Сказали, будешь сидеть под землёй в ДОТе, там ходить не больно нужно.
– Ну ты и даёшь!
– Ты на комиссии говорил, что у тебя пальцев на ноге не хватает? Показывал врачам ногу?
– Я думал, что они сами знают про то.
– Ну вот что! До Селижарово осталось два часа ходьбы, полезай на телегу! Доедешь до места – пойдёшь в батальонную санроту. Скажешь, что я тебя прислал на медкомиссию, покажешь им ногу. Понял?
– Ладно, товарищ лейтенант!
– Да не ладно, а «Есть сходить в санчасть» нужно отвечать.
– Есть, так точно! Я взял винтовку, противогаз и обоймы с патронами у солдата, положил всё на ротную повозку, сказал повозочному, что это всё останется у него: «Солдата довезёшь на подводе до Селижарово, покажешь, где стоит санчасть. Ты своих обозников знаешь». После короткого десятиминутного привала рота встала и тронулась вперёд. Остался последний небольшой переход. Я буду рассказывать, не торопясь, всё по порядку, достаточно подробно, день за днём до самого конца войны. Мне повезло, я с боями прошёл большой и тяжёлый путь. Кто хочет знать правду о войне, пусть не торопится! Обычно к концу марша привалы становятся чаще по времени и проходят быстрей. Солдатам объявили, что осталось идти пять-шесть километров. Услышав, что до днёвки идти совсем немного, солдаты оживились и прибавили шагу. Всем хотелось побыстрей дойти до места и повалиться на землю, вытянуть ноги и закрыть глаза. впереди ещё не показались станционные постройки Селижарово, а рота свернула с дорога и оказалась в лесу. Здесь роту остановили, рассредоточили, солдаты сразу повалились и распластались кто где. Я приказал составить винтовки в козлы и выделить часовых для охраны и порядка. Кое-кто ещё нашёл силы, потопал ногами, повозил-пошаркал подмёткой по траве, стараясь в темноте нащупать сухое место. Но большинство легло там, где их остановили. Они валялись на земле, как падают мёртвые, подбитые пулей тела. Только часовые остаток ночи торчали вертикально, как пни. Мы со старшиной не могли сразу лечь, у нас были разные дела, нас вызывал к себе Архипов. Освободились мы, а на небе уже легла серая полоса рассвета. День обещал быть бестолковым. Тыловые службы вечно не дают нам покоя. то им представь списки, то распишись в получении вещевой книжки, то тебе хотят выдать яловые сапоги, которые ты давно получил. С рассветом, когда налетевший ветер стал разгонять облака, со стороны дороги вдруг потянуло приятно дымком. Громыхая по булыжной мостовой, с дороги свернула батальонная кухня. Она с горящими топками мягко вкатилась в лес, побудку солдат делать было не надо. Этот знакомый запах и фырканье лошадей, позвякивание уздечек и цепей, человека поднимает без набатного колокола. В этот момент даже спящий солдат, не открывая глаз, способен подставить под черпак свой котелок. Старшина установил сразу железный порядок, чтобы никакой ловкач не втёрся без очереди. За это проворные и шустрые беспощадно карались. Их отставляли в сторону у всех на виду, и им полагалось приблизиться к кухне самыми последними. А повар неумолим, но подсчитывает в уме каждый черпак и остановится на какой-то цифре. Первым делом он с силой захлопывает над горчим котлом железную крышку, и если у кухни остались солдаты с пустыми котелками, то от повара тут достанется нашему старшине. Вот почему наваристый запах кухни в первую очередь должен учуять сам старшина. Для этого он к утру ставит на пост толкового часового, который должен зорко следить за дорогой и заранее знать, откуда покажется пара лошадей с одной оглоблей на цепях посередине. И как только он узреет дымящийся грибок кухонной трубы и по ветру почует запах съестного, он непременно должен будить старшину. Старшина сразу, без суеты приступает к делу. Ему нужно по счёту получить энное количество буханок хлеба, по весу принять кучу сахара и насыпанную мерой махорку. И весь этот ворох продуктов он должен разделить и раздать своим солдатам. Порции должны быть достаточно точными, чтобы ни у кого из солдат не было ни обид, ни сомнений. Каждый солдат будет приглядываться к порции соседа. Снабжали и нас хорошо, и кормили солдат в батальоне досыта. Еда в котлах была густая, наваристая, вкусная и сытная. Повара, повозочные, каптенармусы, кладовщики и офицеры все были новобранцы и москвичи. Они не успели сработаться, принюхаться и объединиться друг с другом. Они не спелись и остерегались открыто и тайно брать и тащить из общего котла. Здесь не было своры нахлебников, вымогателей и воров. Всё это мы познали позже, когда попали в сибирскую кадровую дивизию. А пока, можно сказать, мы наедали себе животы. Всё это были новые в армии люди. Они были отобраны специально и призваны из запаса. Они совсем недавно покинули свои семьи, своих друзей, свои рабочие места. Они не успели научиться хапать и воровать. У каждого была совесть и человеческое сознание. В первые дни войны они перед солдатским котлом, как перед Богом, были чисты и невинны. Продукты получались и закладывались под пристальным взглядом офицеров. Кладовых дел мастера и повара не вылавливали куски мяса из котлов, не тащили на продажу и не прятали. Продукты из солдатского пайка поступали целиком в солдатское нутро и делились поровну… День с самого рассвета удался ясным. После утренней поверки солдатам разрешили отдыхать. Они снова повалились на землю, но уже в каком-то естественном порядке. После сытного обеда нечего терять, и они, не теряя ни минуты, устроились посуше и помягче на траве, положив под головы свои мешки. К полудню в расположение роты подкатила крытая полуторка. Все офицеры и старшины были вызваны за получением зарплаты. Мы получали толстые пачки денежных купюр за прошлое и за будущее время. Что это? Почему так щедро выдали нам денег? Или мешки с деньгами стали в тылу не нужны? Первый раз за всю жизнь я держал в руках целое состояние.
– Откуда приехали? – спросил я начфина, который выдавал нам деньги.
– Откуда надо! Получил и отходи побыстрей! В Селижарово телеграф работает, идите на станцию и переводите деньги домой. Ты сам откуда?
– Из Москвы!
– Телеграфная связь с Москвой пока работает. Набив карманы деньгами, не будешь таскать их по окопам на передовой.
– «Нужно идти!»- подумал я.
Ещё несколько офицеров роты пошли на станцию вместе со мной. В этот день ничего существенного не случилось. Вечером рота построилась и вышла на дорогу. Делая малые и большие привалы, и взяв направление на Ржев, мы продолжали двигаться к Кувшиново.
Из Селижарово на Ржев шли две дороги. Одна прямая и короткая, но она была основательно разбита. Другая – окольная и твёрдая, проходимая для воинских обозов и машин. Первая, прямая, шла через Б.Кощи, Суходол и Бахмутово. Но на этом пути он пересекала множество ручьёв и малых речек. Мосты были полуразрушены, а кругом непролазная грязь. Здесь и в сухую погоду с обозами не пройти. В России в то время было много дорог, обозначенных на картах жирной линией. Но все они, или многие, были пригодны лишь для крестьянских телег. По ним осенью и в распутицу могла проползти лишь привыкшая к беспутью крестьянская лошадёнка с пустой или недогруженной телегой. Другой, окольный путь, по которому мы шли, пролегал через Кувшиново и Торжок Здесь дорога была мощёная и для колёс гружёных воинских повозок вполне проходимая. вот по этой дороге мы и пошли. Из Селижарово наша рота вышла с рассветом. Других рот нашего батальона мы на дороге не видели. В пути мы сделали несколько привалов и к вечеру подошли к Кувшиново. по дороге не встретили ничего примечательного. К У В Ш И Н О В О. Когда с опушки леса мы стали подниматься в гору по склону неглубокого оврага, то за насыпью железнодорожного полотна увидели крыши домов и почувствовали запах гари и дыма. Свернув на железнодорожное полотно и зачастив ногами по шпалам, рота подошла к окраине города. Город небольшой, в сорок первом году здесь проживало всего восемь тысяч жителей. Мы посмотрели вперёд. На станционных путях стояли разбитые и обгорелые вагоны. От вагонов ещё шёл сильный запах и дым. Немцы бомбили станцию накануне нашего прихода. Кругом свежие воронки от бомб, обгорелые скелеты товарных вагонов и догорающие станционные складские постройки. Первый раз мы увидели живую картину войны. Так нам, по крайней мере, тогда казалось. Мы почему-то остановились. Стояли и долго смотрели молча. Мы с интересом смотрели на исковерканные и согнутые в дугу рельсы, разбитые в щепу шпалы и разбросанные железные листы с крыш домов. Мы попытались представить себе, как всё это произошло, саму бомбёжку и разрывы фугасных бомб. Для нас это было ново и совсем необычно. Трудно себе представить то, что сам никогда не видел и не испытал на себе. Сам посёлок Кувшиново от налёта немецкой авиации не пострадал. Немцы бомбили только станцию. Дома, где жили люди, все были целы. Дым и запах гари был только на станции. Обойдя посёлок несколько стороной и выйдя на дорогу, которая на Торжок, рота остановилась в сосновом лесу. У дороги под соснами были вырыты длинные, с двухскатными крышами, землянки. В одну такую землянку можно было поместить целую роту. Только островерхие крыши, укрытые сверху травянистым дёрном, выступали над землёй. Сверху, кроме свежего дёрна их прикрывали лохматые ветви деревьев. Это были сооружения довоенного образца. При хорошей бомбёжке, попади в такую землянку единственная бомба – от расположенной в землянке роты не осталось бы ничего. Позже, на фронте, мы такие землянки не строили. Но тогда, расположив своих солдат на дощатых нарах, при свете керосиновых ламп «Летучая мышь», мы были уверены, что здесь вполне безопасно. Выставив наверх часовых и назначив внутри при входе дежурных, мы приступили к чистке оружия и проверке наличия у солдат амуниции. Старшине я велел выявить солдат с потёртыми ногами и больных. Окончив проверку и доложив командиру роты о полном порядке во взводе, я вышел подышать свежим воздухом. В соседней землянке, где располагалась другая рота, у меня был приятель, тоже лейтенант, и тоже командир взвода. Женька Михайлов, с которым я учился в военном училище. Мы были в одном отделении, когда были курсантами. Мы давно с ним не виделись и не встречались со дня погрузки в эшелон. Сегодня по воле случая мы оказались с ним рядом. солдаты ещё копошились на нарах, у них гудели ноги, а для нас, лейтенантов, такой переход не составлял особого труда. Мы и сейчас, после марша, ходили, как на пружинах. Вот что значит привычка! В училище нас гоняли на совесть! О войне и о немцах мы практически ничего не знали. Не знали его техники и тактики, и боеспособности, и взаимодействия его танков с авиацией и пехотой. Мы были хорошо подготовлены физически, умели отлично стрелять, читать карты и разбираться в топографии, но к войне мы морально, теоретически и практически не были готовы. Солдаты мои легли спать, и у меня появилось свободное время. Командир роты разрешил мне пройтись часа два погулять. Я направился к своему другу в соседнюю землянку. Женька при встрече предложил мне пройтись по Кувшиново.
– Пойдём посмотрим, у них сегодня там танцы! Предупредив дежурного по роте, что я отойду на часок в местный клуб, мы вышли на улицу и пошли вдоль забора. На улице в домах повсюду закрытые ставни и темень непроглядная, нигде ни звука, ни одного огонька. Мы шли по узкому деревянному тротуару. На проезжую дорогу ступить было нельзя. Непролазная грязь, глубина по колено! А мы начистили с Женькой сапоги и натёрли их до блеска бархоткой. Дощатый настил тротуара лежал на круглых поперечинах, а они, в свою очередь, концами опирались на в битые в землю столбы. Тротуар был неширокий. Ряд досок в настиле были прогнуты, некоторые совсем прогнили, а в других местах их не было совсем. чтобы не попасть между досок ногой и не шагнуть в темноте в глубокий провал, нужно было всё время смотреть себе под ноги. Мы шли молча и не смотрели по сторонам. И если теперь меня снова заставить пройти эти дороги, я не нашёл бы её, потому что смотрел себе под ноги. На первом углу нам попался местный мальчишка. Ему было лет двенадцать, и он довёл нас до местного клуба. Мы вошли в деревянный бревенчатый дом. Сначала шёл узкий и тёмный коридор, а дальше большая освещённая керосиновой лампой комната. По дороге мы спросили мальчишку:
– А под какую музыку здесь танцуют? Под гармонь или патефон?
– Нет! – ответил он с некоторой гордостью, – Под духовой оркестр! Действительно! В углу просторной и слабо освещённой комнаты при свете керосиновой лампы поблескивали медны и никелированные духовые трубы. Их было немного. Всего несколько штук. Но музыканты! Вот что нас удивило! Это были важные сосредоточенные детские лица. Они сидели рядком на широкой лавке и ждали конца перерыва. Через некоторое время оркестр зашевелился, поднял на узкие плечи трубы и выдул несколько нестройных звуков. Потом, прогудев, как старый пароход, совсем непонятную мелодию, оркестр вскоре несколько настроился и выдал что-то похожее на марш или фокстрот. Молодёжь, стоявшая у стен и около двери стала разбираться на пары. Танцевали в основном девчата друг с другом. А парнишки, что выводили на середину своих избранниц, пританцовывая и шмыгая по дощатому полу, дымили папиросами. Для них это было пожалуй важней самих танцев. Все они были несмышлёные мальчишки, занявшие на танцах места своих старших братьев, которые уже успели уйти на войну. Старшие ушли на фронт, оставив медные трубы и охочих до танцев девчат-подружек на поколение мальцов. Кругом война. Днём бомбили станцию. А здесь танцуют, не снимая кепок и поддёвок, шаркают старыми отцовскими сапогами по дощатому полу и дуют в медные трубы. Мы действительно были удивлены. Но нужно заметить, что настоящей войны мы ещё не видели и на себе не испытали, о ней мы не имели никакого представления. До сих пор мы только совершали марши с одного участка фронта на другой. Наше свободное время подходило к концу, и мы должны были возвращаться к своим солдатам. Протанцевав ещё раз и взглянув на оркестр, мы вышли на улицу через тёмный коридор. Кругом было темно и тихо. Даже собак, которые облаивают обычно проходящих вдоль заборов, не было слышно. Кувшиново осталось в памяти: грязной размытой дорогой, деревянными тротуарами, хмурым ночным небом, запахом гари, духовым оркестром и танцами при свете керосиновой лампы. Ночное Кувшиново оставило след в памяти, потому что все последующие дни и переходы ничем особенным отмечены не были. Я Я и мои солдаты прошли большой и тяжёлый путь. Однообразный серый пейзаж притихших деревень, размытые дождём дороги и мощёные булыжником участки пути, усталые и небритые лица солдат – вот что осталось в памяти от этого перехода. Где рота делала привалы? Когда к ней подъезжала походная кухня? Сколько больных и отставших солдат мы посадили на подводы обоза? Всё это смешалось и слилось в непрерывное чавканье сапог, в топот солдатских набоек по каменным мостовым, в одну совершенно серую и монотонную ползущую по дороге солдатскую массу. Человек на марше настолько устаёт, что вокруг себя ничего не видит.
– – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -

В один из сентябрьских дней, на рассвете, миновав несколько разбросан- ных у дороги серых, неказистых изб, рота свернула в сторону леса и вошла под деревья. Рота остановилась и солдаты упали на землю. Сколько мы прошли за эти дни? Мы потеряли счет времени, километрам, дневным привалам и ночным переходам. Командир роты все время шел впереди и меня вызывали к нему за получением дальнейших указаний. Солдаты думали, что это обычный днев- ной привал. Но прошло совсем немного времени и я вернулся обратно. Солдаты только что опустились на землю, а лейтенант (уже вернулся) явился и подал команду строиться. – Подъем! – закричал старшина. Солдаты, охая и вздыхая, нехотя стали подниматься. – Шевелись! – пробасил старшина. После некоторой неразберихи и толкотни солдаты построились, подравня- лись и пошли за мной в глубь леса. Когда на ясном небе появилось солнце и осветило всё кругом теплым и мягким светом, когда всеми цветами радуги заиграла осенняя листва, мы вышли на опушку леса. Осенние краски всех оттенков и цветов горели в листве притихших деревьев. А чуть дальше, среди зеленых кустов и белых берез мы увидели замаскированный дерном и посадками ДОТ. Это был наш ДОТ и он стоял на самом левом фланге Ржевского участка укрепрайона. Левее нас и дальше укреплений не было., там простирался лесной массив и болота. Только за лесом, где-то южнее Сычевки, снова продолжалась линия Вязем- ского укрепрайона. Мы вышли на рубеж, где должны были сдержать немцев, наступающих на Москву, Ржев и Калинин. Укрепления и бетонные огневые точки уходили от Шентропаловки в Сторону ст. Мостовой и дальше, к городу Осташков. На нашем участке линия оборо- Ны шла по склонам высоты 254. Дальше она поворачивала на Вязоваху, Борки, Дубровку и Мостовую. Это был участок обороны нашего батальона. Далее линия обороны пересекала высоту 280 и шла на Титнево, Загвоздье, Высоту 291, по берегу озера Волго на деревню Селище и на Вязовню, откуда мы только что прибыли. Потом она шла по озеру Сиг, а дальше на Селижарово, Замошье и г. Осташков. Кто бывал в этих местах после войны, тот, видно, встречал полуразрушен ные укрепления и бетонные капониры.
(перед нами был наш ДОТ). Около деревни Шентропаловка нам предстояло занять сотовый бетонный ДОТ. /неразб./ В лобовой части ДОТа была вмонтирована стальная броневая плита. В ней вращался полуметровый стальной шар, в центре которого имелось сквозное отверстие для пушки. С внутренней части ДОТа в шар был установлен ствол сорокапяти Миллиметровой пушки. Внутри ДОТа шар и ствол были соединены С механической турелью и сидением для наводчика. Турель, лафет, ствол пушки и и сидение наводчика вращались вместе с шаром. Если посмотреть на ДОТ с внешней стороны, то он выглядел в виде небольшого холма с насаженой травой, кустами и росшими на нем небольшими деревь ями. Только у самой земли, с близкого расстояния, можно было увидеть серое стальное яблоко с черным зрачком посередине. Оно, как у живого циклопа вращалось во все стороны и зорко следило, поджидая появления немцев и их танков. При открытом затворе орудия, через ствол, в котором был установ лен оптический прицел, можно было видеть всю местность, лежащую перед ДОТом. Десятиметровые волчьи ямы, замаскированные решетками и травой, были расположены кругом, в шахматном порядке перед ДОТом. Эти глубо кие ямы служили препятствием для танков противника, на случай, если бы они захотели подойти вплотную к ДОТу и закрыть его амбразуру своей броней. Дальше за ямами в полосе обороны, перед ДОТом, шли проволочные заграждения и широкое минное поле с противотанковыми и противопехотными минами. При передаче инженерных сооружений саперы показали нам извили стые узкие проходы в минном поле. Они были отмечены едва заметными деревянными колышками. На следующий день, после подписания акта о приеме сооружений, мы получили боевой приказ на оборону занимаемого рубежа. 297 Отдельный арт. пулеметный батальон Западного фронта занял свои позиции и был готов отразить атаки противника. После первого дня отдыха, свободного от боевого дежурства, солдаты приступили к земляным и строительным работам. Мы дооборудо вали подземные лазы, соединили их с жилыми подземными убежищами, усилили на жилых блиндажах накаты и приступили к строительству хозяйственных построек. Выставив дозоры на минное поле, часовых на подходе к ДОТу, охрану у ям, где хранились боеприпасы, мы занялись усиленно возводить подземные склады и баню. Через несколько дней в окопы и траншеи, что были в промежут ках между ДОТами, вошли стрелковые подразделения 119 стрелковой дивизии. Солдаты стрелковых рот тоже занялись земляными работами. Промежутки между ДОТами, в которых сидела пехота, составляли от двух до трех километров. Наши бетонные казематы имели различные технические устройства и оборудование.
В ДОТе было электрическое освещение от аккумуляторов, система сигнализации и две подземных линии телефонной связи, которые (глубоко) под землей шли на командный пункт роты и укрепрайона. Телефонные трубки были необыкновенной величины. В них можно было разговаривать во время стрельбы из пулемета и пушки. А во время стрельбы в ДОТе стоял такой гром, что крика и баса старшины не было слышно. В главном отсеке бетонного ДОТа, там, где стояла пушка и станковый Пулемет, стреляющий через ствол (орудия) самой пушки, в железобетонном перекрытии сверху был вмонтирован подъемный перископ для наблюдения за полем боя. Перископ можно было поднимать и опускать, вращать во все стороны, изменять угол наклона зрения У наводчика и меня были ориентиры /неразб./ Многие тысячи жителей Ржева и Калинина, Торжка, Старицы и Осташ Кова и других городов Калининской области работали на строительстве этой оборонительной полосы. Ржевский укрепленный район протянулся на сотни километров. Несколько сот земляных и железобетонных огне вых точек, стационарных артиллерийских бетонных установок были построены в этом районе в короткий срок. Но глубина оборонительной полосы была небольшой. Она фактически была вытянута в одну узкую линию. Прорыв ее при массированном ударе артиллерии и авиации не представлял особого труда. /Забегу несколько вперед и поясню примером. Под Вязьмой в укрепрайоне попали в окружение четыре армии Западного фронта. Время на нашей позиции в трудах и заботах шло незаметно. Мы засыпали в подземные хранилища картошку и капусту, пилили и кололи дрова, готовились основательно и долго стоять на этом рубеже. Как-то перед рассветом на минном поле рванула мина. Из темноты послышались крики и взволнованные голоса. Мгновенно была объявлена боевая тревога. Но в этот раз места по боевому расписанию были заняты с (большим) опозданием. Это явление обычное, когда объявления тревоги солдаты серьезно не ждут. Накануне всё было тихо и спокойно. Нас предупредили, что немцы должны быть где-то на подходе, но перед нами они не появлялись. Боеготовность доложили все, но ночь и темнота не позволили нам Сразу узнать, что случилось на минном поле. Я подождал некоторое время. Новых взрывов не последовало. Я позвал своего старшину Семина. – Вот что, помкомвзвод! Пошли двух солдат на край минного поля, пусть выяснят у ночного дозора, кто подорвался на минном поле. – Даю пять минут! Быстро вернуться и мне доложить! Вскоре солдаты вернулись и рассказали: дозорные слышали, что после взрыва кричали по-русски.
Я вспомнил, как в районе Селижарово на нашу оборону вышла группа сол дат. Возможно, эти тоже из окружения? – подумал я, и велел принести железный рупор, который мы накануне сделали из жести. Дежурный по караулу пошел кричать в железную трубу, чтобы попавшие на минное поле не двигались и оставались на месте, пока не рассветет. По сигналу боевой тревоги боевой расчет остался сидеть на своих местах. Я встал к перископу, наводчик сидел на турели, заряжающие со снаря дами в руках стояли чуть сзади наготове. – Останетесь на месте! – приказал я и велел командиру орудия открыть поворотные винтовые запоры на задней броневой двери. Я вышел наверх, на поверхность земли и закурил. Я решил посмотреть на минное поле. С огнем папироски на виду маячить нельзя, (на открытом пространстве) могут с большого расстояния засечь, где расположен ДОТ. Я помнил об этом твердо, потому что я сам установил такой порядок. Я присел у двери за бруствер и стал прислушиваться к ночной тишине. Внутри курить тоже нельзя, я тоже запретил. Небольшой внутренний объем хоть и имел два вентилятора, один был с электро-, а другой с механическим ручным приводом, но приказ есть приказ и порядок навсегда уста новлен. Мне его нарушать тоже нельзя. Докурив папироску и затоптав окурок ногой, я поднялся на насыпь ДОТа и стал смотреть на неясные очертания минного поля. Ко мне наверх поднялся старшина и я велел послать к ночному дозору связного, узнать, как там дела (у попавших на минное поле). Старшина крикнул дневального и тот побежал вперед. – Лежат на месте, товарищ лейтенант. Как вы приказали, ждут рассвета. – А много их там? – Ребята из дозора говорят, человек восемь! – Ладно, иди! Подождем до утра! С рассветом два наших солдата отправились выручать попавших в беду (окруженцев). Через некоторое время их вывели в наше расположение. Это была группа солдат из разных разбитых частей, которые из укрепрайона под Ярцево. К счастью, никто из низ на минном поле не пострадал. А вопили и кричали они со страха, (и перепуга) как бабы. Мы знали, что отдельные, бегущие от немцев группы солдат, могут подорваться на наших минах и приняли соответствующие меры. По краю, вдоль всего участка минного поля мы натянули сигнальные Провода. От них на приличное расстояние в глубину минного поля мы отвели концы и подцепили их к взрывателям небольших фугасных мин. Когда днем или ночью человек касался этого провода и несколько натя гивал его, то взрыватель срабатывал и сигнальная мина взрывалась. Отведенная на безопасное расстояние мина предупреждала нас о появ лении на минном поле людей.
Это служило нам сигналом боевой тревоги. В группе солдат, перешедших через минное поле, был старший лейтенант, командир стрелковой роты. Он был ранен под Ярцево и в последние дни пристал к группе солдат. Старший лейтенант был ранен в руку, пулевое ранение успело затянуться. Рукав гимнастерки его был разорван, он поднял его, снял повязку и показал нам рану. Кто он? Наш или один из тех, кого готовили и засылали к нам немцы. Я подумал об этом, но сказать свое подозре ние вслух не посмел. Такими словами человека можно несправедливо обидеть и даже оскорбить, тем более, что он, будучи ране ным, проделал такой дальний путь, чтобы вернуться к своим. – Как ты думаешь, лейтенант – спросил он меня – с таким ранением я попаду снова в часть? Или меня отправят домой? – Не знаю, дорогой! Я не медик! – Скажи, а ты сам откуда? – Я из Владимира. Там у меня есть мать и сестра. После обстоятельного разговора, кто он, откуда и куда идет, почему оказался под Сычевкой, где пристал к группе солдат, я представил себе полную картину не только его мытарств на всём этом пути, но и всё то, что произошло и делалось сейчас под Вязьмой. Солдаты рассказали свое. Из всего сказанного было ясно, что немцы по укрепрайону нанесли такой мощный удар, что оттуда вырвались жалкие остатки в виде мелких разрозненных и неорганизованных групп. Разговор с окруженцами проходил около бани. Она стояла в глубине густого леса. Наших позиций оттуда не было видно. Группу солдат с минного поля вывели через расположение соседней стрел ковой роты. Мы очень строго охраняли отведенный нам (…)участок и к огневой точке не подпускали даже своих соседей солдат стрелков. Один перебеж чик – и наша дислокация могла быть раскрыта. Считай, что не ДОТ, а в землю зарыт сверхмощный тяжелый танк, только вот пушка была мала и при выстреле лаяла, как комнатная собачонка. Нам бы сюда миллиметров сто двадцать диаметр ствола, что каждый выстрел был, как гром среди ясного неба! Мы показали бы немцам, где Кузькина мать ночует! Я принял старшего лейтенанта и солдат как собратьев. Накормил Их, в дорогу дал продуктов, показал им дорогу и предупредил строго, если они с указанной дороги свернут, то их задержат и передадут в контрразведку. Задерживать и сопровождать отступающих и выходящих из окруже ния у нас не было указаний. Когда их кормили, я отошел и позвонил командиру роты. Он мне ответил, что пусть идут на сборный пункт, прямо на Ржев. Все знали, что
Из под Ярцево бегут группы солдат из разбитых частей и мы Их должны переводить через минное поле. Они направлялись на Ржев, там был сборный пункт, там их собирали, распределяли и направ ляли по частям. Так жили мы, днем всматриваясь в цветистую желтизну и зе лень леса, а ночами вслушивались в туманную даль низины, лежавшую впереди. 7 сентября сорок первого года, приказом как у нас говорят. три ноля пятьсот девятнадцать по войскам Московского военного округа мне было присвоено воинское звание лейтенант, а 22 сентя бря, пятнадцать дней спустя после отправки на фронт, я получил ранение в ногу. Дело было так: меня вызвал к себе командир роты за получе нием боеприпасов. (…) Был яркий и солнечный день. Мы шли со страшиной Сениным по лесной узкой дороге, было жарко даже в тени. Он вытирал потное лицо своей большой шершавой ладонью, снимал с головы пилотку и помахивал ей. – Ну и погодка! – басил он. Настоящее бабье лето! Какая будет зима? Мы подошли к деревне, где стояли наши ротные повозки, и в это время подъехали две груженые боеприпасами машины. Командир роты направил их к опушке леса. Они въехали в край леса и мы подошли, чтобы отобрать себе боеприпасы, и в это время откуда-то прилетел немецкий самолет. Откуда он взялся? Всё произошло так внезапно и быстро! Мы не успели отбежать от машины, он сбросил несколько фугасных бомб. Сбросил и улетел. На этом всё и закончилось. Машины и боеприпасы не пострадали, прилетев ший немец явно дал маху, а мне касательно попал в ногу осколок. Пробило сапог, задело сверху ступню, пошла кровь, а боли я никакой не почувствовал. Старшина помог мне снять с ноги сапог, рана была небольшая. Осколок рассек мне ногу сантиметра на два. /Подошва была цела/ Прибежал ротный санитар, смазал мне рану и наложил повязку. Мне даже в голову не пришло, что у моих солдат во взводе отсутствуют перевязочные пакеты. Я об этом вспомнил только потом. Старшина Сенин получил снаряды и я на ротной повозке уехал к себе. Некоторое время я хромал, ходил даже с костылем, который мне смастерили солдаты. Но вскоре рана перестала болеть, по-видимому, затянулась. Я всё пишу о себе и о себе, как будто не о чем больше рас сказывать. Есть, конечно, много, о чем следует написать.
Я и сейчас ясно вижу и слышу: как ходят, что делают, о чем гово рят мои солдаты. Об этом можно было бы рассказать, но я каждый раз тороплюсь и пропускаю многие моменты. Вот хотя бы один из них: – Сынок! Не пойдешь ли попариться в баньку? – говорит мне один пожилой солдат, фамилии его я сейчас не помню. – Слушай, что это за обращение? Сынок, да сынок! – Ты вот что, папаша! – Я тебе во внуки гожусь. А ты мне – сынок! – Теперь сообрази! Я для тебя кто? – Что вы, товарищ лейтенант, это мы из уважения! – Товарищ лейтенант, говоришь! Боевая обстановка на носу, а он мне – «сынок, пойди в баньке попарься»! – Старшина Сенин, проработай с ними этот вопрос! Они устава не знают. Разъясни им уставной воинский порядок, как нужно обращать ся к своему командиру! А то, я вижу, они мне в родны папаши наби ваются. У нас здесь служба, а не семейные дела! После этого слова «сынок» я больше не слышал. О ранении я тоже не хотел говорить, это была царапина по сравнению с настоящей раной. Ноя события последующих дней, моя хромота, которая мне мешала ходить и резкое изменение обстановки перевернули в один день всю нашу спокойную жизнь. Никто не предполагал, что наше пребывание в укрепрайоне однаж ды и сразу неожиданно кончится. Все подземные сооружения и бетон ные укрепления нам придется внезапно бросить и бежать, как тем беспризорным солдатам, которых мы только что переводили через мин ное поле. Как рассказывали они, немцы наших убитых и раненых не считали. Они под Вязьмой и Сычевкой отбирали только крепких, здоровых и молодых, и отправляли их на работу в Германию.* 9 октября, в пятницу, во взводе устроили баню. Ее закончили конопатить высушенным на солнце мхом. Уложили на обручах по-черному камни, чтобы пахло дымком и решили затопить. Старшина объявил банный день и солдаты, свободные от дежурства, пошли париться первыми, чтобы потом подменить остальных. Раскаленные камни шипе ли и фыркали, когда на них плескали водой. */Как потом стало известно, командующий группой армий «Центр» генерал-фельдмаршал фон Бок направил Гитлеру в подарок 200 тысяч военнопленных из этого района. Под Вязьмой и Сычевкой в окруже ние попали: 19-ая, 20-ая, 24-ая и 32-ая Армии Западного и Резерв ного фронтов./
Горячий пар обдавал голые тела огненным жаром, многие в баньку входили согнувшись, а некоторые и вовсе заползали туда на четвереньках. Глаза застилал обильный пот и жгучий раскаленный туман. Солдаты поддавали пару, Хлестались вениками и обливались холодной водой. От мокрых и розовых голых тел Шел березовый запах, когда они выбегали наружу схва тить ртом свежего воздуха. Из бани слышались веселые голоса, блажен ное покряхтывание, довольное сопение и вздохи. От удовольствия и приятных ощущений появились шуточки и дружный раскатисто-гром кий смех. Первый раз со дня отъезда из Москвы, за всё время после форсированных маршей и переходов, они (зачеркнуто, неразб. на теле жирные шарики) отпаривали и отмывали слои липкой грязи, земли и пота. Накануне старшина Сенин прогревал баню и парил дубовые бочки. Их привезли из брошенной жителями деревни. На завтра собирались рубить и солить капусту. Недалеко от нашей взводной кухни (лежали) горой лежали сочные кочаны. Земляные и строительные работы были закончены. После бани все разомлели и раскраснелись, собира лись попить чайку, поиграть в картишки и отдохнуть от парилки, от легкости, свежести, от веников и мытья. День подходил к концу. К вечеру во взвод прибежал командир соседней стрелковой роты и выпалил на ходу: – Мы снимаемся! У нас приказ отходить за Волгу! Ваши со всей линии ДОТов еще днем ушли! Вы оста лись последние! Я через десять минут снимаюсь! У меня приказ немедленно покинуть траншею! Я кинулся к своим телефонам, у меня их по двум линиям было два. Но подземная связь УРа уже не работала. Почему нам не позвонили, не передали приказ (из роты или батальона)? Про нас просто забыли – решил я. – У меня нет приказа на отход. Я не могу бросить технику и боеприпасы, ДОТ и самовольно уйти за Волгу! – сказал я командиру стрелковой роты. – Пойдем ко мне – сказал он – у меня есть связь с нашим полком. Поговори с начальником штаба. Он скажет тебе, что делать. Я пошел в стрелковую роту, соединился по телефону со штабом полка и спросил: «Кто говорит?». – Неважно, кто! Есть приказ немедленно сниматься и возможно Быстрее уходить за Волгу. Немцы прорвались у Мостовой. Незанятый перешеек шириной три километра расположен чуть западнее Ржева. Его надо завтра к вечеру проскочить. Взорвите матчасть и отходите немедленно. Через десять минут я снимаю роту с траншеи. Командир роты тебе объяснит, с кем ты говорил.
У нас был подвешен рельс на случай сбора по тревоге. После бани Было объявлено свободное время и любители собирать грибы могли уйти в лес. Старшина ударил в рельс, и солдаты тут же собрались. Я окинул их взглядом, все стояли в строю. Я объявил приказ и дал им пять минут на размышления и сборы. Через пять минут старшина ударил еще раз, все были в полной выкладке и сборе. Взорвав затворы у пушки и пулемета, облив керосином запасы продуктов, мы двинулись в расположение стрелковой роты. – Старшина! Мы забыли яму с боеприпасами взорвать! – Пошли подрывника, пусть положит шашку и шнур длиной метра на два. – Да пусть без торопячки, мы подождем его здесь, на тропе! У нас пара минут есть (еще) в запасе! Я услышал последний мощный и раскатистый взрыв. Вскоре По тропинке прибежали сапер и сопровождавший его солдат (ходивший с ним).
* * *
Текст главы набирал Владимир@rambler.ru
Здравствуйте, Николай! Вот отпечатанная глава. Я позволил себе сделать некоторые замечания, как читатель…Их выделил. Замечательная рукопись, но кое-где (мне кажется) надо чуть стилистически отредактировать. А Вы не думаете её издать? Я бы хотел иметь такую книгу в своей библиотеке…
С уважением! Владимир.
09.07.1983 (правка)
Октябрь 1941

Вечерние сумерки спустились нал дорогой. Мы шли за стрелковой ротой, и каждый был занят своими мыслями. Я думал, хромая, почему нас не предупредили и бросили в Доте? Как случилось так, что мы остались одни? Интересно знать, где сейчас находятся немцы? Не закрыли ли они трех километровый перешеек, к которому мы должны будем целые сутки идти? Рассуждая и строя догадки, я совсем не заметил, как стемнело, как на землю спустилась ночь. Впереди в нескольких шагах почти бесшумно идут солдаты стрелковой роты. Роту ведет офицер, представитель полка. У него есть карта и маршрут движения. Рота вслед за полком отходит последней. Подразделения полка успели сняться раньше. Из всех отступающих войск мы шагаем сзади, последними. Впереди идет рота, а за ней топаем мы! А что мы? Мы им посторонние и чужие люди! Им все равно поспеваем мы за ними или нет, хорошо что предупредили и не оставили нас сидеть в Доте. Во время марша, когда по дороге впереди идут другие солдаты, за дорогой не следишь и о ней не думаешь. Мы пристроились сзади, идем у них на хвосте, стараемся не отстать. Идёшь себе спокойно рассуждаешь о чем-нибудь, шагаешь размашистым шагом, то догоняешь стрелковую роту, то отстаешь. И вот моя задумчивость и хромота обернулись для нас неожиданной развязкой. За одним крутым поворотом стрелковая рота нырнула в темноту, оторвалась от нас и пропала из вида. Мы ускорили шаг, что на марше обычно не делают, и попытались догнать её. Минут двадцать в темноте мы гнались за ней, но впереди на дороге никого не оказалось. Впереди на нашем пути по-прежнему все было тихо, неподвижно и пусто. Такое впечатление, что люди провалились сквозь землю. Разогнавшись по дороге, мы не сразу сообразили, что мы напрасно бежим и что нам нужно остановиться. Тяжело дыша, мы, наконец, в растерянности встали и попытались на слух уловит топот солдатских ног уходящих от нас. Но солдаты по ночным грунтовым дорогам ходят беззвучно, если вместе с ними на дороге не тарахтят телеги и не скрипят колеса, если не фыркают лошади и не ругаются ездовые. Мы потеряли стрелковую роту и остались стоять в темноте одни на дороге. Тяжело вздохнув, я виновато окинул взглядом своих солдат. Они столпились в кучу и молча смотрели на меня. Вот растяпа!- наверно думали они. Лейтенант, командир взвода, идет впереди, ведет за собой целый взвод солдат, а сам спит на ходу. Взял и упустил стрелковую роту! От одной этой мысли меня бросило в жар. На носу выступил пот, от волнения загорелись уши. Вот и первая твоя промашка лейтенант! Когда-то ты должен был сделать ошибку! Это тебе не походная колонна, в строю которой тебя ведут и даже направляют на поворотах дороги. Вот поучительный пример твоей беспечности и отсутствию внимания. Теперь ты как ночной сыч будешь смотреть вперед. Не даром говорят: за одного битого, пять не битых дают! Что будешь делать, лейтенант? – спросил я сам себя. Случилось самое непостижимое, неприятное и почти непоправимое! Все что угодно! Но именно теперь, в темноте потерять стрелковую роту, я никак не предполагал. Я стоял на дороге, смотрел на своих солдат, стирал рукой пот с лица, и не находил ответа. Ни маршрута движения! Ни карты местности! Куда идти я совершенно не знал. При выходе из леса, когда мы пристраивались в хвосте стрелковой роты, я забыл попросить у штабиста взглянуть его карту. Теперь в руках у меня только компас и на плечах голова. Дунай! Соображаю…Что будет дальше? Что сказать своим солдатам? Мы вернулись назад, где по нашему мнению рота могла свернуть с дороги в сторону. Мы потоптались на месте, пошарили в темноте, потеряли ещё не мало времени, пытаясь отыскать следы на дороге. Но все дороги войны одинаково разбиты, размыты и утоптаны, и наши поиски следов ничего не дали. Мелькнула мысль разослать солдат в разные стороны. Но другая подсказала совсем обратное. Ночью бегай, не бегай, ничего не найдешь! Пошлёшь солдат на поиски в разные стороны и всех в темноте потеряешь! Главное пусто кругом – спросить некого! Куда ведут эти дороги? Какую выбрать? По какой из них идти? Стрелять в воздух и кричать бесполезно. С ротой на этот случай договоренности не было. Услышат выстрелы и крики, подумают, что напоролись на немцев. А потом неизвестно, может немцы на самом деле где-то близко стоят у дороги и мы обнаружим себя. Нельзя забывать, что весь район окружен немецкими войсками и где мы встретим их трудно сказать. Я посмотрел на компас, прислушался к ночной тишине, взглянул на черное небо и ослабил защелку на стрелке. Голубой, светящийся треугольник дрогнул и закачался вместе со стрелкой. Взяв азимут на северо-восток, где по моим расчетам должен был находиться город Ржев, я повернулся лицом в сторону прорези. Когда-то в (НЕ РАЗОБРАЛ) я видел карту этого района. В памяти остались города и точки, разбросанные в пространстве. Я представляю себе извилистую линию Волги и положение Ржевской железной дороги. Я тронулся с места, и мы пошли по дороге вперед. Темные густые ветви кустов и лохматые развесистые лапы колючих елей тянуться к нам с двух сторон на дорогу. Кажется, что они в темноте стоят как живые, раскинули в стороны руки и хотят нас захватить, остановить, предостеречь от немецкой засады. Какие-то неподвижные черные силуэты пригнулись к земле, ждут, когда мы подойдем к ним поближе. Возможно именно за этим бугром мы и попадем под немецкие пули. Они хотят подпустить нас, и ударит в упор. Не будем же мы ложиться каждый раз, когда нам кажется за кустом или бугром засада, пригибаться к земле, ползти по дороге, и крадучись приближаться к подозрительному месту. К тому же мы вовсе не знаем, когда и где на пути нас действительно встретят немцы. Кругом темно, дорогу тоже не видно. Непроглядная ночь заслонила собой всё пространство! Мы ступаем по дороге и чувствуем её только ногами. Небольшая канава и каждый из нас оступается в ней. Что лежит впереди в этом темном и мрачном пространстве? Можно лишь представить в своём воображении. Вы никогда не ходили в темную ночь по лесным и полевым дорогам? В темноте, когда ты осторожен, всегда мерещиться всякая ерунда. Куда поворачивает эта дорога, почему она всё время крутиться и петляет? Мне определенно кажется, что мы идет в обратном направлении. Вот-вот покажется опушка березового леса, и мы вплотную подойдем к нашему Доту. Нелепая мысль заставляет меня очнуться. Я достаю из планшета компас, быстро оттягиваю кольцо защелки, смотрю на стрелку и убеждаюсь, что мы идем в правильном направлении. Я постепенно успокаиваюсь и отбрасываю в сторону всякие мысли. Так мы и идем в ночной темноте. Встречу с немецкими танками я почему-то себе не представлял. Что должен делать я, если выстрелы раздадутся? Какую команду своим солдатам я должен отдать? В таких делах мы не имеем никакого опыта. Солдаты мои сугубо гражданские лица. В боях и под пулями они не разу не были, и кроме знания техники ничему не обучены. Так что, попади мы сейчас под огонь, я отдам команду – ложись! Лягут они в темноте как дрова, и потом их не сдвинешь с места. Мы прошли лощину, по дну которой тянулась дорога, поднялись на пригорок и неожиданно вышли на большак. (Не особо связно с последующим абзацем) Это даже ни боязнь и ни страх. Под обстрелами мы не были, крови, убитых, и смерти не видели, страха вообще не испытали. Так, вероятно, молодые и несмышленые мальчишки, не обстрелянные солдаты, без боязни и страха лезут вперед и гибнут в первом бою. Потом, они познают мудрость солдатской смерти и жизни, если после первого боя останутся в живых. Войны я тогда не боялся. Мне казалось, что война – это стрельба с огневых рубежей. И засада появляется в воображении на первых порах, на первых километрах, в начале пути, пока ждешь в темноте и постепенно привыкаешь. А пройдя с десяток километров, обо всем забываешь, не думаешь о немцах, привыкаешь к одиночеству, к запутанным перекресткам дорог, к ночным силуэтам, к ночной тишине, и все это вместе с дорогой в такт медленным солдатским шагам уплывает назад. Темное небо распласталось над нами. Безграничное ночное пространство повисло над землей. А кто мы? Маленькие крупинки, затерянные в ночном пространстве, ничтожные букашки, ползущие по земле. Да и какое мы имеем значение на этой огромной и бескрайней земле! Где мы? В какой точке земли сейчас находимся? Уготовила ли нам судьба увидеть рассвет и ясное утро, которое придет на смену ночи? А ночь, как и небо, необъятна и необъяснимо велика. Как-то (Я бы убрал слово «как-то») спускаясь с пригорка, мы заметили впереди неясные очертания людей. Мы сразу насторожились и стали прислушиваться. Видно было, как темные силуэты людей, ступая ногами, покачиваются над дорогой. Они молча удаляются от нас. Мы решили их осторожно догнать. Подойти ближе и разглядеть с расстояния. Так оказались мы снова в хвосте у группы солдат, шагавших по той же дороге. Но это были совсем другие солдаты, не те, которых мы потеряли в начале пути. Их было немного – всего десятка два. Мы пристроились к ним сзади и прошли остальную часть ночи. Утром на нашу дорогу стали выходить ещё и ещё отдельные группы солдат. Они неожиданно появлялись на опушке леса, выбирались из оврагов и вливались в нашу дикую колону, которая шла, постукивая подковами по каменистой дороге. Откуда-то из низины на дорогу выехали две армейские повозки, а затем за ними по дороге появилась пушка. Она свернула в нашу сторону и влилась в общий поток. Но все эти: пушки, повозки, и солдаты, шедшие впереди и сзади нас, представляли собой небольшие разрозненные группы. Они случайно сошлись на одной дороге и теперь растянувшись, шагали не спеша друг за другом. Никто из них точно не знал, куда ведет эта дорога, и почему они по ней идут. Никто из них не мог точно сказать, где находиться трехкилометровый проход из кольца окружения. По началу встречные (может лучше «встреченные»!) солдаты думали, что по дороге идет организованная часть, с пехотой и артиллерией. Одна пушка на полк, по тем временам было солидное вооружение! Никто из нас не думал тогда, что в современной войне на узких участках будут участвовать вереницы сразу сотни самолетов и танков, и по несколько сот стволов артиллерии. (Предложение требует доработки). А пехота будет применяться так, для подчистки после грохота. Впереди нас иногда появлялись новые группы солдат, но, пройдя вместе с нами с десяток километров и выяснив, что мы дикари и неорганизованные бродяги, что у нас нет запаса махорки и сухарей, они сворачивали в сторону и уходили куда-то в деревни. Мы были в растерянности и недоумении. Повозки и пушки от нас оторвались. Бежать вниз под гору за громыхавшими повозками мы не могли. Медленный размерный ритм шага взятый в начале пути, обеспечивал нам непрерывное движение без всякого надрыва и остановки. Мы шли без привалов на всём протяжении пути. Каждый солдат нашего взвода нёс на себе оружие, боеприпасы и ранцевый инструмент. Он шел в полной выкладке и нёс на себе все, что должен иметь солдат на войне. Во взводе был пулемет с запасом дисков и несколько цинковых коробок с патронами. Весь этот груз был равномерно распределен на каждого солдата. И тяжелая поступь солдат не позволяла нам бежать по дороге. Я не торопил своих солдат и не хотел увеличивать скорость ход. Но я предупредил каждого на счет амуниции, оружия и боеприпасов, что ничего не должно быть брошено или потеряно. Сейчас это наша основная и главная задача. Несмотря на усталость, каждый должен выйти к своим в полной выкладке и с оружием. Это наше лицо, наш воинский долг. По нему о нас будут судить, по нему нас встретят и окажут доверие. Солдаты идут медленно, тяжело передвигая ноги. Каждый понимает и сознаёт, что нужно идти во чтобы-то не стало. Нужно сегодня успеть покинуть район окружения. Это наша задача номер один. Это наша надежда! А чем собственно живет человек, если не надеждой! В этом году сухая и короткая осень. Сегодня 10 октября. Утром все придорожные канавы и кусты покрыты инеем. В движении, когда идёшь, холода не чувствуешь. Но белые выдохи горячего дыхания отчетливо видны. Начало октября, а ночью уже успел прихватить холодок! День выдался… К полудню мы проходим какую-то деревню. Мы не спросили, как она называется, нам не до неё. Деревня как деревня, большая, в несколько посадов. На крыльце одного из домов стоит мужик на вид лет сорока, на нём кирзовые сапоги, солдатская гимнастерка, на голове пилотка со звездочкой, а вместо шинели надета деревенская поддёвка. По всему видно, что он, отступая, дошел до своей избы и дальше идти не захотел. Маленькие, пустые глазки так и бегали на его худом и не бритом лице. То ли он ждал от нас поддержки, то ли порицания. Но, видать, идущая по деревни колона солдат, вызвала в нём чувство сомнения и замешательства. -Куда же вы братцы, русские люди, идете? – обратился он к нам, когда мы проходили мимо крыльца. – Ладно там молодые, глупые и несмышленые! Вы-то кажись все в возрасте и в летах. И он посмотрел поверх касок солдат куда-то в (слово не разобрал) даль. – Неужто и у вас никакого понятия? Он внимательно разглядывал моих уставших солдат, и от его быстрого взгляда я, лейтенант, тоже не ускользнул. – Немец вчера взял Старицу и Зубцов. Сегодня он двинул войска на Калинин. Вашему брату деваться некуды! Глянь через неделю и Москву. Офицерам и лейтенантам, тем, конечно, нужно драпать в лес. А я вот солдат, до дома дошел и стоп! Хватит, навоевался! Идти больнее некуды! Всей войне скоро конец! Он говорил, убеждал, шарил глазами солдат, а в душе у него была неуверенность и сомнение. Будь он решителен и тверд в своём решении, он не стоял бы на крыльце и не искал бы у нас одобрения и поддержки, у нас, у проходящих мимо, усталых и измученных солдат. Он смотрел на нас сочувственно, а сам чего-то боялся. Солдаты молча, медленно передвигали ноги, проходили мимо него, ещё ниже склонив свои головы. Они шли как на своих собственных похоронах. Возможно! – подумал я. – Кто совсем обессилел, захочет остаться где-нибудь по дороге в деревне. Солдаты не в силах нести на себе больного или безногого. Подумал! Но ничего не сказал своим солдатам и не ответил стоящему на высоком крыльце оратору. За такие речи его могли расстрелять на месте. Но на его счастье, среди нас не было тех людей, которые занимались этим делом, как своим ремеслом. Они давно, при первых признаках немецкого прорыва, подобрали длинные полы шинелей, сели в машины и укатили в глубокий тыл. Солдаты мои все были москвичи. А это, скажу я вам, не маловажное значение. Никто из них без особой на то нужды не захочет оседать в первой попавшейся деревни. К тому же мы верили, что доберемся до Волги, и что на том крутом берегу нас ждут и встретят с уважением. Мы не только надеялись, мы были уверены, что за Волгой проходит одна линия укреплений, что для нас там оставлено место в бетонном каземате, и они только ждут, чтобы мы (слово не разобрал). Нам и в голову не пришло, что за Волгой нет никаких укреплений, что мы в спешке просто забыты, и никто нас больше не ждет. Оборона нашего укрепрайона была построена в одну линию и при первом же ударе немцев была прорвана. Дорога не Зубцов, Старицу, Погореле-Городище, Калинин и Москву была открыта. Связь со штабом оборвалась. Образовался котел, из которого, теперь задыхаясь, бежала солдатская масса. А то, что мы идём и выбираем себе дорогу, хотим вырваться из немецкого котла, то это зависело только от нашего желания, сознания и совести. Сверни мы сейчас в другую сторону, возьми мы случайно неверное направление, и мы навсегда останемся за пределами войны. Мы были представлены сами себе, но у нас есть в душе вера и воля. Мы с трудом передвигаем тяжелые ноги, всё тело ноет и бесконечно болит от ходьбы. В начале пути почему-то болела только шея, потом боль перекинулась в поясницу, а к вечеру нестерпимо болели ноги, мы их просто за собой волокли. Для нас было важно одно. Мы держались друг друга, мы шли по дороге все вместе, никого не потеряли, и никто не отстал. Это было, пожалуй, наше основное преимущество. Отстань кто один, свались больным в деревне, ему никто там не поможет, ему никто там ничем не обязан. Так что держись солдат за своих! Ничего, что мы выдохлись и устали, из последних сил передвигаем ноги. У нас, брат, другого выхода нет! Нужно идти! Сам понимаешь! На другом конце деревни мы попытались спросить старуху. Но она о дороге ничего не могла сказать. Она сама была беженкой, и только что ночью приехала на телеги из-под Зубцова. Хотя все мелкие группы шли одной колонной и в одном направлении, но единства с военной точки зрения среди них не было. Теперь с падением Зубцова и Старицы идущие впереди заметно поубавили свой шаг. Среди солдат отдельных групп тоже были лейтенанты, но они, как и я, маршрута и карт не имели. Они шли наугад и опекали только своих солдат. Бесконечные группы немецкой авиации летят у нас над головами. Они летят в том же направлении, куда двигаемся мы. Видя всё это, отдельные группы солдат начинают отделяться от общего потока. Они сходят с дороги и сворачивают куда-то в сторону. Одна группа солдат, что идёт рядом с нами, предлагает взять направление на восток, сразу идти на Москву. Другие, наоборот, предлагают идти на Оленино. Но вот нам навстречу, по дороге со стороны Зубцова, вываливается на большак большая группа солдат. Они где-то там впереди напоролись на немцев, постреляли сами и были обстреляны. Побросав убитых и раненых, обгоняя друг друга, они бежали нам навстречу. Забавно и жалко было на них смотреть. Грязные, усталые, с перепуганными лицами. Увидев нас, они обрадовались, замахали руками, прибавили шагу и поспешили к нам. Подойдя ближе, они остановились, и, перебивая друг друга, сразу загалдели. Они стали рассказывать нам о том, что произошло с ними в дороге. На большаке сошлись две встречные партии. Одна шла на Ржев, другая прибежала из-под Зубцова. А где был тот перешеек шириной в три километра, никто точно не знал. Пошумев, погалдев, и солидно полаявшись, солдаты выяснили свои отношения, стратегическую обстановку на фронте и, как встревоженный рой пчёл, загудели, закружились, колыхнулись и сорвались с места, и побежали в сторону от дороги, толпой скатились с большака и, взяв направление на Оленино зашагали от нас. Удерживать их было бесполезно. Здесь действовал закон стихии масс. В один миг всё изменилось. Спокойно шагавший, усталый поток измученных солдат вдруг сорвался с места и, торопливо перебирая ногами, скрылся на повороте дороги, за опушкой леса. Просёлочными и лесными дорогами, куда боялись сунуться немцы, солдаты разбежались и пропали без вести. Возможно кто-то среди них торопился домой, а другой не против пристроиться примнем, и пожить на хлебах у безмужней хозяйки. Глядя им вслед, мы недоумевали и не знали, что делать. Вот мы и одни! Мы по-прежнему продолжали стоять на дороге. Теперь нам снова нужно выбирать свой путь. Немецкие самолеты, тяжело завывая, летят боевыми группами у нас над головой. Они идут ровными косяками, не обращая на нас никакого внимания. У них дела впереди поважней. Поговорив со старшиной и выслушав, что скажут солдаты, я мысленно прицелился в то место, куда летели самолеты. Подал команду и взвод тронулся. Там, куда летят самолеты, рассудил я, идут бои и должен находиться проход из котла окружения. Мы идём по тому же большаку, но настроение подавленное, состояние растерянное и топаем мы по дороге молчаливо. Иногда нам кажется, что мы идем не туда и нашему пути не будет конца. На дороге пустынно, кругом безлюдно и всё неподвижно. Тяжелый путь и тягостное настроение! Я только потом осознал, что война с немцами не занятия по военной тактике у ящика с песком. Это не полевое занятие в училище, когда, разинув рты, бегали и кричали – Ура! Тогда мы, кололи гранеными штыками налево и направо воображаемого противника. Теперь войну предстояло узнать с черного хода, познать её на собственном опыте, представит в другом свирепом виде. Иногда над нами появлялась немецкая стрекоза. Это несколько оживляло нас в пути и отвлекало от всяких унылых раздумий. Немецкий костыль, как приелось потом к нему это название, крутил и вертелся над дорогой, где мы шли. Он переваливался с крыла не крыло, спускался вниз, так что было видно в кабине одинокого летчика. Потом он взмывал вверх, улетал вперед и через некоторое время возвращался снова. Но так как он не стрелял и не бросал бомбы, а только назойливо стрекотал и кружил над дорогой, мы шли вполне спокойно. Я иногда посматривал вверх и старался рассмотреть его получше. Война шла уже полным ходом, а мы не знали ни типы, ни опознавательные знаки немецких самолетов. Кресты на крыльях и на фюзеляжах были обведены красной каймой и нам снизу они казались красными звездами. Мы останавливались и, задрав головы, рассматривали их. Возможно в том направлении, куда улетал немецкий костыль, и находился узкий перешеек, к которому мы спешили. 11 октября, в субботу, сбив наш заслон под Старицей, немцы устремились на Калинин. Перерезав железную дорогу под Зубцовым, немцы бросились на другою основную магистраль. Люди, бродившие в это время в окружении, знали все последние новости от других разбитых (не уверен, что это слово) солдат и беженцев. Мы шли так остаток дня и весь вечер. День угасал, надвигались сумерки. Под ногами на дороге то песок, то камни, то камни, то застывшая от холода земля. А когда вошли в лес, в лесу дорога была местами перехвачена корнями деревьев. Время бежит, а мы продолжаем упорно и медленно двигаться вперед. Когда стало совсем темно, мы свернули на широкий прогалок и, поднявшись на бугор, вступили на хорошую, замощенную булыжником мостовую, и солдаты сразу застучали сапогами. По состоянию дороги чувствовалась близость большого города. Под ногами исправно мощеная дорога. В пригороде такие участки обычно не большие и тянуться они сравнительно недалеко (может лучше «не долго»). Городские власти, так сказать, поддерживает только парадный въезд. Мы идем, а кругом по-прежнему всё неподвижно, сумрачно и неуловимо тихо. За обочиной дороги видны чёрные силуэты одноэтажных домов и заколоченные досками оконные рамы. Некоторые из домов имеют железные крыши. Но это не Ржев, это узкая полоска домов, вытянувшаяся в один ряд вдоль дороги. Дома кажутся сумрачными, люди как будто вымерли. Где-то на ветру поскрипывает раскрытая дверь. На фоне негромкого перебора солдатских ног по краю мостовой этот скрип слышно на ходу, не надо останавливаться, чтобы прислушаться. Возможно люди где-то и есть. Не все расстались со своим скарбом и сбежали. Они только делают вид, что дома пустые и всеми брошены, а сами прячутся от неизвестности и от нас. Кто там шагает с оружием на плечах? Мы идем вперед и ног под собой не чувствуем. Кругом темнота и впереди ничего не видно. «Ночью немцы не воюют!» – рассказывали нам отступавшие солдаты, которые успели побывать в перестрелках и боях. «По воскресеньям у немцев – выходной!» Сегодня одиннадцатое число, а завтра двенадцатое – воскресенье. Возможно нам повезло, мы можем проскочит через Волгу. Сейчас впереди пустой большак и по нашему мнению он должен привести нас к берегу Волги. Но дело в том, что мы пока точно не знаем, где и как мы переправимся через неё. Попадись нам сейчас кто навстречу, скажи, что сейчас мы находимся на подходе к Зубцову, мы сразу поверим и повернем поспешно назад. Так двигались мы в темноте, как бы наощупь, в беззвучном пространстве. – Сейчас будет Ржев – сказал старшина. И действительно, впереди стал разгораться бледный закат. Я посмотрел на стрелку компаса. Закат был на севере. Что это? Обман зрения или отсвет пожара? Я ещё раз беру азимут на светлое пятно, которое отражается в небе. Первые сутки кончились с момента нашего выхода из Ура. В час мы делаем километра три, не более. Сколько мы успели пройти, если на всём пути не разу ни остановились и ни присели? Но вот, за поворотом дороги снова показались ярко освящённые облака и в тёмной низине на берегу, мы увидели неясные очертания моста. Деревянный мост был цел. Под мостом тихо плескалась вода. – Думаю, что мы подошли ко Ржеву! – сказал я старшине, стоявшему рядом. – Вот Волга, а на том берегу Ржев. – Узнаешь старшина? – Когда-то мы здесь с тобой проходили! Только в обратном направлении! Узнаешь? – Вот она та дорога, по которой мы свернули, когда совершали марш в укрепрайон. – Мы её с тобой в темноте не узнали!
(Тут не понятно то ли диалог, то ли монолог)
* * *
Текст главы набирал Mole [email protected]
??.07.1983 (правка)
Октябрь 1941

Из-за края обрывистого берега, на той стороне Волги, были видны тёмные крыши домов и освещенные снизу огнем нависшие низкие тучи. Только теперь, спускаясь к мосту, перед собой мы увидели зарево огромного пожара. Пламя висело над городом и зловеще [колебалось] металось ****** над крышами. Снопы летящих искр кружились в воздухе и поднимались в небо. Огненным отблеском были освещены клубы черного дыма. Тяжелые, налитые дымом облака плыли над городом. Вступив на бревенчатый настил моста через Волгу, мы сразу заметили перебегающих от перил к перилам людей. Какие-то неясные фигуры метались в темном пролёте моста.
– Возможно, телега застряла? – подумалось мне, – Лошадь ногой сквозь настил провалилась. Теперь её нужно вытягивать на себе. Хорошо, наверно думают, что мы подоспели! Но на мосту, занятые своим делом солдаты не обратили на нас никакого внимания. Подойдя ближе и рассмотрев их, мы остановились и хотели спросить, где находятся наши и куда нам следует идти?
– Давай быстрей! – закричали они, увидев нас на мосту. – Бегом на ту сторону!
– Мы мост взрываем! Это были саперы всё той же 119 стрелковой дивизии, И это всё, что нам удалось узнать у них на ходу. Взвод, тяжело ступая, загрохотал по деревянному настилу, перебегал пролеты моста и стал подниматься медленно вверх по боковой наклонной дороге. Берег Волги со стороны Ржева был крутой по склону. Опоздай мы на минуту – ****** взлетели бы вместе с мостом. Не успели мы сделать и нескольких шагов по дороге, как сзади нас, над рекой раздались два мощных взрыва. В воздух полетели доски и бревна, вздыбилась земля, в небо поднялись фонтаны воды. Мы сразу повалялись на дорогу. Упали, кто где стоял, не зная как укрыться от взрывов. Некоторое время мы лежали, прильнув к холодным камням мостовой. Мы думали, что у саперов ещё не взорвано несколько поставленных зарядов. Сверху на нас стали падать деревянные обломки, нас обдало водой. В воздухе носилась водяная пыль и брызги. Такое впечатление, как будто тяжелые налитые дождём тучи, нависшие над рекой, не выдержали своей тяжести и с грохотом хлынули на землю. Мы были уверены, что саперы, взорвав мост, нас тут же догонят, покажут нам дорогу и направление, куда нам следует идти.
– 2- Но пока мы, оглушенные, мокрые и окончательно обессиленные, поднимались, отряхивались и приходили в себя, сапёры в темноте бесследно исчезли. Мы поднялись наверх, и вышли на [площадку] бугор. Перед нашим взором предстал город, охваченный огнем. Всё кругом, и дома, и заборы, разбитые стекла, и сорванные рамы с петель, обрушенные стены, осевшие крыши, безлюдные улицы, отражались как в кривом зеркале и колебались в потоках нагретого воздуха. Черед взором куда-то все плыло. Город был брошен. Людей на улицах не было видно. Где искать нам дорогу? Куда поворачивать? И куда вообще нам идти? Мы стояли и смотрели на пылающие дома. Огромные черные клубы дыма, они как гигантских размеров шары, переваливались, крутились, и медленно уползали вверх. Не слышно было ни грохота, ни стрельбы. Потрескивали и шипели объятые пламенем деревянные переборки домов. В воздухе стоял противный запах гари. Под ногами, на мостовой серый слой легкого пепла. Прошел по нему первым, видны твои следы. Летящая сверху гарь и зола оседает у тебя на плечах и на каске, Яркие летящие и горящие огоньки углей носятся в воздухе и сверкают на темном фоне пространства. Мы сунулись было по одной из улиц [идти], но горячий воздух отбросил нас обратно. Оглядевшись кругом, мы подалась в другую сторону, где было меньше огня. Что там воздух, и ************! Передохнуть, перевести дух было нечем! Солдаты валились с ног, дорога их довела до изнеможения. За сутки пути мы ни разу не присели! Когда-то от этого города до укрепрайона весь путь мы проделали за три перехода. После каждого ночного перехода солдаты имели целый день отдыха и горячее питание. Три перехода! А теперь? Весь семидесятикилометровый путь пройден нами за сутки! Мы полагали, что в городе стоят войска, что здесь на крутом берегу выгодная линия обороны. Мы думали, что нас здесь встретят, дадут отдохнуть, и конечно накормят. А потом уж пошлют на новую точку обороны. Кроме небольшого запаса хлеба и [сала] сухарей у нас с собой ничего не было. Измученный и усталый человек всегда на кого-то надеется. Надеется, что кто-то другой позаботиться о нем и поможет. Солдат вышел с оружием, вынес на себе патроны, прошел такой путь, а здесь! Кроме огня и дыма – ни одной живой души! Здесь нас не только [с барабанным боем] никто не встретил, но и котелка похлебки никто не сварил! [Чем они собственно были здесь заняты?] Мы никак не рассчитывали, что в таком большом городе мы будем одни, что город брошен, что нам нужно снова идти и искать себе дорогу.
– 3- До cих пор у нас была уверенность, что нам нужно только добраться до Ржева. Все свои силы мы рассчитали и истратили на этот переход. Но где мы разошлись с немцами, почему они не обстреляли нас при подходе к городу? Возможно, нас укрыла [и спасла] темнота? Возможно, они нас приняли за своих, за взвод немецких солдат, неспеша и спокойно [приближающихся] шагавших по дороге к берегу Волги. [Но нет, это исключено!] Но скорей всего наши саперы поторопились, закричали нам, когда мы перебегали мост.
– "Давай скорей! К берегу подошли немецкие танки!" Никаких танков на том берегу не было видно. Шума моторов не было слышно. Просто они захотели побыстрее закончить свои дела на мосту. Здесь на улицах и в домах было совершенно пусто. Ни одной живой души! Даже ночные обитатели, любимицы старушек – кошки куда-то исчезли. О собаках я не говорю! Мы стояли на развилке дорог, перед нами разбитый бомбой, пылающий каменный дом. Внутренность его охватило пламя. Видно, что дом загорелся [от падающих сверху углей] потом от брошенных зажигалок. Фугасная бомба дома не зажигает. Солдат, с веснушками, молодой паренёк, ****** побежал к горящему дому. Он хотел заскочить в нижний этаж, ещё не охваченный пламенем.
– Куда в пекло полез? – закричал старшина.
– Вернись назад!
– Живьем сгореть захотел!
– Я ложку хотел поискать, – ответил он, возвращаясь к стоявшим солдатам.
– У него ложки нет! – подхватил кто-то ив стоявших солдат.
– Он её по дороге потерял. Растяпа!
– Ну и дела!
– Он, товарищ лейтенант, щец со свининкой собрался похлебать. Сунулся в карман, а ложки на месте нету!
– Ты случайно не к теще притопал на блины?
– Нет. С чего ты взял? Чего вы смеетесь?
– А ложка тебе зачем?
– Думаешь, что сюда сейчас подъедет кухня?
– Всем стоять на мосте! По домам не шарить! Слышали все? Это приказ лейтенанта! – пробасил старшина. Я стоял и смотрел на огонь. Вспомнил, как раньше [далёкой] юности, подкладывая в горящую печку дров, сидел и смотрел, как шевелятся огненные поленья охваченные пылающими красками. ****** На горящие дрова и огонь можно было подолгу смотреть и думать. И теперь я стоял, смотрел на огонь и думал. Мне нужно
– 4- было собраться с мыслями. Мне нужно было решить задачу со многими неизвестными. В какую сторону вести своих солдат, где их лучше устроить на ночлег [до утра]? Днем, вспомнил я, когда мы шагали сюда, над нами строй за строем гудели самолёты. Вот их работа! Немцы, взяв Зубцов, прорвались к Старице. Они боялись флангового удара со стороны Ржева, разбомбили и подожгли его. Они сделали все по науке, направив в сторону города авиацию. Бомбёжкой города они прикрыли свои войска, рвавшиеся на Калинин. Действуя расчетливо и по науке, они, однако на этот раз дали ошибку. Предполагая, что в городе находятся наши войска, и что они рассредоточились по домам, и ждут только удобного момента для атаки. И немцы огромный запас бомбового груза обрушили на совершенно пустой город. Самолёты весь день десятого октября бомбили пустынные улицы, а наши войска, которые накануне тянулись к городу, покинули его ещё ночью. Сверху не видно [когда летала стрекоза] идут войска или разрозненные мелкие группы. Гражданское население покинуло город тоже перед рассветом. Так что немцы напрасно бомбили и подожгли тогда город. И вот мы, последний взвод солдат, проходим горящим улицам города Ржева. Видите, на скольких страницах уложилась одна только ночь. Длинная, бесконечная и один тяжелый день 10-го октября 1941 года. А сколько их будет потом, бессонных, невыносимых, кровавых и не по силам тяжелых!

– 1-
Прежде чем рассказать о нашем пребывании в горящем Ржеве, я хотел бы коснуться истории и облика [этого] города, каким он предстал тогда перед нами. ************ Я не располагаю подробными данными по истории этого края. ****** И меня особенно интересуют города Ржев, Старица и [особенно город] Белый – с ними связаны ****** долгие годы тяжелой войны. Ржев довольно старый город на Руси. Об этом сообщает одна из ранних летописей. Впервые в летописях Ржев упоминается в 1216 году, когда князь Святослав пытался захватить город со своей дружиной. Ржев тогда нё сдался. Но в начале следующего века, город пал от нашествия Литвы. И только после Куликовской битвы и разгрома орд Мамая, город освободился от иноземного ига. В I485 году Ржев вошел в состав Московского княжества. Во время Ливонской войны Ржев был снова захвачен литовцами и поляками. Во Ржеве некоторое время находился Лжедмитрий III, когда поляки вторглись в пределы Руси. [В старину на верхней Волге шла бойкая торговля и развивались ремесла. В те далекие времена люди селились по рекам и перевозили грузы в основном по воде. Лодки и струги здесь появились раньше, чем появились ************ возить по земле. Волга в те далекие времена служила столбовой дорогой. ****************** Широкое развитие ремесла и торговля получили позднее, когда через Ржев прошла Виндавская железная дорога. Теперь она/называется Рижская. Город до [Отечественной] войны был в основном деревянный. Строительный лес здесь был доступным и дешёвым. Ржев и сейчас с запада окружают большие леса. В 1941 году во Ржеве проживало 51 тысячи жителей, Улицы в то время были узкие и кривые, сильно запутанные. Дома деревянные, одноэтажные, крытые щепой, дранкой и железом. Каменные дома были разбросаны по городу. Они стояли в основном в центре и на крутом берегу Волги. Мостовые, тротуары и газовые фонари были только на основных проезжих улицах, которые служили магистралями. По ним в мирное время с раннего утра и до позднего вечера громыхали ломовые извозчики, да скрипели неторопливые крестьянские подводы.
– 2-
Из города по главным [направлениям] выходило пять основных [мощёных] дорог. Первая столбовая юла на Старицу и Калинин. Вторая мощеная шла на Зубцов и Волоколамск. Третья, почти совсем разбитая, петляла лесами и болотами в сторону Нелидово. Четвертая, совершенно не годная для [тяжелых]войсковых обозов ****** и артиллерии, шла вдоль левого берега Волги на Селижарово. От нее, если повернуть на север, можно было уйти ****** на Торжок. И последняя пятая подходила к городу Ржеву из- за Волги, по ней мы ночью через мост вошли во Ржев. Вот собственно все пути и дороги, которые проходят через Ржев. [Все выходы и выходы в город и из города.] Я представлял себе по памяти их примерное расположение. Но, находясь среди узких и запутанных улиц, я не мог разобраться [какая из них куда идёт] и выбрать нужное нам направление. Я видел когда-то карту этого района, но не думал, тогда, что мне придется вести своих солдат через пустой и безлюдный город. Если бы знать заранее, я запомнил бы всё как следует, [подробно и точно]. А теперь я шел, и с усилием извлекал из памяти расположение этих пяти дорог. Я по компасу выбрал улицу идущую в северном направлении. Мы тронулись и пошли по ней. Но улица вскоре круто завернула и вывела нас обратно на берег Волги. Без карты трудно было определить, где мы находимся в данный момент, и куда нам следует лучше идти. Карты города у нас с собой не было, а из горящего города нужно было поскорей уходить. Пожар охватил всю южную часть и вокзальную сторону города. Я смотрел на море огня и думал – город сгорит за ближайшие дни. Пламя повсюду бушует, гудит и набирает – силу! Огонь перебрасывается с одного здания на другое в одно мгновение. Это происходит так быстро, что не успеваешь даже глазом моргнуть. Разогретая до предела стена соседнего деревянного дома покрывается слоем огня в доли секунды. Лизнул её огонь широкой кистью красного пламени, и она из бледно-серой вдруг стала ярко-огнедышащей. Через несколько дней в городе останутся голые каменные стены, пустые коробки [домов], обгорелые остовы печей и одиноко торчащие в небо трубы. Кое-где из золы и пепла будут торчать спинки железных кроватей, обгоревшие [помятые] листы железной кровли. Над городом повиснет сизо-черным облаком удушливый запах паленого жилья, сгоревшего тряпья и отбросов. Мы стоим на углу двух мощеных улиц. Слева и справа пылающие дома. Мне нужно снова выбрать направление по какой из этих улиц лучше идти. Куда ведут эти дороги? По какой из них мы выйдем на северную окраину города? Мои уставшие солдаты стоят позади. ************************ Они ждут и выжидательно смотрят мне в спину. Я это чувствую и тороплюсь. Но вот наконец я решаюсь, выбираю ту, что уходит влево, и мы медленно трогаемся с места и уходим куда-то в темноту.]
– 3- Идти приходится часто прижимаясь к одной стороне улицы. ****** Другая охвачена пылающим огнем. Едкий дым застилает и режет глаза. Иногда приходится по одному, прикрыв лицо рукавом шинели, перебегать вдоль узкого пространства между пожарами. Говорят, что при кремации умерших людей, они в огне начинают шевелить и двигать суставами. Возможно от огня натягиваются сухожилия. Случается это или нет, утверждать не берусь. А вот во Ржеве, в горящих домах я сам видел, как домашние вещи, детские коляски, железные кровати, луженые самовары в неистовом огне корёжились, кривились и изгибались как живые. В огне рушилось всё, не только крыши и стены, вверх улетали железные листы кровли, сгорали и ломались, как спички, толстые бревна, рушились, кирпичные ****** стены. Но вот позади остались огненные клубы дыма и пылающие здания. Мы медленно уходим в темноту пустынных улиц и закоулков. Мощеная булыжником мостовая должна нас вывести на тихую окраину города. Солдатам нужен отдых. Считай, уже целые сутки мы на ногах! Силы у людей уже на исходе! Мы долго и медленно идем стуча стальными подковами сапог по мостовой и этот звук солдатских сапог раздается в гробовой тишине особенно зловеще. Темная улица неожиданно свернула и так же внезапно оборвалась на краю открытого непроглядного поля. Мы оказались на окраине Ржева. Самым последним у дороги стоял небольшой деревянный дом. Окна закрыты плотными ставнями. Дверь поперек опоясана стальной перекладиной, а на нее навешен массивный замок. Склад не склад! На магазин тоже не похоже! По середине дома высокое в четыре ступеньки крыльцо. Крыша железная, и под ней никакой казенной вывески. Мы вышли из города неожиданно и поэтому сразу остановились. Вперед, в темноту уходила мощеная дорога, по которой мы только что шли. Я огляделся кругом. Рядом со мной старшина Сенин, солдаты чуть сзади стоят у забора. Небольшие деревянные дома, больше пoxoжие на деревенские избы. Они чернеют по обе стороны улицы сзади. Впереди открытое поле и никакой практической видимости на сотню шагов. Здесь воздух чист. Носом потянешь – ни запаха, ни гари. Только осевшая ранее копоть першила в горле.
– Где заночуем? – спросил я старшину.
– Дома все маленькие. В один дом все не влезут. Старшина не успел ответить. Кто-то из стоявших сзади солдат чиркнул спичкой и решил закурить. На мелькнувший огонь из темноты, со стороны открытой дороги сразу полоснул пулемет горящими трассирующими пулями. ******
– 4- ******[момент], что ложиться не надо. Старшина Сенин тоже остался стоять, сопровождая их взглядом. Мы смотрели вперед, туда, где дорога уходила в темноту и резко опускалась вниз. Оттуда из низины в нашу сторону летели горящие [в воздухе] пули. Следом за первой очередью ещё несколько длинных очередей разрезали темноту и задребезжали по соседней железной крыше. Мы невольно пригнули головы, но остались стоять. Было слышно, как ударили они и завизжали по кровельному железу. Но что в этом обстреле было странного и необычного? Ни окрика – Стой! Кто идёт! – ни других русских слов [и матерщины, ни немецких]. Я не подал своим солдатам команду – Ложись! Все произошло само собой в одно мгновение. Солдаты увидели пули, быстро отбежали назад и теперь, прижав животы, лежали в придорожной канаве. Мы со старшиной стояли и смотрели, откуда бьет пулемет.
– Кто это, немцы или наши? – сказал я вслух глухим негромким голосом.
– Если это наши, почему не окликнули, как положено и бьют без разбора по своим?
– Это немцы, товарищ лейтенант! – сказал старшина хриповатым басом.
– Они могли подойти к городу по железной дороге со стороны Оленино! – [добавил он] Я поднялся по ступенькам на открытое со всех сторон крыльцо и решил высоты посмотреть, откуда бьет пулемет. Они не должны меня видеть в темноте, решил я, прямое попадание почти невозможно. Старшина оглянулся назад, он что-то сказал лежавшим в канаве солдатам. Солдаты по возрасту все были гораздо старше меня. Их жизненный опыт подсказал им, что здесь стоять нельзя, можно схлопотать пулю. Они сразу отбежали назад и спрятались в канаву. А я, на то и лейтенант, чтобы стоять на крыльце и смотреть вперед на дорогу. Я должен решать, что дальше делать. Мы со старшиной переждали обстрел, хотя каждый из нас мог получить шальную пулю в живот [запросто], возьми пулемет прицел несколько ниже. Под пулями мы были впервые и естественно не совсем понимали, как они убивают людей. У нас при себе даже перевязочных средств не было. При отправке из Москвы все думали и полагали, что по прибытии на фронт нам их выдадут и всем обеспечат. Но обстановка сложилась так, что мы остались без перевязочных средств. Мы стояли по-прежнему и смотрели в темноту, я на высоком крыльце, а старшина на четыре ступеньки ниже.
– А может это наши? – спросил я старшину, спускаясь по ступенькам на землю.
– У наших, лейтенант, я трассируюших [до сих пор не видал]. Мы стояли в раздумьи, молчали и не знали что делать. Посвист пуль на время прекратился. Но вот пули снова со звоном ударили по крыше и заставили нас приг- ************
– 5- вали настоящие пули. Они издавали какой-то противный дребезжащий звук. Я не представлял себе, что они могут вот так просто царапнуть и лишить жизни человека. А солдаты мои разбирались в этом [куда] лучше меня. Они сразу прикинули, что соваться вперед им не следует. Я видел впереди, как пули, пролетая над самым бугром ******, цепляли за землю и веером вверх и разлетались в разные стороны. [Я понял сразу, что ложиться на землю нет никакого смысла.] Пулемет ещё раз полоснул в нашу сторону, пулеметчик видно хотел взять прицел чуть ниже, [вот почему] но впереди на мощеной дороге веером вырос горящий сноп трассирующих пуль. Они, ударяясь о камни дороги, улетали веером вверх. Мне стало ясно, что мы находимся в мертвом пространстве. Стоим в таком месте, в промежутке местности, куда пули не залетят. Старшина видимо тоже подумал об этом.
– Но позвольте спросить? – обратился я мысленно сам к себе. Как они тогда могли увидеть огонь зажженной спички или папироски, если пулемет задевает пулями за камни на дороге, когда пытается взять прицел несколько ниже? Кто-то у них там стоит во весь рост и корректирует огонь пулемета, а пулеметчик стреляет из положения лёжа. Пулемет явно хочет нащупать нас и пытается пустить очередь под основание дома, но это ему не удается. Мы отошли с Сениным от крыльца, пули теперь грохотали по железной крыши с нашей стороны. Не зная, что делать и что предпринять, я в нерешительности стоял за углом дома и думал. Я смотрел на дорогу и вспоминал подходящий пример из учебной практики в военном училище, но ответа для себя не находил. Не могу же я позорно бежать от первой встречной пули или очереди из пулемета. Я оглянулся назад. Солдаты больше не курили. Их лица из-под касок торчали над канавой. На лицах у них было недоумение.
– Что он ждет? Чего он собственно хочет?
– Нужно скорей уходить! А он стоит и тянет время!
– Возьмет да ещё прикажет: – Вперед по-пластунски! Но, к сожалению, было темно, чьи это были лица, по фамилиям назвать я не мог. А по делу, нужно было бы знать [всех нетерпеливых] своих солдат, кто из них в канаве боязливо [прячется]. Стрельба прекратилась. Я точно заметил, откуда бил пулемет. Бугор, за которым скрывалась дорога, был ближе к немецкому пулемету, чем от меня. Я мог его достать настильным огнем, взяв прицел по летящим навстречу пулям. Я мог срезать тех, кто стоит во весь рост около пулемета [и на дороге].
– Старшина! – сказал я твердо, – Ручной пулемет на крыльцо быстро!
– Что вы, товарищ лейтенант! Мы перевязочных средств не имеем!
– Давай пулемет! Тебе говорят! Я буду сам стрелять! Пулеметчика оставь у забора! Солдаты в канаве попятились назад.
– Я потом себе всю жизнь не прощу, что на глазах у всех немецкого пулемета испугался!
– 6- Старшина позвал пулеметчика, взял у него из рук ручной пулемет, поставил его на крыльцо, положил рядом диск, набитый патронами и отошел за угол дома.
– Правильно сделал, – сказал я, ложась на крыльцо, – рисковать сразу вдвоём совсем не надо. Я поставил планку прицела на нужную дистанцию, ударом ладони вогнал диск под защелку в патронник, закинул за локоть ремень, прижал приклад пулемета к плечу и щеке, и стал спокойно ждать появления трассирующего огонька над переломом дороги. Из стрелкового оружия [в училище] я стрелял отлично. Я долго ждал появления трассирующего огонька [над дорогой] и вот он мелькнул в темноте, наконец, и я нажал на гашетку. Пять пуль, ещё пять и снова короткая очередь в ту сторону. Прицельный огонь нужно вести короткими очередями, успокаивал я сам себя.
– Веди огонь прицельно, спокойно, не торопись! – говорил я сам себе, пустив под обрез дороги ещё три короткие очереди.
– Товарищ лейтенант! Пулемет замолчал! Заткнулся при первом же вашем выстреле! – пробасил старшина, выходя из-за угла дома. Я даю еще три короткие очереди, вглядываюсь и чутко вслушиваюсь в темноту, и подымаюсь с крыльца. Я велю старшине забрать пулемет и отдать пулеметчику.
– Ну вот, старшина, теперь полный порядок! Теперь у меня на душе благодать и покой! Как это тебе лучше выразить?
– Теперь можно спокойно топать обратно и искать другую дорогу!
– Но с солдатами нашими мы с тобой горя хлебнем!
– Попомни мои слова! И действительно, старшина потом с ними попал в плен, а мне эти слова надолго запомнились. У меня было хорошее настроение. Я заставил замолчать немецкий пулемет. Хотя, по сути дела, я ничего особенного не сделал.
– Пошли назад! – подал я команду, повернулся обратно и пошел вдоль забора. Возможно, немцы успели переправиться через Волгу и подобраться, к городу с этой стороны. Не по своим же я стрелял? Солдаты вылезли из канавы, разогнули спины, закинули через плечо [на ремень] свои винтовки, и пошли, скобля набойками сапог по мостовой. Ну и трусливы же они – подумал я, искоса посматривая в их сторону. У всех солидный возраст и внушительный вид. Когда не стреляют, они говорят ****** рассуждают обо всем уверенно и [просто] даже настырно. Наверное, чем меньше знает человек, тем больше он в своём мнении уверен. И это идут, скобля сапогами по мостовой, мои солдаты, с которыми мне завтра начинать настоящую войну. [Попали под пули, попадали все в канаву!] Услышали повизгивание пуль – и попрятались! А может я зря, может я не прав? Возможно, я ошибаюсь? У них сейчас действительно усталый и замученный вид. Ведь мы без малого прошли километров семьдесят и за сутки на марше ни разу не присели. Мы шли весь вечер, всю ночь, и потом весь день. Теперь уже ночь, и теперь ещё конца дороги не видно! Они просто уста- ************
– 7- ногах, а для них полежать в канаве – давно желанный отдых, Как считать этот обстрел? Началом войны? Боевым крещением? Или первым испугом? Сорокалетние солдаты мои не только не захотели вести перестрелку, но и по их твердому убеждению они должны воевать только в подземных ДОТах. Они никак не предполагали попасть простыми солдатами, стрелками, в пехоту. Годными к строевой службе они себя не считали, потому, как они были отобраны сидеть под землей [в бетонных капонирах]. На поверхности земли могли воевать я, старшина Сенин и солдат Захаркин. Все остальные были специалисты и могли обслуживать только подземную технику. Их и на фронт отправили с тем, чтобы сидеть в укрепрайоне, а не бегать [как дуракам] с винтовками наперевес и под пулями кричать – "Ура!" О многом передумал я тогда, шагая по темным улицам Ржева. Завернув за угол, мы пошли обратно в город. Через некоторое время мы добрались до другой мощеной улицы, уходящей на север. По ней мы свернули в темноту, и пошли по новому направлению. В городе по-прежнему было безлюдно, безмолвно и тихо. Только звонкие удары стальных набоек солдатских сапог раскатисто и резко гремели по каменной мостовой. Я иду и разглядываю фасады домов, дубовые ворота и глухие заборы. Я шагаю по середине булыжной улицы, смотрю по сторонам и пытаюсь понять, что собственно особенного и примечательного в облике этого города. Куда девалось пятидесятитысячное население города? Через два дня дома, улицы и весь город исчезнут в огне, и образ старого города останется лишь в памяти живых людей. Совсем недавно здесь бурлила настоящая жизнь и кипели людские страсти. Дни уходили в заботах и труде. В домах жили люди, в печах кипели чугуны, на плитах шипели сковородки, на углях пыхтели самовары, скрипели половицы, хлопали двери, на веревках висело бельё, у сараев кололи дрова и складывали их вдоль забора в поленницы, по улице грохотали телеги. И что характерного? Куда не взгляни, кругом одноэтажные, деревянные с глухими заборами собственные дома и ворота, запертые на засовы и запоры. Окна домов плотно закрыты двухстворчатыми ставнями. Стекла берегут или воров опасаются? Стоят среди них и ветхие, совсем покосившиеся домишки, крытые дранкой, позеленевшей от времени. Крыши у некоторых из них поросли мелким мхом, похожим на бархат. Ржев разнолик. Но большая часть домов ещё крепка и на совесть сколочена. На улице стояли и двухэтажные деревянные жилые дома. В них, по всему, видно, жили рабочие люди. Дома эти фасадами выходили прямо на улицу, окна у них были настежь раскрыты, двери болтались на обвисших петлях. В домах гуляли сквозняки и ветер, на улицу доносились изнутри разные запахи [и скрипы]. Пахло жильём, кухонной утварью, керосиновой гарью, чем-то кислым, вроде прокисшей вареной картошки или квашеной капусты. ************
– 8- подкашивались ноги, урчало в животе. Старшина Сенин настояний злодей! Зря он тогда на пожаре обругал старательного солдата Захаркина. Из раскрытого окна явственно подуло запахом квашеной капусты. Вот сейчас бы щец со свининкой? Вся бы усталость прошла! Старшина Сенин шагает рядом. Он потягивает из кулака папироску и молчит. Вот и он повел носом в сторону открытого окна, мотнул головой как бык, но ничего не сказал. Молчат и солдаты, улавливая запах.
Ладно! – решаю я. Не буду на счет кислых щей разговор заводить. У старшины нюх лучше, чем у меня. Когда мы подходили из-за Волги ко Ржеву, света и самого пожара за лесом не было видно. Старшина тогда повернул ко мне голову и сказал:
– Пахнет гарью, лейтенант! Город Ржев где-то рядом, должно быть, горит. Я шел тогда по дороге и запаха гари не чувствовал. Вот и сейчас, проходя мимо раскрытых окон, в нос мне ударил запах подгорелой картошки на сале. Старшина покрутил носом, потер ладонью за ухом, помял небритый подбородок, взглянул сердито в ту сторону и, глубоко вздохнув, молча ускорил шаг.
– Братцы, съестным пахнет! – сказал громко кто-то из солдат.
– Топай, топай! – услышал я голос Захаркина.
– На меня за ложку орали!
– А сами?
– Чуть паленой картошкой запахло, слюни [распустили] потекли!
– Не отставать! – басом крикнул старшина, солдаты прибавили шагу и сразу как-то сгорбились и приуныли. Не все жилые дома одинаково серые и друг на друга похожие. Фасадами смотрят на улицу коммунальные. А частные и собственные в основном прячутся за заборами. У ветхих домишек завалинки из земли, а совсем древние и полуразрушенные опустились в землю и вросли по самые окна в нее. Века простояли, а теперь наравне с другими доживают свой последний день. Улица, улица! Все здесь притихло и ждет приближения огненной бури! Дома как живые люди. Они разные на характер, на вид, и на манер: серые, темные, гладкие и корявые, сгорбленные и прямые с могучей красой и осанкой, по виду вроде как наш старшина. Все они разные и вместе с тем чем-то похожие, по виду своих крылечек, наличников, дверей, и окон. Все они были когда-то заново срублены [умелой и мозолистой рукой]. Много лет простояли, служили людям, были для них родными. У многих людей прошло здесь детство и юность, незаметно и тихо протекла целая жизнь. У каждого здесь свой уголок, своя на ощупь знакомая калитка, распахнутая на улицу дверь, скрипучая лестница или половица, небольшая комната и дешёвые обои на стене. Здесь в рамке [из багета] под стеклом на стене висят фотографии, когда-то здесь живших людей, все они давно ушли из этой жизни, не оставив свой след на земле. ******Вон открытое ******
– 9- на окне. Всё это сегодня стоит и ждет [своего] последнего часа. Всё завтра сгорит, превратиться в кучу серой золы и ненужного пепла. Не станет ни города, ни знакомой улицы, ни родного дома, где раньше был и жил человек. И будут они потом лишь являться человеку во сне. Родного дома ему никогда не забыть! Пожар где-то сзади бушует и ревет. Пламя вдоль улиц движется всё быстрее. А может, в этих домах окруженных заборами сидят и затаились живые [и здоровые] люди? Ну скажем, владелец дома – бывший торгаш, или с частным патентом ломовой извозчик, скопивший золотишко, или какое другое добро. Сидит он внутри и ждет перемены власти. А раз мы идем и сапогами по мостовой, значит власть ещё на месте и [ещё] не переменилась. Сгорите вы отступники живьём вместе со своим добром, если в ожидании новой власти вы будете настойчивы и упорны. Нельзя предавать свою землю и русский народ. Напрасно вы затаились и заперлись на засовы. Крыша и стены дома, заборы, окна и двери нагреются незаметно, пламя охватит всё разом кругом. Сгорите вы в страшном огне, и пикнуть не успеете. Солдаты идут по булыжной мостовой, гремят стальными подковами среди безмолвия ночи. Зря они скрываются и прячутся от нас. Мы простые солдаты и такие же русские люди. Нас тоже ждёт неизвестность. Нам нужно только спросить, куда ведет эта дорога? У нас нет сил стучаться подряд в каждый запертый дом [где сидят тихо отшельники, закрылись и затаились] и спрашивать о дороге. И не знают они того, что в Великой Германии собственность охраняется законом только для немцев. А остальные, другие и прочие нации подлежат ликвидации вместе с добром. Нам солдатам войны чужого добра и барахла не надо. Нам, как нищему, пожар во Ржеве не страшен. Солдату винтовка ремнем натерла плечо, мешок вещевой, набитый патронами лямками режет шею. Так рассуждал я, шагая по мертвому городу. Улица, улица! Пустынна ты и тиха! Дрожишь ты и колеблешься в отблесках пламени пожара и темени ночи! Что будет завтра с тобой при ярком солнечном свете? Мы те последние, кто шагает по твоей мостовой! На углу двухэтажного дома, прямо на мостовой, вниз лицом лежал человек в солдатской шинели. Он лежал и не шевелился. До сих пор мы ни разу не видели убитого. И это для нас было конечно ново и необычно. Солдаты все сразу обступили его. Они стояли и смотрели на него сверху и глазами искали темные следы крови на мостовой. Каждый по-своему думал и представлял, как это случилось, и как смерть настигла его. Вот они трассирующие, горящие в темноте свинцовые пули. Одна такая быстрая и проворная, как маленькая пчелка, прилетела, ужалила, и нет человека [солдата не стало]! Осталась шинель, сапоги и бесформенное тело убитого, лежащее на ******мостовой.
– 10- Это был простой рядовой солдат, в помятой шинели, без поясного ремня, без каски и пилотки на голове и без своей солдатской винтовки. Многие из наших стариков, поглядев вниз, обнажили свои головы. Они стояли над мёртвым телом солдата и как это принято некоторое время молчали. Старшина Сенин подошел к толпе, растолкал солдат, подался вперед и нагнулся над трупом.
– Что он там нюхает? – подумал я, – Хочет по запаху определить, давно ли убили? Старшина подхватил, лежавшего на животе, за рукав и потянул на себя, перевернул его осторожно на спину. И тело солдата вдруг вздрогнуло и стало дышать. Он промычал что-то невнятное и у всех сразу вырвалось – Живой! Старшина наклонился ещё ниже и недовольно повел в сторону носом. Затем он выпрямился, хмыкнул под нос, покачал головой и повернулся ко мне.
– Он, товарищ лейтенант, пьяный! – пояснил старшина, поглядывая на солдат.
– Вот это гусь! – протянул кто-то. Старики недовольно стали натягивать пилотки и каски.
– Узнать бы, где брал?
– Сам видишь, от него слова не добьётся!
– Мычит от удовольствия!
– Наверно думает, что это жена его толкает! – заговорили солдаты.
Лежачего потрясли еще раз за рукав, но кроме протяжного – My! – от него ничего не добились. Он был в непробудном состоянии.
Я подошел к старшине, посмотрел на лежащего забулдыгу и обратился к своим солдатам:
– Кто понесёт? Нельзя бросать человека в горящем городе!
Солдаты стояли, смотрели на пьяного и упорно молчали. Я понимал. Каждый из них до предела устал. Никто не знал, сколько осталось шагать по городу. Нести на себе пьяного никто не хотел. Я не стал настаивать и принуждать их к этому. Каждый был на ногах уже больше суток. Они двигали ногами по мостовой, словно переставляли чугунные чушки. Ноги у всех отекли, коленки не гнулись. А тут ещё на себе нести такой груз. Я ещё раз обвел всех солдат вопросительным взглядом, увидел их понурые, осунувшиеся и почерневшие лица, отошел на середину мостовой и решительно сказал:
– Пошли! Солдаты облегченно вздохнули и сразу заторопились. Только что они перед ним стояли с обнаженными головами, а теперь живой он стал им ****** в тягость, и не нужен. Освещенные всполохами пожара дома и заборы снова поплыли назад. Отблески пламени и вспышки пожара иногда прорывались сквозь черные ******
– 11 – Через некоторое время под забором мы увидели ещё одного упившегося солдата. Этот удобно лежал на мягкой траве и храпел, как говорят, на всю Ивановскую. Будить и толкать его солдаты не стали. На углу темного переулка лежали еще двое мертвецки пьяных солдат. Один устроился на крыльце, а другой, как бы чином пониже, валялся на земле в ногах у верхнего. Хорошо, что мы не понесли на себе того, первого! Тут нужен целый обоз, чтобы собрать всех пьяных и вывести их города! Ничего! Подберется огонь, клюнет им жареный петух в задницу, сразу отрезвеют и вскочат на ноги!
– Мы идем по верному следу! – говорит мне старшина. И действительно, завернув за угол мы подошли к раскрытым железный воротам. На полукруглой вывеске из металлической сетки, обрамленной литыми завитушками и вензелями, красовалась рельефная надпись: "Ржевский спирто-водочный завод. " А ниже под ней и гораздо мельче и тоже литыми буквами было указано, что основан [он] в 1901 году. Солдаты задрали носы, из под касок не очень видно, и стали читать надпись на вывеске. Я приказал стоять всем на месте и к открытым воротам не подходить.
– Читайте издалека! Котелки не отвязывать!
– У меня плохое зрение, товарищ лейтенант! – пробасил верзила солдат хриплым голосом. Я отстегнул кобур, вынул наган, перебросил его в руке, как это делают в кино на экране, и погрозил стволом в его сторону.
– Ты у меня сразу прозреешь!
– Отойти всем к забору, с тротуара никому не сходить! Солдаты послушно и нехотя попятились все к забору.
– Еле ноги волокут! А туда же!
– Учуяли спиртное и губы развесили! На спиртное, видать, у вас губа не дура!
– Только сделай кто шаг вперед, уложу на месте!
– Я не шучу! Это всем понятно?
– Вам видно мало четверых, которые валяются на улице?
– В разведку пойдет старшина. Разрешаю ему взять с собой одного солдата! А вы стойте на месте, смотрите на вывеску и нюхайте издалека! И не курить никому! А то от одной спички на воздух взлетите! Старшина позвал с собой солдата Захаркина. Старшина и солдат, которому теперь было оказано особое доверие, скрылись в проходе железных ворот. Я понял сразу, что солдатам нужно выдать определенную порцию водки. Пусть немного оттает солдатская душа, и отойдут одеревеневшие ноги. Грамм по сто пятьдесят, не больше, прикажу старшине выдать каждому. И без всякой личной инициативы с их стороны, когда придем на место ночевки.
– 12- Наш командир роты старший лейтенант Архипов, которого теперь не было с нами, осудил бы меня. Я дал старшине по сути дела молчаливое согласие. "Додуматься надо!" – сказал бы мне старший лейтенант. "Взял и разрешил старшине отправиться за спиртом!" Но попробуй, не разреши, удержи их насильно – говорил мне внутренний голос. Они ночью, когда все уснут, потихоньку уйдут и напьются [в три горла] как ******. Накачаются до потери сознания, потом их бегай, ищи, собирай [в полыхающем городе]. Трудно знать наперед, что это за народ и на что они [ещё] способны? Больше месяца вместе и ни одного из них как следует, не знаю. Приглядываться – приглядываюсь. Но и жду от любого какой-нибудь выходки. Кто из них надежный? А кто всю жизнь разгильдяй? Возраст тут не причём. Всё зависит от привычек и характера человека. Пусть лучше идут за ведром со спиртом, как телок за ведром с пойлом. А на счет выпивки, они однажды себя уже проявили. В эшелоне, когда ехали на фронт, поезд стоял в Москве на станции в Лихоборах, сумели они тогда незаметно от всех пронести в вагон бутылки спиртного. "Выпей, лейтенант! – просили они. Мы для тебя расстарались, красного церковного кагора достали" – вспомнил я их елейные голоса. А что собственно с тех пор изменилось? Что, они стали лучше? Почему я сегодня не пресек старшину? И все же, лучше им выдать по норме, чем с ними бороться и держать их в узде. Придут на место ночевки, [лягут на пол], проглотят положенную порцию и сразу уснут. Утром проснутся, а спирта уже нет. Часовых на ночь ставить не буду. Ставь не ставь, все равно все заснут! Вскоре из темноты ворот показался старшина, а сзади шел Захаркин. Он нёс в руке ведро, наполненное спиртом. Солдаты, стоявшие у забора, сразу оживились. Куда девалась усталость, они разогнули спины и заулыбались. Рты у них при этом растянулись до самых ушей. Пошли шуточки, прибауточки, и разные непристойные словечки.
– Направляющие! Взять интервал! Шагом марш! – подал я команду, и мы тронулись с места. Я шел за дозором, старшина Сенин рядом, а Захаркин с ведром в трех шагах сзади. И когда оживление и солдатские шуточки перешли в общий порыв, я обернулся и сказал:
– К ведру не подходить на пять шагов!
– Кто не хочет остаться без водки пусть держит дистанцию! Это мой приказ! И шуточки в сторону!
– Товарищ лейтенант! Разрешите ведро понюхать? А то может старшина для хохмы туда простой воды налил. А мы идем как дураки и дистанцию держим.
– Захаркин!- сказал я солдату.
– Тебе жизнь дорога?
– Отвечаешь головой, если кто из солдат подойдёт к тебе хоть на полметра ближе! [Старшине] Приказываю применить оружие! Стрелять в упор без предупреж- ********
– 13-
– Они у меня к ведру не сунуться! Захаркин поставил ведро на мостовую, скинул с плеча свою винтовку, перебрал рукой затвор, вогнал патрон в казенную часть, и взвел предохранитель. И все солдаты сразу поняли, что с Захаркиным шуточки плохи. Захаркин тот самый солдат, над которым смеялись, что он по дороге потерял свою ложку. Теперь во взводе, считай, он был третье лицо. После лейтенанта и старшины он с ведром был на самом видном месте. Вот так потеря ничего не стоящей ложки обернулась для него вдруг всеобщим вниманием. Сержанту, командиру орудия не доверили нести ведро, а ему, вечно бывшему у всех на побегушках, оказали такое доверие и особую честь. Мы вернулись по переулку назад, и вышли на главную улицу. Впереди пошел дозор, метрах в двадцати Захаркин с ведром, потом я и старшина Сенин, а за нами чуть сзади остальные солдаты, Я иду по середине улицы и смотрю по сторонам. Нам нужно выбрать подходящий дом для ночлега. Вот такой двухэтажный, думаю я, нам подойдет, если попадется дальше, то мы зайдем и переночуем. Чувствуется окраина города, но конца улицы еще не видно. Мимо проплыли закрытые ставни, глухой досчатый забор и железная крыша. И вдруг в следующем доме через щель двухстворчатой ставне мелькнул огонек. Я видел довольно ясно, как мелькнул он и погас. Я сразу остановился. Может, мне показалось – подумал я.
– Вы что лейтенант? Ногу подвихнули? – спросил меня, обернувшись назад, старшина.
– Нет, Сенин!
– В окне огонь мелькнул.
– Я ясно видел его вот в этой закрытой раме.
– Видишь старшина, в доме темно, окна закрыты, ни голосов, ни детского плача, никакого движения, ни шороха.
– Кто-то через щель смотрел изнутри, увидели нас, задули огонь, или задернули штору. Услышали наши шаги по мостовой и решили посмотреть, кто там идет: наши или немцы. Если в этом доме есть живые люди, нам нужно туда зайти и узнать, куда ведет эта дорога.
– Сейчас все сделаем, товарищ лейтенант! Старшина подозвал к себе четырех солдат и сказал им:
– Пойдете со мной! Нужно этот дом проверить! Я сделал три шага назад и стал внимательно смотреть на ставню. Я хотел разыскать ту самую щель, из которой блеснул огонек, но его больше не было видно. Старшина подошел к калитке, подергал за ручку, калитка была заперта. Ворота тоже были закрыты изнутри на засов. Старшина отцепил от пояса свой тесак, подсунул лезвие ножа под щеколду и потянул калитку на себя. Железная щеколда подалась вверх, нехитрый запор ******
– 14- Старшина показал солдатам на запертые ворота, велел им снять поперечный брус и раскрыть ворота пошире.
– Прошу, товарищ лейтенант, дорога открыта! Обернувшись к солдатам, которые остались стоять на мостовой, я показал им молча рукой на окна и добавил:
– Смотреть в оба и быть начеку! А сам вместе с четырьмя солдатами и старшиной вошёл во внутренний двор дома. Двор небольшой, кругом обнесен глухим высоким забором. Прямо сарай, справа забор, слева крыльцо в одну [с четвертью] ступеньку. Перед нами стена четырехстенного рубленого дома. Окон, выходящих во двор, дом не имеет. Старшина ступил ногой на крыльцо, потянул за ручку двери. Дверь была заперта изнутри на запор. Старшина размашисто и громко постучал кулаком по двери, но на стук никто не ответил. Нам в голову не пришло, что в доме могли засесть и притаиться ненцы. Мы действовали открыто, ничего не опасаясь, как у себя дома. Старшина повернулся к двери спиной и каблуком сапога ударил несколько раз со всей силой. И на этот раз, на грохот сапогом, никто не ответил. Старшина ударил еще несколько раз. Но внутри и вокруг по-прежнему было мертво и тихо.
– Возможно, я ошибся? – сказал я старшине. Но он, как борзая на гоне, ничего не хотел больше слышать. Поднести квадратный брус от ворот! – не отвечая мне, приказал он солдатам.
– Чего зря время терять! Раз сами не открывают, снесем дверь вместе с петлями и запорами! Они сейчас у нас попляшут! Солдаты подхватили на руках тяжелое бревно и подали его конец старшине. По команде старшины брус раскачали и ударили в дверь. Первый удар был неудачный. Петли и запоры остались на месте.
– Ну-ка, подали маленько сюда, в сторону!
– Ударим вот здесь!
– Ну, дружно взяли! Раз, два, раскачали… Приготовились!
– По моей команде… Пошел! Второй удар пришелся в расчетное место. Дверь под ударом хрякнула и с грохотом отворилась. Доски, щепки, гвозди, и сломанный запор – всё посыпалось на пол.
– Ну, вот и все! Полный порядок! – сказал старшина, подавая бревно назад на руки солдатам. Я стоял перед открытой дверью. Впереди был узкий и темный коридор. Дверь во внутреннюю часть дома была с левой стороны. Между дверью и притолокой видна была узкая цель света. Эта дверь была, кажется, не заперта. А может, хозяева дома предусмотрительно откинули внутренний крюк, полагая, что и эту дверь могут высадить вместе с запорами. Старшина легонько потянул её на себя. Дверь жалобно пискнула и немного открылась. Двое солдат по указанию старшины быстро встали **********
– 15- Старшина еще раз потянул за ручку двери, и она тоненьким голоском снова запела. Мы стояли в темном коридоре и смотрели в полуоткрытую дверь. Из темноты коридора, за порогом, была видна освещенная внутренняя часть дома. Мы никак не ожидали увидеть перед собой зажжение свечи и горящие лампады. Снаружи, со стороны улицы и со двора это был обыкновенный бревенчатый серый дом, больше похожий на деревенскую избу. А заглянув во внутрь, в освещенную мерцающим огнем покои, мы увидели что-то похожее на алтарь, на божий храм, на святую обитель. Посередине комнаты стоял длинный стол. На столе лежали расшитые полотенца, на них караваи хлеба, солонки с белой солью, и церковные просвирки. Не было только на столе церковного кагора, которым когда-то в эшелоне хотели угостить меня мои солдаты. Здесь на столе стояли начищенные до блеска тяжелые бронзовые подсвечники. Они были утыканы тонкими, как гвозди, восковыми свечами. Свечи горели ярким и желтым огнем. На ум сразу пришла когда-то знакомая песенка: "Помнишь ты ноченьку темную. В тройке мы мчались вдвоём, Лишь фонари, горят одинокие, тусклым и желтым огнем…” (Кстати, мотив песни «Синий платочек» был списан именно с этой). Пламя с нескольких свечей слетело, его сорвало воздухом, когда открылась дверь. Теперь они дымили и пускали неприятную вонь. Запах от них был как от сгоревших отбросов. Мы вошли в дом со свежего воздуха и теперь нам из комнаты в лицо ударил спертый [угар и] запах человеческих тел. Пахло потом, маслом горевших лампад и церковным ладаном. Низкая избенка, где рукой можно достать до потолка ******** это вам не купол и не своды церковного собора.
– Кругом война, а тут божья благодать! – сказал старшина переступая порог избушки. В первый момент мы были ошеломлены и даже опешили. Но, оглядевшись и придя быстро в себя, мы смело шагнули вперед, согнувшись под низкой притолокой двери. Повсюду на стенах и в красном углу висели иконы и на нас с них смотрели святые спокойные лики. Куда не отодвинься, ****** не отойди, взгляд святого повернут всё время к тебе, глаза сосредоточенно смотрят в твою сторону.
– Центральная перспектива – подумал я. Когда-то нам в кружке рисования рассказывали об этом. Перед каждой иконой горящая лампада. Отблеск её пламени тихо колеблется в прозрачном сосуде, наполненным маслом. Большая, красного стекла, в серебряной оправе, лампада горит перед большой иконой в углу. Она подвешена к потолку на трех ажурных, расходящихся вниз, медных цепях. У окон, вдоль передней стены, стояла широкая деревянная лавка. Около неё на полу в черных покрывалах молились монашенки. Лица их были скрыты черными накидками, но из-под них торчали носы, костлявые подбородки, и покрытые морщинами губы. Богомолки молча шевелили губами и раз от раза, как по команде, крестились и отбивали поклоны.
– 16- Они не повернули головы, когда мы вошли. Они не шевельнулись и не вздрогнули, когда мы переступили через порог их обители. Они не повели даже глазом, когда мы подошли вплотную к столу. Они еще с большим старанием, рвением и усердием стали креститься, желая пробить деревянный пол своими лбами. Так, во всяком случае, мне показалось.
– Ну, божие коровки! Почему дверь не открывали? – сказал старшина, рявкнув своим могучим басом. Даже пламя свечей заметалось в подсвечниках и лампадах. Но богомолки не ответили и даже не вздрогнули от его громогласного баса. Они только перестали креститься, замерли, оцепенели, и закатили кверху глаза. Старшина подошел ближе к столу, оттопырил большой палец, надавил на круглую буханку черного хлеба, и сказал:
– Теплый еще и совсем свежий! Он собрал со стола несколько буханок хлеба на согнутый локоть, взглянул на меня и передал их стоящему сзади солдату.
– У нас хлеба нет! Солдаты грызут сухари. По три сухаря осталось на брата. А тут хлебом и солью немцев собрались встречать!
– Мне нечем кормить солдат! – обратился ко мне старшина, как бы оправдываясь. Богомолки не только не взглянули на него, они сделали вид, что ничего не видели и ничего не слышали. В мертвом горящем городе мы столкнулись с онемевшими существами. Перед нами в свете горевших лампад мрачно мерцала гнетущая средневековая картина. Старушки, от которых веяло неотвратимым потусторонним миром, сидели в избе со спёртым могильным воздухом, с противной примесью горящего в лампадах масла и затхлого жира свечей. Используя наше молчание, старуха, что стояла на коленях впереди ближе всех к висевшей в углу большой иконе, затянула глухим грудным голосом какой-то молебен. "Внемите люди закон божий. Внимайте себе, бдите и молитеся. Стойте в вере неподвижными. Мужайся и крепитеся сердце ваше. Блюдетеся от еретиков. Стерезитеся от иже развратников веры. Мужаитеся, да и крепитеся сердце ваше, вси уповающи на господа бога нашего… "
– Чего она там мелит, старшина? – обратился я к Сенину.
– Ты в молитвах чего понимаешь?
– Священным текстом напутствует своих богомолок.
– Говорит, берегитесь еретиков. Требует от них твердости духа,
– Она у них, вроде как старшая,
– Вроде как ты – старшина! Солдаты, стоящие в избе и на пороге, дружно засмеялись. Старуха умолкла, услышав раскатистый смех и наши голоса. Но как только хохот утих, и мы замолчали, она снова запричитала: "Господи, перед тобой все желание моё! В делах руку свою увязе ********
– 17- – Это она про нас лопочет? Грешниками нас называет? – сказал я. Нехорошо бабка! Сама русская, православной веры, стоишь на коленях перед святой иконой, богу молишься! А нас солдат-защитников русской земли грешниками называешь! А по всем приготовлениям сразу видно, кого ты божий человек здесь поджидаешь! Немцев – врагов наших! Попомни мои слова! Бог тебя за это накажет! Сгоришь ты в страшном огне! И не позже, чем завтра, останется от вашей обители пепел и зола! И немцев не дождетесь! Старуха чуть вздрогнула, часто закрестилась, и сразу обмякла. Она осела всем телом на пол. А богомолки с испуга вытаращили глаза. Одна из них, распластавшись на полу, вдруг всхлипнула и заголосила. Старшина, стоявший рядом, крякнул в кулак, откашлялся, и рявкнул на неё раскатистым басом. Да так решительно и громко, что свечи в начищенном подсвечнике погасли, а в большой лампаде с красным стеклом, висевшей в углу, колыхнулось и забилось горевшее пламя. Визгливый и жалобный голос её, как ржавая дверная петля, застрял где-то в горле. В избе на некоторое время воцарилась тишина. Слышно было сиплое дыхание тощих старух, видно было как от общего дыхания мерно колебалось пламя в лампадах. Прошло несколько безмолвных секунд. Старушки несколько оправились и оживели, они начали креститься, но голоса не подавали. Под черными одеяниями видны были их костлявые спины, заостренные затылки и впалые дуги глаз. Я обошел комнату, окинул взглядом углы, заглянул за печку, вернулся на место, и сказал: – Может они здесь где немцев прячут? Черные богомолки склонились еще ниже. – Куда ведет эта дорога? – обратился я к передней старухе. – Вы что глухонемые? – гаркнул за мной старшина. – Вас лейтенант спрашивает! А они и ухом не ведут! Старушки склонили головы еще ниже. – Товарищ старшина! – обратился солдат, стоявший у порога. – разве вы не видите, они нас просто дурачат. Думают, что своими молитвами нагонят на нас дурман. Вон как энта старуха бельмами косит. Разрешите, я им из винтовки разок по лампадам пальну? И солдат заклацкал затвором своей винтовки. Богомолки поняли, что простой солдат долго ждать не будет. Они оторвали головы от пола, перекрестились на всякий случай, и зашипели на свою предводительницу. Та легонько поднялась с пола, машинально рукой поправила платок на лбу, провела пальцами по щекам и подбородку, повернулась к нам лицом, и обвела нас внимательным и строгим взглядом. Перед нами стояла складная и крепкая пожилая женщина, высокого роста, широкой породистой кости, прямая, с крупными и даже приятными чертами лица.
– 18- И что самое главное, с умными и проницательными глазами. Взгляд её был уверенным и даже немного добрым. Мы были удивлены. Похожа oнa была на властную игуменью, которая в этой тесной обители строго держала своих божих послушниц.
– Хватит в молчанки играть! – пробасил, не повышая голоса, старшина. Она окинула его мощную фигуру одним и всепонимающим взглядом. Она на секунду задумалась, смотря на него и повернулась ко мне.
– Куда ведет эта мощеная дорога? – переспросил я.
– На Старицу и на Торжок! – ответила она достойно ровным голосом.
– У деревни Тимофеево будет поворот налево. Если пойдете прямо – попадете на Старицу. Там немцы уже три дня. Вам нужно повернуть налево пойдете на Торжок.
– А далеко до Тимофеево?
– Нет, не далеко! Версты четыре будет.
– Смотри, не соври! – вметался в разговор тот солдат, стоявший у порога, – А то вернемся назад, разнесем твой божий теремок. Мокрого места не оставим!
Я не стал одергивать его и промолчал. Мне было интересно, что старуха ответит,
– Правду говорю! Вот тебе крест! – и старуха повернулась к иконе и старательно перекрестилась. Богомолки на полу тоже осмелели. Переглянувшись между собой, они стали рассматривать нас с нескрываемым любопытством. Уж очень им понравился наш старшина. Он был действительно представительным мужчиной. Косая сажень в плечах!
– Ну, райские пташки, божие создания! Как вам только не стыдно! Русские люди, а ведете себя как предатели! Ведь вас за эти приготовления перед строем солдат мало расстрелять! – сказал старшина, на которого они все смотрели.
– Вот на прощание мои вам слова! – сказал он, и мы направились к двери.
– Я, пожалуй, хлеб остальной со стола заберу, товарищ лейтенант,
– У нас хлеба на дорогу маловато. А идти завтра наверно придется далеко. Я обернулся, посмотрел через открытую дверь на освещенный стол и велел забрать хлеб для солдат на дорогу.
– Остальное не трогай! Пусть сидят и молются! Черт с ними с этими убогими старушками! – С этими словами я выпроводил солдат на крыльцо, подождал старшину и велел прикрыть обе входные двери. А выйдя со двора на улицу, к с силой захлопнул калитку, дав им понять, что мы покинули двор. Железный запор глухо звякнул, и калитка сама заперлась изнутри. Когда я вышел на улицу, заговорили стоявшие на мостовой солдаты.
– Немцев хлебом и солью встречают!
– Поджечь их надо!
– Плеснуть пару кружек спирту и поджечь с двух сторон! – подсказал другой.
– Вдарить из пулемета по окнам!- добавил третий.
– 19-
– Жить захочешь, крест на шею повесишь! – заметил голос из темноты.
– Небось, припрятал серебряный или оловянный.
– Таскаешь покуда в тряпице, чтобы старшина или лейтенант не заметили! Этот умолк, а другой продолжал:
– Сдуру и в старух можно из пулемета пальнуть. Храбрости на это не надо. Небось, когда лейтенант из пулемета по немцам стрелял, ты в канаве на брюхе сзади ползал.
– А то, где же! – подтвердил кто-то. Я подал команду. Мы тронулись. Разговоры сами собой прекратились. Только что мы видели людское суеверие и темноту. Не по своей воле собрались они в этой избе. Война загнала их туда, страх в одиночку оказаться перед немцами. Отдельно каждому не под силу одолеть свои сомнения и страх. Сказать всегда просто! Со стороны всегда легко! Кому и зачем нужны эти немощные и одинокие старухи? Уйди они сейчас из дома, брось свой ветхий скарб, выйди на пустую дорогу! Ясно одно, что многие теперь по дорогам и лесам мечутся, не зная, что делать, куда податься, где приложить свою голову, где опору найти! Миновав несколько домов и заборов, мы вышли на окраину и остановились около двухэтажного деревянного дома. Осмотрев его кругом, мы пришли к выводу, что дом вполне годиться нам для ночлега. Вход со двора. На второй этаж ведет прямая скрипучая лестница. В доме мы можем уместиться все, на втором этаже. Весь взвод тут же поднялся наверх, и солдаты с ходу повалились на пол. Теперь никого из них на ноги не поднять.
– Захаркин!
– Слушаю вас товарищ старшина!
– Посмотри там за печкой какую посудину! Нужно за водой на колонку сходить! Захаркин подал старшине пустое ведро. Тот оглядел его, повертел перед глазами, понюхал, и сказал:
– Годиться!
– Колонка напротив! Давай за водой, да гляди побыстрей! Солдат, громыхая тяжелыми сапогами по деревянным ступенькам лестницы, скатился вниз и вскоре вернулся с наполненным ведром.
– Дай попить! – накинулись на него солдаты.
– Я для старшины… Но ведро уже пошло по рукам. Захаркину ещё раз пришлось бежать на колонку. Я смотрел на солдат и думал, что будет завтра, когда подниму, их на ноги. Подам команду выходить, а они останутся лежать на полу? Старшина из ведра черпал кружкой спирт, опускал [её наполненную до половины] стакан в ведро с водой, заполнял кружку водой до краёв и наливал теплую смесь в стеклянную стопку. Каждый поднимался с пола, подходил к старшине, получал из его рук установленную норму, опрокидывал, и довольный возвращался на место.
– 20 -
– Подходи следующий! Кто не причащался? – басил он, как дьяк на церковной паперти.
– Ты вроде той игуменьи! – сказал я.
– Напутствуешь свою братию в твердости духа на сон грядущий!
– На добавки не рассчитывай! – пропел он басом.
– А то я вижу, кой- кто губу оттопырил!
– Правильно, старшина, лучше на завтра оставим, перед дорогой на посошок полагается – подсказал кто-то. Оделив всех по одной порции, старшина подошел к раскрытому окну и одним махом выплеснул из ведра остатки спирта на мостовую. Кто-то из солдат громко ахнул, а другой застонал. Третий сказал зевая:
– Братцы, чистый спирт течет по мостовой рекою. Бери котелки, черпай, кто сколько хочет! На этом со спиртом всё было покончено. Входную дверь внизу заперли на засов. По лестнице спустили кухонный шкаф и припёрли им двери. Сверху поставили табуретки. Поверх табуреток положили скамейку и для большего грохота на неё водрузили два больших чугуна. Я рассчитал так: если немцы ночью подойдут и откинут дверную защелку, то всё сооружение с грохотом обрушиться на них и мы, услышав грохот, вовремя сумеем вскочить на ноги. Но я почему-то надеялся, что немцы ночью в город не подойдут и всё обойдётся без грохота. Ведь мы тоже шли по улице к не лезли в каждой запертый дом. Я махнул рукой и подал команду – "0тбой!" Солдаты были довольны, что никого не поставили в караул. Старшина устроился на диване, а мне, как старшему по званию, отвели двуспальную кровать, покрытую белым коньевым одеялом.
– Он у нас один! – сказал старшина.
– Пусть последний раз поспит на перине!
– Когда ещё вот так придется ночевать? Я положив в ноги: шинель, чтобы не испачкать сапогами белое одеяло, сбросил на пол гору пуховых подушек и велел их разобрать солдатам. А сам, не раздеваясь, повалился в кровать. Постель была мягкая, и я провалился в перину. Вздохнув один раз глубоко, я закрыл глаза, и передо мной снова засветились и замигали свечи и лампады. Там среди богомолок, как я тогда успел заметить, не все были старые и сморщенные как старухи. Я увидел среди них одно | чистое и гладкое лицо. Из под черного платка видны были округлые щеки. Она хотела повернуть голову и посмотреть на старшину, но на неё тут же шикнули, она послушно согнулась и затерялась среди черных платков.
"Разрешите, товарищ старшина, я им пальну из винтовки?" – перебирая в памяти, вспомнил я голос солдата, и тут же заснул.
– 21- Война это игра не забава. Война это страшное горе для многих тысяч и миллионов людей. Лично для нас этот период войной еще не был. Мы отступали и не испытали тогда на себе нечеловеческих лишений, страданий, несправедливости, мук холода и голода, смертельной тоски и настоящего страха, вшей, крови, и самой смерти. Все это придет потом и для каждого в разное время. Для одной солдатской жизни хватит недели, для другой несколько месяцев, а на плечи третьей смертельный груз ляжет на весь последующий период войны. "Каждому своё!" [- как изрекли крылато немцы на воротах Бухенвальда, хотя] Мы до сих пор держались друг друга и шли все вместе [вперед плечо к плечу]. Я рассказал только то, что сам пережил за эти дни. В памяти свежо сохранились и все последующие дни войны.
[Что было на следующий день и как развивались во Ржеве дальше события, я постараюсь написать вам в следующем письме. Сроков не оговариваю. Свободного времени очень мало. Часто болею. Но обещаю продолжить рассказ. Жду от вас письма. С уважением, Александр Ильич Шумилин. «.» Ноября 80 года]
– 22- Мы договорились со старшиной встать пораньше. Нужно будет после ночи осмотреться кругом. Нам в городе оставаться нельзя. В любой момент может измениться ветер и перекинуться пламя. К окраине могут подойти немцы с танками. Ночью они в город не пойдут. Для танков и машин пылающие узкие и кривые улицы опасны. У нас тоже нет уверенности в себе. Мы не знаем обстановки и у нас нет карты. Мы не знаем, где находятся наши войска и куда нам следует идти. У нас нет перевязочных средств, если кого из нас ранит. Солнце уже встало, когда я открыл глаза. Утро было тихое, но какое-то тревожное. Над городом неподвижно стояла черная туча дыма, и только часть окраины была освещена. Дышать было легко, но в горле першило, был осадок и запах вчерашней гари. Спустив ноги на пол и сев поперек кровати, я окинул комнату взглядом. На полу вповалку спали мои солдаты. Откровенно говоря, спать поверх перины было и душно, и жарко. В лицо лезли какие-то кружева. В молодости я спал на деревянном сундуке, в армии приучили к жесткому настилу из досок и солдатскому матрасу. А пружинная кровать с периной мне была совсем ни к чему. Солдаты мои наверно подумали, что я на ней отдохну по барский, а мне на ней было не по себе. Через раскрытое окно с улицы я услышал раскатистый голос петуха. Вот кто разбудил меня своим райским пением! Старшина уже встал. Он стоял у раскрытого окна и курил папироску. Он был задумчив и смотрел куда-то вдаль. Он повидимому давно не спал, и будить меня не собирался.
– Сам уже на ногах! А меня почему не разбудил?- сказал я, подходя к другому открытому окну.
– Уж очень вы сладко спали, товарищ лейтенант!
– Смотрю, даже нос у вас вспотел. Видно от удовольствия!
– На этой перине не отдых совсем, нательная рубашка и та влажная.
– Что там в городе?
– Где немцы?
– В городе тихо! Немцев на улицах нигде не видать!
– Вон куры с петухом копаются в земле под забором. Я сел на подоконник, взялся рукой за верхнюю перекладину рамы, откинулся спиной наружу, на улицу и стал смотреть на освещенную часть города. Я не узнал ночную темную улицу, по которой мы сюда накануне пришли.
– Как изменилось всё! – сказал я старшине. В темноте эта улица казалась узкой и тесной. Старшина продолжал смотреть куда-то вдаль и на мои слова ничего не ответил. О чём он думал? Вчера улица мне казалась зловещей, черной и мрачной. А сегодня я увидел в окно зелёный простор, залитый солнечным светом. Дома, мостовая и внутренние дворики, обнесенные глухими заборами, теперь были
– 23- не серыми и совсем не такими тесными, а даже наоборот, светлыми и вполне живописными. Я долго смотрел вдоль улицы и поверх крыш домов, на заборы и узкие тротуары, на редкие покосившиеся чугунные столбы фонарей. Я вглядывался и искал малейшее движение между домами, прислушивался к посторонним звукам, не слышно ли где урчания моторов или топота солдатских ног по мостовой. Но город как будто застыл при свете солнечного утра. На той стороне улицы стояла литая чугунная колонка, Из её толстого, загнутого книзу крана небольшим ручейком сбегала прозрачная струя воды, И кругом, кроме этого живого звука струи и храпа солдат на полу, всё настороженно замерло и молчало.
– Разбуди трёх солдат! Пусть разберут на лестнице завал и откроют входную дверь! Выход из дома нужно держать открытым! – сказал я старшине и стал рассматривать внутренность комнаты. Комната, где лежали солдаты, была большая и светлая. В углу около русской печки стояла деревянная лохань с одинарной, вверх торчащей дощечки, ручкой. Над ней висел пузатый рукомойник. На конце медного соска изредка появлялась круглая капля воды. Она постепенно росла, падала в кадку и разлеталась на мелкие брызги. Видно, что вчера до бомбёжки люди залили рукомойник водой. На веревке, перекинутой поперек угла, висели полотенце и женский лифчик. Я спрыгнул на пол с подоконника подошел к кадке и нажал на сосок рукомойника, тонкая струйка воды потекла мне на руку.
Надо умыться! – подумал я.
– Пойду к колонке на улицу, – сказал я вслух. Старшина отошел от окна, растолкал Захаркина, велел ему взять полотенце и идти вместе со мной.
– Нажмешь кран, пока лейтенант умывается!
– Есть пойти с лейтенантом к колонке! Мы спустились по скрипучей лестнице, огляделись во дворе, вышли из ворот, перешли на другую сторону улицы, и я долго плескался у колонки студеной водой. Я умылся до пояса, растерся полотенцем, на душе стало спокойнее и даже веселей. Пригладив рукой мокрые волосы, я огляделся по сторонам. Дома, заборы, деревья были залиты солнечным светом и на фоне зловеще черной тучи они были особенно ярко освещены, Вернувшись назад, я приказал старшине поднимать всех людей.
– Пулеметный расчет поставь у ворот. Пусть ведут наблюдение в сторону города и в направлении поля. Остальным умываться во дворе. Воду с колонки носить ведром во двор. На улицу не выходить и зря не болтаться!
– Товарищ лейтенант, мы тут крупу нашли! Печку можно затопить?
– Разжигай, топи, только дров посуше возьми! На фоне пожара дым из трубы не будет в глаза бросаться!
– Жарь, парь, самовар раздувай! Ведь здесь все московские водохлебы. Им чай с заваркой после еды подавай! И на всё я вам даю два часа по часам, что висят на стенке.
– Кстати, поднимите-ка им гири!
– 24-
– Маловато времени дали, товарищ лейтенант! Каша в печке не упреет!
– А ты её с сырцой! Так витаминов больше! Около печки на полу стоял чугун с углями. А рядом на скамейке, поверх старой сковородки, в виде подставки, стоял медный самовар с худой прогоревшей железной трубой. На полке у окна бутылка с постным маслом. У стены приткнуты две табуретки с косой овальной прорезью по середине. Тогда семейные люди сидели за столом на длинных скамейках и табуретках. Я сунул руку в прорезь, поднял табуретку и походил у стола.
– А что! – сказал я, – удобно и разумно! На комоде, покрытым салфеткой, лежали ножницы в железную коробку из под монпасье были н******аны иголки, булавки и пуговицы. Чего тут только нет! Банка с мазью, склянка, с микстурой и прямой частый гребешок – важная деталь для вычесывания [вшей из длинных] волос и для экономии мыла. Чтоб не скрести ногтями в голове и не гонять надоедливых вшей, частым гребешком вычесывали волосы. На стол клали газету, стучали по столу гребешком, они падали на бумагу, и их давили ногтями. Не удивляйтесь, в наше время теперь этот способ забыт. А тогда он применялся не только во Ржеве, но и ****** в Москве, особенно у женщин. Около кровати – женские ****** туфли на каблуке. У порога – мужские стоптанные сапоги из яловой кожи, На обоях кой где следы раздавленных мух и [спутников людей -] клопов. ****** На стене около зеркала висят старые ходики с цепью, гирями и медным маятником. Они мерно постукивают, маятник болтается не спеша. Он отбивает время, навсегда уходящее от нас куда-то в вечность. По часам тоже видно, что жители покинули свою квартиру не так давно. В переднем углу на стене висит застеклённая рамка с фотографиями. Здесь карточки всех поколений, с тех пор, когда в городе появился ****** фотограф. Вот дед с окладистой бородой в рубахе косоворотке подпоясанной витым пояском с бахромой. Здесь бравый солдат с лихо закрученными усами. На нем военный мундир с погонами и фуражка с кокардой. Рядом полногрудая молодая женщина с русой косой. Полные, сильные руки её сложены на груди калачиком. Отрываю взгляд от фотографий. Смотрю, Захаркин подходит к печке, нагибается и поднимает крышку над сковородкой. На ней лежат белые блины.
– Ну вот, Захаркин! Ты к теще на блины в самый раз и поспел!
– Чего стесняешься? Бери, разогревай, и ешь в удовольствие! Я немного отвлекся с Захаркиным и снова смотрю на застекленную раму. Здесь портретная галерея [всей живой истории города и людей] родных и знакомых. За стеклом молодые и старые лица. Все они, как святые с икон, смотрят на меня. Вот женщина в годах с добрым открытым лицом, она, поджав губы, выглядывает из-под ситцевого платочка. Рядом с ней на лавке мужик в белой рубахе навыпуск, подпоясанный тонким ремешком. Он сидит, растопырив ноги, животик у него сытенький и кругленький навыкате. Но вид у мужика скучающий, выражение лица угрюмое, губы расплылись недовольной [гримасой] улыбкой, и если хотите, нетерпением. У него давно сосет под ложечкой, он давно томится с похмелья. А тут сиди перед аппаратом, а дружки его давно
– 25 – опохмеляются в кабаке. Зачем он только сел сюда? У него душа болит. Он теряет драгоценные минуты. А "хватограф" накрылся черной тряпицей и говорит:
– Улыбайся! Он ему давно машет рукой, давай мол поскорей – душа изболелась, а он на Прасковье его поправляет платок и твердит: Сию минуту! Сейчас мужик возьмет и встанет, кашлянет в кулак, в сердцах на отмашку махнет рукой и поспешит к дружкам в кабак. Руки у него большие, сильные, и лежат они неуклюже, как плети, на коленях. В нижнем углу под стеклом вставлена фотография дальнего родственника. На голове у него меховая шапка пирожком из каракуля, а на плечах подбитая лисьим мехом суконная шуба. Воротник, как положено, в виде шали. Почему такое видное лицо и посажено в самый нижний угол? Видать Никодим Пафнутьич раскулаченный мироед. Когда-то с набитой мошной в коляске на дутых шинах катал по городу. Дело солидное имел. Рабочие люди гнули на него свои спины. А в нынешнее время, фотографии такого пошиба были уже не в почете. Все же дальний родственник! Вот и засунули его подальше в угол, чтобы гостям глаза не мозолил. Промеж фотографий под стекло вложены тесненные цветные открытки. Тут райские птички, декольтированные дамочки и эффектно одетые в черную пару кавалеры, гладко причесанные на пробор, в накрахмаленных воротничках с бабочкой в манишке и с томной страстью на лице. А дамочки? Что дамочки? Вас интересуют они? Дамочки на открытках, простите, со спущенными фильдеперсовыми чулками. Потому как они, пребывают в изящной картинной позе. Из-под кружевной бахромы они выставили напоказ бутылочкой ножки. На другой такой же меланхолической открытке неотразимый взгляд красавца мужчины зовет вас совсем в иной мир грёз. Рядом в изящном изгибе протянутая для поцелуя ручка. На пальчиках женской руки с заострёнными ногтями изумруд в золотой оправе и сверкающий бриллиант. Внизу на свободном поле открытки рельефное теснение – "Сан-Петербург. Издательство Сытина и К. ° " Смотришь на них и невольно думаешь, откуда вся эта распомаженая тля взялась. Кто-то ведь гнул спину на них, чтобы вот так им сиять и сверкать бриллиантами. Под стеклом еще одна фотография, на ней тот самый лихой солдат с закрученными усами. Но теперь на нем не царская кокарда, а остроконечная буденовка с пятиконечной звездой. Стоит он во весь рост, стоит твердо на ногах и уверенно смотрит в светлое будущее. Левая рука на эфесе сабли, а правая согнута в локте и лихо уперта в бок. Опоясан и затянут он хрустящими ремнями новой портупеи. Революция разом смела весь старый и затхлый мир. [Стоит солдат перед аппаратом, а сам повел в сторону глазами. Он весь в]
– 26- [Он весь в ожидании и нетерпении. ******** ****** ****** "По коням". Боевой эскадрон пылит по дороге. ****** ******** ****** колпачком объектив. Лихой кавалерист сорвется сразу с места, вскочит в седло и пойдёт догонять эскадрон. А кони уже разворачиваются на дороге.] А вот фотография не четкая и даже неумело сделанная. Сразу видать, что снимал любитель фотограф. Здесь по середине деревенской улицы собрались мужики, вся честная компания. На мужиках запыленные кепки, выгоревшие на солнце картузы, серые помятые пиджаки, и такие же затертые землёй и пылью брюки. Они сложили пониже живота свои руки, стоят всем сходом около трактора присланного в деревню из города. На земле, около колёс, чтобы не загораживать взрослых, сидят мальчишки. На улице теплынь, солнце шпарит, а они – мальцы в старых отцовских валенках, ватных: поддевках и потертых зимних шапках. Вот вам [и полная фактическая] ещё одна картина появления на селе первого трактора. И наконец под стеклом ещё одна предвоенная фотография. На ней снята базарная площадь. На переднем плане мордастая физиономия ломового извозчика. Он стоит и держит свою лошадь под уздцы. Ломовая лошадь его ухожена и упитана. А сам этот частный предприниматель, чуждая нам и отмирающая личность. Около него разинув рты стоят такие же уходящие из жизни типы. Похожи они то ли на торгашей, то ли на перекупщиков. Передний план, где толкутся жадные до жирного куска темные личности, для нас не имеет серьезного значения, время уйдет и со временем исчезнут и они. Но что характерного и замечательного в этом базарном пейзаже? Это то, что изображено дальше на заднем плане. Там виден угол каменного дома и на этом углу висит динамик громкоговоритель. По мостовой, вдоль улицы, несется грузовик отечественного производства. Вот вам и весь рассказ в картинках и фотографиях о городе Ржеве. Здесь нет шапок из каракуля пирожком, нет размалеванных девиц с тупыми и смазливыми физиономиями. Здесь везде и повсюду видны трудовые люди с мозолистыми от работы руками. Вот за кого мы должны идти на войну.
– Сколько там время? Не пора ли нам уходить? – сказал я и взглянул на часы. Каша давно сварена. Солдаты сидят на полу, едят кашу и роются в своих мешках. Покончив с едой, мы спускаемся вниз по скрипучей лестнице. На веревке во дворе висит бельё и болтается на ветру. Ветер переменился, резко усилился и дует от пожара в сторону города. Что-то ждет нас теперь впереди, на дороге? Старшина во дворе строит взвод и объявляет порядок движения. Я от себя добавляю тоже несколько слов. Мы выходим на улицу и поворачиваем в сторону открытого поля, оставляя позади себя последние дома [сараи и заборы].
– 27-
Так мы идем, поглядывая то вперед, то по сторонам вдоль широкой открытой и замусоренной равнины. Пейзаж обыкновенный, трава, покрытая слоем пыли, пожухшие кочки, рытвины и канавы. Вскоре откуда-то сзади и сбоку на нашу дорогу выехала телега и загрохотала по булыжной мостовой. Мужик правил лошадью стоя в телеге, нахлестывал свою лошаденку кнутом и дергал вожжами. Лошадь, широко, вразброд, бросая ногами и вытянув шею [вперед], неслась прямо на нас. Мужик поминутно оглядывался назад, смотрел по сторонам, а нас впереди, перед собой, [никак не замечал] повидимому не видел. И только когда телега и лошадь навалилась на нас, он [в то же мгновение] тут же очнулся, увидел солдат и задрожал всем своим тёлом. Мы немного расступились, чтобы он не наехал и кого не задел, а он с перепугу сразу осадил свою лошадь. Мужик стоял в телеге, широко расставив ноги, а между ног у него лежали туго набитые мукой мешки. Осадив свою лошадь и рассмотрев вооруженных солдат, стоявших по обе стороны ****** дороге, он явно перетрусил, заморгал глазами, машинально сорвал с головы свою кепку, смял её в кулаке, вытер ей лицо, и стал озираться как обложенный зверь по сторонам. Он как бы ****** взывал господа бога о помощи и подмоге. Он хотел было свернуть в сторону и галопом удрать. Но взглянув ещё раз на солдат и поняв, что пуля не дура, его быстро догонит, он с досады [присел] нагнулся и ударил по мешку кулаком. Старшина не торопясь подошел к холке лошади и взял её под уздцы, а солдаты стоявшие вдоль обочины дороги поснимали с плеч винтовки и для порядка передернули затворами. Мужик сразу обмяк. Он отпустил натянутые и накрученные на левую руку вожжи, колени у него ослабли и подогнулись, и он присел на мешки. Присел, а руки свои растопырил. Обхватил мешки, как бы показывая солдатам, что это мои. Старшина спросил его, откуда и куда он едет, что у него в мешках, и куда он их везёт.
– Куда ты так летишь, как вор, без оглядки? – добавил кто-то из солдат. Мужик промолчал.
– Я его щас убедю! – сказал пожилой солдат и приставил мужику под ребро ствол винтовки. Какие они все здесь дюже разговорчивые! Пока не ткнешь винтовкой, слова не выдавишь! Мужик, озираясь по сторонам и как будто боясь что-то забыть, торопливо стал рассказывать куда он теперь едет.
– Я тебя спрашиваю, откуда ты братец сорвался?
– Затемно я подъехал к железной дороге. Там, товарищ начальник, склады. Их бомбежкой немцы разбили и подожгли намедни. Они там горят. Я с опасностью для жизни из огня мешки эти вытягнул.
– Мука тонкого помола? Крупчатка? – спросил старшина.
– Да браток, белая, – жалобно простонал мужик.
– Мародёр значит!- сказал старшина.
– 28- Мужик возможно прикинулся или не понял этого слова.
– Да, да! – ответил он, – Я местный!
– Товарищ лейтенант, его расстрелять надо – загалдели не дружно солдаты.
Мужик вытаращил глаза, оттопырил нижнюю губу. Он не мог даже дух перевести.
– Если вам тоже белой мучицы надо, так там её много. Идите, берите!
– А говоришь с опасностью для жизни? Мужик от отчаяния бросил свою кепку, которую он тискал в руках, притопнул её в телеге ногой, и обратился к солдатам:
– У меня братцы малые дети без хлеба сидят, больная жена! Виноват! Четверо у меня их!
– А почему ты не в армии? – спросил старшина.
– У меня товарищ начальник белый билет. Я по здоровью освобожден,
– Я по болезни с детишками… – обратился он к солдатам, пытаясь найти у них поддержки, Я всё это время молчал и смотрел на него. Физиономия здоровая и даже упитанная. На больного и немощного он совсем не похож. Пятипудовые мешки в телегу заваливал, силы хватило! И я покачал головой. Мужик видно понял, что ему не отвертеться. Он возвел глаза к небу, зашевелил беззвучно губами и две крупные слезины появились у него на щеках. В душе у меня было много за и против. Ведь врет мерзавец! А с другой стороны, этот хоть не агитирует нагло. Как тот, что стоял на крыльце. Что собственно изменилось за эти двое суток? Почему на его появление с мешками мы реагируем и судим так строго. Мимо того оратора солдаты прошли понуро и молча, а тут одного моего слова хватит, чтобы он схлопотал себе пулю в живот. Мы наверно за эти тяжелые сутки другими стали. А может все это правда, как он говорит? Детишки и жена больная дома. Немцы придут кормить их не будут. Мука на складах сгорит. Не сгорит, так немцам достанется. Я посмотрел в сторону города над ним висело черное облако пепла и дыма. Наказывать его вроде и не за что. Лошадь с телегой забрать? Пулемет и патроны солдаты несут на себе. Придем с телегой к своим, скажут барахолились. Нет, телега и мука нам не нужна.
– Ладно! Отпустите его! Пусть едет домой! Старшина вопросительно посмотрел на меня. Я понял, что он хотел иметь телегу и я отрицательно покачал головой. Старшина глубоко вздохнул, отпустил удила лошади и почесал недовольно за ухом. Солдаты расступились и мужик, не веря своим ушам и глазам, тронул вожжой слегка свою лошаденку и она, качнув телегу, медленно пошла по дороге. Отъехав метров пятьдесят, мужик взмахнул кнутом и, нахлестывая свою лошаденку с ещё большим остервенением и злобой, вымещая на ней свой животный страх и досаду, громыхая по мостовой и подскакивая на ухабах, галопом помчался вперед. Вот он в последний раз громыхнул на повороте и скрылся из вида.
– 29- Спустя некоторое время мы перешли железнодорожную насыпь в одну колею. Когда-то здесь на Кувшиново мы эшелоном проехали мимо Ржева. Железная дорога и большак сходятся здесь в открытом поле, как две невысокие насыпи равной ширины. А кругом ямы, канавы и поросшие сорной травой кочки. Место переезда уложено деревянными шпалами. Но здесь нет ни сигнальной будки, ни полосатого шлагбаума. Вот собственно и вся примечательность этой точки на земле. Пройдя несколько километров по открытой местности, мы оказались у развилки дорог. Прямая и мощеная уходила на восток к Старице. А другая, грунтовая улучшеная, шла на север в направлении Торжка. Пройдя ещё с километр, солдаты остановились. Мы со старшиной шли сзади, и я ускорил шаг, чтобы выяснить, в чем там дело. В канаве у дороги лежал убитый солдат. Это был первый мертвый, которого мы видели. Он был в солдатской шинели, без оружия, лицо его успело значительно потемнеть. Отчего шел слабый запах мертвого тела. Мы прекрасно знали, что идем по дороге последними. За нами следом могли идти только немцы. Но копать могилу для убитого никто из солдат не хотел. Отрыть могилу, засыпать тело землей, отдать погибшему солдату последний долг, каждый был обязан. Так рассуждал я. Я стоял, ждал и смотрел на своих солдат, умудренных опытом жизни, и молча ждал их ответа. Если однополчане и товарищи по оружию бросили его в канаву у дороги, то почему идущие сзади чужие солдаты должны подбирать и хоронить убитых и павших от ран.
– Не всё горе переплакать и не всё протужить! – сказал кто-то из солдат, и все поняли, что хоронить не наша забота.
– Задерживаться на открытом месте опасно, – сказал кто-то.
– Немецкие самолеты вот- вот налетят! – добавил второй.
– Хорошо, что мы все на ногах! – подхватил третий.
– Ну ладно! Заныли! – сказал я и отвернулся в сторону. Я не знал, что делать и как поступить. Я стоял и думал о нормальных людских отношениях, которых явно не достает у моих солдат.
– Ваши трупы, – сказал я, – будут вот так же валяться поверх земли!
– Ну, что, будем хоронить солдата? Я думал, что мои слова подействуют на них. Я повернулся к ним лицом, посмотрел им всем в глаза, но в ответ увидел тупое безразличие и нежелание прикасаться к трупу. Они хотели поскорей отсюда уйти. Я уступил им, но сделал повидимому плохо, что поддался их [неправильным] взглядам на жизнь.
– Ну что ж! Пошли! – сказал я, и мы зашагали по дороге. На пути нам попалась деревня. Вероятно, это была та самая Тимофеево, о которой нам говорила старуха в доме с лампадами. Но деревня оказалась пустая, спросить было не у кого, и мы прошли её, не задерживаясь.
– 30- Дорога на север все время забирается вверх. Она уходит от нас к горизонту. Ржев, как я помню, стоит на отметке 158 береговой полосы, а дорога на север переваливает водораздел, где берут начало небольшие притоки Волги. Торжок находится на той стороне водораздела. От Ржева, считай, мы отошли километров двадцать, солдаты поглядывают на меня, не сделаю ли я привал. Дорога делает крутой поворот, мы обходим небольшое болотце и за бугром видны уже крыши домов. Как я после узнал, это была деревня Зальково. Входим в деревню, повсюду стоят повозки санитарного обоза. Лошади привязаны за деревья и заборы, слышно как они позвякивают удилами и щипят траву, телеги изредка поскрипывают чуть дергаясь вперед. По всему видно, что обоз пришел сюда накануне ночью. Ездовые, не распрягал лошадей, отпустили им подпруги, отстегнули на бок удила, и вместе с медперсоналом разошлись по избам и повалились спать. Только лежачие раненые, не сумели подняться сами, спали в телегах. Ни часовых, ни охраны, бери любую лошадь и кати в любую сторону, ни один не подымет голову, ни один не выйдет из дома и не остановит тебя. По тому, как люди спали, можно было сделать заключение, что обоз пришел Издалека. Долго мотался по дорогам, выходя из окружения, подвигался медленно и с трудом. Люди в пути устали, были измучены долгой дорогой и бесконечной ездой. Я подошел к одной, другой телеге, посмотрел на спящих раненых, им тоже досталось, их натрясло. Мы зашли со старшиной в несколько изб, двери которых были открыты, посмотрели на лежащих вповалку людей и будить никого не стали. Мы оставили спящую деревню, и пошли по дороге вперед. За околицей мы свернули несколько влево, и деревня осталась позади. Часа через два или три мы догнали [на дороге] застрявших у моста артиллеристов, помогли им выбраться [из грязи], и, пристроив свой пулемет к ним на заднюю подводу, зашагали вперед. Не доходя до видневшейся впереди деревни, артиллеристы свернули в сторону и покатили в лес. Они видно не раз попадали в деревнях под бомбежку и теперь на отдых прятались ******** в лес. Нам в голову не пришло уйти в лес вместе с ними. Сняв с задней повозки свой пулемет, мы пошли по большаку в направлении деревни. Через некоторое время мы остановились у картофельного поля. Нам нужно было набрать картошки, чтобы сварить на привале обед. Солдаты расчехлили лопаты, развязали свои мешки и принялись за работу. Мы со старшиной привалились на траве у придорожной канавы. Пусть копают, а мы отдохнем! Небо было ещё светлое, но ясный солнечный день был на исходе. И в это время на бреющем полете из-за леса, где скрылись пушкари, прямо на нас вывалили немецкие самолеты. Низкий, раздирающий рев моторов услышали мы и в первый момент не разобрали, сколько их было. Посыпались бомбы, послышалась стрельба [из бортовых пулеметов].
– 31- Взрывы легли вдоль дороги. Крупнокалиберные пули резали и кромсали землю вокруг, повсюду летели клочья травы. Первые несколько взрывов рассеяли наших солдат по полю. Они разбежались как зайцы и все залегли. Мы со старшиной тоже отбежали и легли за кустами. Самолеты прошли над дорогой, развернулись на обратный курс. Теперь они искали, где спрятались [другие] мы. Дорога опустела.
– Смотри старшина! Немцы летают в потемках! Аэродромы у них где-то совсем не далеко! Немцы с ревом прошли над дорогой, и ушли в сторону леса. Пока солдаты собирались и выходили к дороге, стало совсем темно. Проверив все ли живы и все ли на месте, мы тронулись дальше. До деревни было совсем недалеко. Когда мы вошли в деревню, то увидели, что она вся забита повозками, лошадьми и солдатами. Но что странно, здесь следов бомбежки совсем не было. Мы осмотрелись кругом и хотели попытаться где-нибудь в доме устроиться на ночлег. В избе налево стояли связисты. Повозки у них загружены и затянуты сверху брезентом. Около дома напротив ходят часовые. Охрана стоит по всей деревне. Нужно будет найти, где у них тут штаб. Но прежде нужно устроить своих солдат куда-то на ночь. Не успел я подумать, а солдаты мои уже сгрудились у колодца. Первое ведро колодезной воды разошлось по рукам.
– Подождите нас здесь! – сказал я солдатам. Мы со старшиной зайдем к начальству в штаб. Напившись воды солдаты уселись вдоль изгороди из жердей. Мы со старшиной отправились искать начальство. Для предстоящей войны не имело особого значения наше хождение. Оно закаляло, но не воспитывало наших солдат. Я боялся, что отсутствие продуктов питания превратит их в конечном счете в попрошаек. И поэтому я стремился поскорей дойти до штаба 22 армии. Я хотел узнать, где находиться сам штаб или его тылы. Никто в чужую часть нас не возьмет, никто не поставит нас на продовольственное снабжение. Рассчитывать можно только на пару буханок хлеба. Мы со старшиной подошли к часовому и попросили его вызвать к нам дежурного офицера. Вскоре к нам вышел [дежурный] офицер и я объяснил ему наше положение, рассказал кто мы, откуда и куда идем. В подтверждение моих слов я показал ему своё удостоверение, отпечатанное на машинке с фотокарточкой, и показал рукой в сторону солдат сидящих у забора. Вид у моих солдат был конечно неважный, они устало сидели вытянув ноги, но все были при оружии и в полной солдатской выкладке.
– Штаб армии, – ответил мне капитан, – пятого октября проследовал на Торжок. Дойдете до Торжка, там спросите, до города от сюда не менее семидесяти километров [будет]. Дорога все время пойдет на север. Ближайшие деревни Фролово, Денежное к Луковниково.
– 32-
– До Луковниково двадцать километров. Что будет дальше, никто не знает, Обстановка монет измениться в любой момент. Насчет продуктов в дорогу, мы не можем вам помочь. Накормить сегодня пожалуй можно. Зайдите напротив к связистам, я им позвоню. У них осталась каша с обеда. Желаю успеха, лейтенант! Дежурный капитан пожал мне руку и вернулся в штаб. У связистов напротив на столе стоял черный большой чугунный котел.
– Тащите ведро! – сказал мне сержант, когда мы туда явились. Наш старшина Сенин вышел на улицу, отвязал у колодца ведро и вернулся назад.
– Повесь, старшина, ведро для воды на место, я дам тебе для каши своё. Раздашь по котелкам, вернёшь мне ведро обратно.
– Вы товарищ лейтенант садитесь сюда за стол, я поставлю вам миску и нарежу хлеба, – и добавил, – на краю деревни стоит пустой сарай с сеном, вот там и переночуете!
– Ночью на земле слать холодно, можно простудиться! – в заключение сказал он. Мы не знали, что потом, зимой нам придется сидеть и спать в мёрзлой земле, до самой весны торчать на открытом снегу, воевать и умирать на морозе. А сейчас мы каждый раз искали укрытий и крыши над головой. Разделавшись с кашей, солдаты в сопровождении старшины пошли искать сарай с сеновалом. Они быстро залезли наверх и позанимали [себе] места. Старшина сидел внизу у сарая, он курил и поджидал меня. Пришлось поднимать солдат, уплотнять их, сгонять с насиженных мест. Нам со старшиной на сене места не оказалось.
– Как маленькие дети! – подумал я. "Наелись, напились, и спать повалились!" У меня у молодого шея, спина и ноги болят. А как же они, пожилые, нестроевые? У них наверно кости трещат! – развивал я свою мысль. Но сон быстро справился со мной и со всеми моими мыслями. Утром, когда мы проснулись, и по умятому желобу в сене, сидя съехали вниз, надеясь опять у большого черного котла разжиться варевом, то мы обнаружили, что деревня, забитая накануне, была совершенно пуста. Солдаты, повозки, штаб и часовые ночью, пока мы спали, беззвучно снялись и уехали в неизвестном направлении. Когда и почему они исчезли, нам было не понятно. Должны же были хлопать двери, на лошадей ругаться ездовые, перекликаться в темноте солдаты, покрикивать на них начальники. Мы спали как убитые и ничего не слышали. Старшина предложил снарядить группу солдат в поле за картошкой.
– Кто знает, что впереди, долго нам сегодня придется идти? На голодный желудок солдат [протянет ноги] далеко не уйдет! И хуже того! Начнут по дороге ныть, завернут в деревню, разбредутся по избам, будут искать и рыться! Попробуй их собери! Я не стал возражать, был согласен на пару часов остаться здесь, чтобы покончить с едой, проверить оружие и привести солдатские вещи в порядок. Я не стал торопить старшину и понуждать своих солдат.
– 33- Старшина отобрал людей и послал за картошкой, а с остальными мы отправились искать подходящую и побольше избу с русской печкой, дровами, ведрами и чугунами. Вскоре такую избу мы нашли. Притащили ещё один стол из соседней избы и поставили их посередине. Солдатская столовая была готова. Солдаты накануне вечером умололи с кашей весь хлеб, который получили у связистов. Но старшина наш расчетлив на счет запаса продуктов и строг. Круглые буханки, взятые в доме с лампадами, были в запасе. Ходить по деревням и просить пропитание он не хотел. [А брать просто так нам просто негде было. Забирать нам не хватало мужества.] Возможно, потом война заставит и научит нас всему. А сейчас на душе у солдат была лишь тоска и уныние. Когда с полевых работ вернулись посланные, в избе всё дымилось, шипело и кипело. Деревенская печь пылала жаром, в больших чугунах кипела вода. Кочерга и ухваты пошли в дело. Когда картошка упрела, с нее сняли пробу. Старшина из мешка извлёк запас соли и насыпал его небольшими кучками на столе. Картошка ещё кипела и брызгалась в чугунах, а солдаты уже заняли места за столом, толкались локтями и понукали друг друга. Картошку слили, чугуны поставили на стол, а старшина, упревший у печки, сел в сторонку и закурил. Горячий пар валил из чугунов [расходясь белым облаком к потолку]. Хватает солдат картошку из чугуна, а она как огонь, обжигает пальцы. Уголёк с шестка печки можно схватить голыми рунами, чтобы прикурить. А горячую картошку тронуть нельзя. Кто мог, тот её хватал шершавой полой своей шинели. Другой, разинув рот, сопел и дышал на нее, перебрасывая в ладонях. Третий, сложив губы дудочкой, дул на неё так, что в глазах темнело [появлялись круги и огоньки]. Попробуй сильно и долго дуть, сразу голова пойдет кругом! А старшина спокойно сидел, ухмылялся, покуривал, и смотрел, как солдаты [горячей картошкой жонглируют] горячие комки перебрасывают в руках. Потом он с достоинством встал, взял ведро с холодной водой, вывалил туда из чугуна приличную порцию картошки, и выловив ее остывшую [холодную из воды], спокойно сложил её перед собой на столе отдельной кучкой.
– Прошу, товарищ лейтенант! Можно сразу [есть и] чистить!
– Вот изобретение века! – сказал кто-то из солдат.
– Никто не мог додуматься до этого братцы! Но не все это поняли и продолжали катать горячие шарики на столе. Они ковыряли их ногтями, сдирали кожу полосками, а старшина успел приготовить две горки очищенной картошки, одну для себя, другую для меня. Он не брал с солдат махоркой или сахаром за использование своего открытия. Он закончил чистку и объявил свое решение.
– Сходите на колодец, принесите холодной воды. Суйте её в ведро, а то вы будете здесь до завтра валять её в руках, дуть и сопеть. У нас времени нет прохлаждаться и сидеть здесь, ждать бомбёжки. Подам команду “Подъем”, кто наелся вставай, кто не поел, разбираться не буду, голодным пойдешь в дорогу. Что удерживало солдат на месте? Жадность, лень или минутное желание поесть [насытиться]?
– 34- Летят по столу и на пол очистки, рукава шинели задевают за насыпанную кучками соль. Все пыхтят, усердно жуют, заправляют животы на дорогу. Первый раз за два дня солдаты вволю наелись. Ешь, сколько хочешь, сколько требует душа! Вчера на подходе к деревне, когда наш ручной пулемет лежал на подводе у артиллеристов, я видел среди поклажи привязанную за ногу курицу. На ухабах повозка подпрыгивала, курица квохтала, махала крыльями, старалась удержаться на ногах. Кто-то из солдат сказал:
– Зачем мучают бедное существо? Все видели на телеге белую живую курицу. Артиллеристы торопились, повозочный ни на нас, ни на курицу не обращал никакого внимания. Они боялись, что вот-вот налетят самолеты. Но когда пушка и подводы свернули в лес, никто на посмотрел, осталась ли в сидеть повозке белая курица [на месте]. Кто-то из моих солдатиков сумел её незаметно вместе с верёвочкой переместить в свой вещевой мешок. Она даже не пикнула и не возражала, что у нее появился новый хозяин. Она вела себя в мешке совсем тихо, не как, какая-нибудь шкодливая кошка. Она скромно молчала до самого утра. Её не подбрасывало вместе с телегой на ухабах. Утром, когда старшина встал к печке, ему подали для общего котла в общипанном виде готовую и опаленую курицу. Передал старшине курицу пожилой солдат, самый скромный и тихий, не какой-нибудь молодой охальник. На солдата никак не скажешь, что это он увел у артиллеристов курицу. Старшина пытал его, хотел узнать, кто передал ему курицу. Солдат ответил спокойно:
– Я слово дал! Пока солдаты по столу катали картошку, куриный суп допревал в печи. И вот накрытый тяжелой сковородкой чугун “с жаром и наваром”, как выразился старшина, появился неожиданно на столе. Солдаты думали, что это чугун с заваркой для чая. Никто не предполагал, что там плавает та белая курица.
– Заднюю ножку лейтенанту! – объявил старшина.
– А нашему старшине крылышко! – добавил кто-то. Кто добавил, я не заметил, потому, что к такому вовсе не был готов.
– А остальным, чем бог послал! – сказал старшина.
– При чём тут бог? – сказал я, – Сперли курицу и на бога валите!
– Товарищ лейтенант, мы же у артиллеристов её переманили. Вот они её определенно где-то спёрли.
– Картофельный суп с курятинкой для услады! – объявил старшина. Солдаты переглянулись, удивились и испустили восклицательный звук, – Ну!
Одни качали головами, другие вытянули шею и стали принюхиваться. Курицу выловили, порубили на мелкие куски, каждый получил сладкую порцию с косточкой. Куриный картофельный суп разлили на два чугуна и две противостоящие партии зачавкали, забурлили ложками [кто громче]. Потом на столе появился кипяток. У кого был сахар, припрятанный и завернутый в тряпицу, они его клали в общую кучу на стол.
– 36- Старшина разделил общую кучу на порции, каждый брал выделенную норму и был доволен, что сахар разделили сообща. Те, что напились, отходили от стола, садились на пол и курили. За столом постепенно пустели места. Теперь сытое войско можно было вести по дороге дальше! С момента выхода из укрепрайона я ни разу не сделал проверку амуниции и оружия. Мы бежали, как дикая стая, без передышки. А теперь, оторвавшись от немцев, можно и нужно было привести всё в надлежащий порядок и вид. Первые сутки до Ржева солдаты валились с ног. Было не до порядка и не до проверок. Ещё два дня с ночевками и неразберихой, куда идти, отвлекали меня. Сейчас как раз подходящее время сделать проверку и поставить всё на свои места. Могут же быть среди солдат неряхи, потерять в пути что-нибудь из вещей. Кроме оружия, снаряжения и личных вещей солдаты несли на себе и другое имущество: двуручную пилу, два топора и цинки с патронами. Мы были уверены, что с переходом Волги обязательно попадем в другой укрепрайон. И все это понадобиться нам, чтобы строить ходы, лазы и укрытия. Проверка показала, что вещи, имущество и оружие были в полном наличии. Это был отрадный и показательный факт. На таком продолжительном и тяжёлом марше всё сохранить, это отличный показатель выдержки моих солдат. Во время проверки солдаты стояли в одну шеренгу. После проверки старшина построил солдат по двое в походную колону. [Вот в таком порядке будете идти и проходить деревни. Теперь тут можно попасться на глаза начальству.] Это был день 15 октября сорок первого года. В начале пути солдаты шли по двое, [всё] было, как приказал старшина. Но потом, [когда было пройдено с десяток километров], собой всё разладилось [и развалилось]. Солдаты шли по дороге где гуськом, где кучкой. По пути стали попадаться деревни и мирные жители. Пройдя за день километров тридцать, мы зашли в деревню, чтобы устроиться на ночлег. На этот раз мы заняли пустой сарай без сена и соломы. Все остальные переходы были похожи один на другой. До Торжка мы сделали ещё три перехода. В какой-то деревне на подходе к городу натолкнулись на связистов. Они разматывали связь. Я обратился к лейтенанту, он направил нас в деревню, где стояла их рота связи. Через командира роты, который доложил по линии о нашем появлении, нам приказали явиться в деревню Яковлевское, что стояла в пяти километрах за городом по дороге на Вышний Волочек. Ориентир: – развилка дорог и высота 186. Деревенька, в которую мы пришли, стояла на отшибе за лесом. На улице было пусто и безлюдно. Усиленный наряд часовых стоял под навесами [и не болтался по улице]. Часовые жались к домам. Видишь перед собой пустынную улицу, но чувствуешь, что в домах находятся люди и идет работа. При подходе к деревне нас остановили и завернули в лес.
– 36- Патрульный солдат из охраны вышел нам навстречу и сказал: – Взвод [небольшими группами] заведете в пустой сарай за околицей. После чего вы, товарищ лейтенант, пойдете со мной в дежурную часть. Вскоре туда явился офицер штаба. Он проверил мои документы, выслушал мой доклад и сказал, что желает взглянуть на солдат. Мы пошли в сарай за околицу, где остались сидеть мои солдаты. Старшина подал команду, солдаты построились, капитан внимательно осмотрел их. Поговорив с ними [о том о сём], он проверил оружие, задал несколько вопросов о боеприпасах и снаряжении. Я показал ему всё, и он остался доволен.
– Хорошо! – сказал он, – Я доложу начальнику штаба о вашем прибытии.
– Солдаты останутся здесь, а вы лейтенант пойдете со мной [доложить, если] у полковника к вам могут быть вопросы. Мы прошли вдоль деревни, и зашли в большую избу. В избе чисто, полы вымыты, на окнах белые занавески. На лавке у стены сидел наш комбат майор. Он со своим заместителем по политчасти приехал сюда на легковой машине. Они были без войска и точно не знали, где находятся их огневые роты. Майор находился при штабе уже несколько дней. Он жил где-то в другой избе и его вызвали к полковнику, когда доложили о нашем прибытии.
– Один огневой взвод 297 арт. пуль. батальона прибыл в расположение штаба в полной выкладке, с оружием, боеприпасами и в полном составе! – доложил капитан вышедшему из другой половины избы полковнику.
– Учтите майор, – [обратился он к нашему комбату] это самый левофланговый и крайний взвод [в укрепрайоне].
– Где же тогда остальные, что были расположены ближе к Волге и сидели на станции Мостовой? – [докладывая полковнику,] спросил капитан. Майор промолчал. Штаб нашего батальона 10 октября находился в районе деревни Дядино, что южнее станции Никулино. В этот день к нам в огневые роты поступил приказ оставить Ржевский укрепрайон. Майор на машине уехал утром, роты снялись днем, а я со своим взводом из-за отсутствия связи покинул ДОТ только вечером. Как мне теперь стало известно из доклада полковнику, роты пошли дорогой западнее Ржева. Забежим несколько вперед, чтоб потом к этому не возвращаться. 11 октября, как рассказывали потом вышедшие из окружения солдаты и офицеры, роты в сумерках подошли к Волге в районе железнодорожной ветки на Сычевку. Мосты и переправы были взорваны, а со стороны Оленино по левому берегу к Волге подошли немцы. Батальонный обоз с продовольствием и боеприпасами был брошен, люди и лошади пошли на переправу через Волгу вплавь, но были обстреляны и повернули назад. Потом несколько дней и ночей подряд люди пытались [найти переправу] выбраться на левый берег Волги. [В вечерних сумерках] покинув свое войско, комбат укатил на своей машине в Торжок. Роты остались на том берегу без всякого руководства, без знания обстановки. Правда, на следующий вечер майор попытался подъехать на машине к берегу Волги, но был обстрелян. Машину пробило пулями в нескольких местах, что служило доказательством его отваги и присутствия немцев.
– 37- Необходимо [к месту] заметить, что комсостав [для ведения войны] в укрепрайон подбирался из наиболее надежных и преданных людей. Комбат в лицо меня конечно не знал. Раньше вот так глаз на глаз я с ним не встречался. В Солнечногорске и на станции при посадке в эшелон я видел его издалека. Но когда меня вызвали к полковнику, и я вошел в штабную избу, я сразу узнал его, хоть вид у него был подавленный и угрюмый. Я поприветствовал его. Он спросил меня: какой я роты, где занимал огневую точку, где командир роты, и где я переправился через Волгу. Я рассказал всё по порядку. 10 октября мы устроили баню. Вечером, в сумерках ко мне прибежал командир стрелковой роты, что располагалась в промежутке между нашими ДОТами. Он объявил мне, что есть приказ, и они с обороны снимаются. Я кинулся к аппарату, связь была уже отключена. Я пошел в стрелковую роту, по телефону связался с их стрелковым полком, мне приказали немедленно выходить из укрепрайона. Мы шли без отдыха целые сутки и в ночь на 12 октября подошли ко Ржеву. Волгу мы перешли по мосту. Мост был взорван, как только мы перешли на левый берег Волги. Ночевали во Ржеве и потом за четыре дня добрались сюда. Полковник спросил:
– Где сейчас ваши солдаты? Я ответил:
– В сарае!
– Пусть будут до вечера там! Вечером зайдете ко мне, я на них хочу [взглянуть лично] посмотреть. Вас позовёт тогда капитан. Мы подготовим для вас свободный дом. Но учтите лейтенант! Хождение [в светлое время] по деревне категорически запрещается!
– Вы всё поняли?
– Да!
– Вы свободны, можете идти! Нам отвели пустую избу. Окна в ней были изнутри забиты. На столе горела керосиновая лампа "Летучая мышь". Нас поставили на довольствие. Старшина получил на взвод продукты. Горячую пищу мы стали получать со штабной кухни. На следующий день меня вызвали в штаб, нашего комбата здесь уже не было. От полковника я получил приказ и официальное боевое задание.
– Вы со [своим] взводом будете представлять собой летучий боевой отряд. Получите грузовую машину, ротный миномет и три ящика боеприпасов. Ручной пулемет у вас есть. С вечера на машине будете объезжать вот этот район, смотрите на карту. Следовать будете вот по этому маршруту. И полковник показал мне на карте дороги, по которым я должен буду ездить.
– Курсировать будете до рассвета!
– 38-
– Ваша задача обнаружить ночной немецкий десант, вступить с ним в бой и удерживать свою позицию. Вот вам ракетница и запас осветительных ракет, При встрече с противников дадите серию осветительных ракет, это будет служить нам сигналом, и мы определим место, где вы находитесь. Машину сразу отправите назад. Я на этот счет шоферу дал специальные указания. Смотрите на карту и изучайте маршрут. Вы должны его знать на память. Карты на руки не получите. Ночью она вам не нужна. Ночью темно. Все равно ничего не видно. Карта может попасть в руки немцам.
– Как же она к немцам попадет? Что ж, я её по дороге потеряю?
– Смотрите сюда! Вот здесь будете делать поворот. Через каждые десять минут по дороге будете делать остановки. Ночью нужно периодически прослушивать местность и небо. [Сегодня вечером с шофером объедите весь маршрут.]
– Разрешите вопрос?
– Что там у вас?
– При встрече с противником мы принимаем встречный бой, как я понимаю.
– Правильно понимаете лейтенант!
– У нас могут появиться раненые и кончиться патроны и мины. При таких обстоятельствах куда нам отходить?
– Вам отходить никуда не надо! Вы остаетесь на месте! И ни шагу назад! Если нужно, то мы сами пришлём вам подмогу. Вы остаетесь на месте, ведете огневой или рукопашный бой, раненых перевязывать будете потом.
– Обнаружите десант, машину немедленно назад! Шофер мне обо всем и о немцах доложит.
– Всё ясно?
– Вопросов больше нет?
– Схему маршрута запомните на память! Возьмёте сейчас машину и пока светло вдвоем с шофером объедите все дороги по указанному маршруту. Солдат посадите в машину, когда будет совсем темно. Отдыхать после ночных объездов будете днем. Теперь мы были при деле! Но я так и не понял главного. Выходит, нас бросили навстречу десанту, чтобы штаб выиграл время и смог уехать куда-то. Полковник об этом ничего не сказал, и, по всей видимости, нас никто не собирался поддерживать. Мы должны были остаться на месте при встрече с немцами и до последнего дыхания и патрона держать свой рубеж. Всё было крайне загадочно и до предела ясно!
– 39- Днем мы вповалку спали в избе, утром и вечером получали кормежку. А с наступлением ночной темноты отправлялись ловить немецкий десант и были готовы встретить его во всеоружии. Ездили мы с погашенными фарами, часто останавливались, вглядывались, вслушивались в ночную темноту и смотрели в сторону Калинина, ожидая оттуда десанта. Я стоял наверху, облокотившись на кабину водителя, и смотрел по сторонам, изучал звездное небо. И смотрел на вселенную. То, что город Калинин был взят немецким воздушным десантом, полковник мне ничего не сказал. Об этом я узнал на кухне у повара. Несколько офицеров штаба потом обмолвились об этом. Но наша легкая жизнь и приятная служба длились недолго. Однажды за околицей у леса в пустом сарае появились солдаты, и в расположение штаба пришел наш командир роты старший лейтенант Архипов. Один взвод во главе с лейтенантом Лукониным остался за Волгой и не явился сюда. Я знал прежде, что Луконин ходил я деревню к какой-то бабёнке. Его иногда посылали ко мне на огневую точку по вопросу увязки огня. И он всегда начинал разговор по поводу своих похождений. Он был мой сосед справа и занимал ДОТ в нескольких километрах от меня. По возрасту он был старше меня. И это давало ему преимущество в разговорах со мной. Он со знанием дела мог мне рассказывать о бабах, как несмышленому в этом деле. Он скрывал эту связь от других и особенно от ротного, но почему он со мной в разговорах впадал в откровение? Почему он передо мною хвастался и красовался своими похождениями?
– Ну что лейтенант? – говорил он мне и улыбался во весь рот.
– Хочешь расскажу, как я с бабами обращаюсь? Возможно главной причиной того, что я не получил приказа об отходе, явилось желание Луконина остаться с солдатами в деревне, где жила его баба, и сдаться немцам потом? Он остался сам и решил оставить меня [в неведение, что есть], не передав мне приказ уходить за Волгу. Командир роты Архипов подтвердил, что взвод Луконина не вышел с линии обороны. Больше того, он приказал Луконину лично передать мне приказ об отходе, так как связь уже была снята, a я стоял на самом левом фланге обороны. Встретились мы с Архиповым 20-го октября, я увидел его и заторопился к нему навстречу.
– Здравия желаю, товарищ старший лейтенант! – указал я и [козырнул ему] мы улыбнулись друг другу. Наш командир роты был среднего роста. Всегда подтянутый, собраний и аккуратный. Ему было за тридцать или около тридцати. Я тогда по внешности не мог точно определить возраст человека. Гимнастерка его выцвела от частой стирки и сушки на солнце.
– 40 – Стирал он всегда лично, подворотнички пришивал тоже сам. Он доставал из планшета завернутый в холстинку кусок мыла и в свободную минуту стирал то одно, то другое. Он держал себя всегда в чистоте. Строевой выправкой он особенной не отличался, не затягивался ремнями намертво, как это делали мы. Он не выпячивал грудь колесом и не стучал каблуками, как это приучили нас делать в училище, хотя сапоги у него всегда были отмыты от грязи и начищены до блеска гуталином. Он не спускал книзу голенища своих сапог, как это делали [мы по своей глупости] некоторые молодые лейтенанты. Старший лейтенант был уравновешенным и скромным человеком. Он представлял собой образец командира умного и простого. Он не стоял [перед нами] растопырив ноги, когда разговаривал с подчиненными, и не шаркал ногами, когда подходил к своим начальникам. Он был прост всегда и везде, лицо его худое и доброе всегда было озабочено мыслями и делами. Глаза были немного грустными, но всегда излучали душевную простоту и доброту. Он никогда не кричал и не возвышал свой голос. Такое впечатление, что он боялся или стеснялся его. Он не напускал на себя театральные позы перед [офицерами и перед] строем, всегда был одинаков и со всеми внимателен и вежлив. В общем, как мне казалось, он собрал в себе всё лучшее и человечное, всё умное и рассудительное.
Помню, он даже не рассвирепел, когда Луконин перепился в эшелоне со своими солдатами. Он помолчал, а потом сказал:
– Завтра поговорим, когда отрезвеет! Говорил он всегда по делу, не меняя голоса, и без выразительной мимики на лице. Вначале было даже трудно привыкнуть к нему после училища. В училище было обычаем у офицеров кричать и драть свои глотки. Я до сих пор помню искаженные злобой физиономии младших командиров и лейтенанта Клока [- остались отпечатанными в памяти на все последующие годы]. Где, у кого переняли они эту [звериную] злобу так обращаться с курсантами и солдатами. Старший лейтенант Архипов был человек совсем другой. Трудно было определить, где он просто советует и когда отдает боевой приказ [по форме]. Я его очень уважал. И до того, как я попал в его роту, и после того на всем протяжении войны мне не приходилось встречать похожего на него и достойного человека. Чаще попадались безграмотные горлохваты и злобные дураки. Он был для меня эталоном, по которому я сравнивал сослуживцев и начальников, врагов моих и друзей.
– Нет! Этот совсем не похож на него! Этот, простите, безмозглый и лает как собака. Но вернемся к Архипову. Несмотря на свою мягкость и обходительность, он был в высшей степени требовательным и волевым командиром. Он следил за служебной деятельностью офицеров роты и знал по фамилии почти всех солдат. Он спокойно и без крика пресекал любую расхлябанность и нерадивость
– 41- делал это деликатно и тактично, не унижая достоинство офицеров или солдат. Луконин его откровенно избегал и боялся [как смерти]. Он помогал дружески молодым командирам взводов, успокаивал и подбадривал их в трудные моменты. Подойдет, подморгнет и скажет вполне серьёзно:
– Я приказы отдаю, чтобы их выполнять!
А теперь при встрече в штабе армии, я спросил его:
– Мне продолжать ночные разъезды или сдать машину и отправляться в роту?
– Ты выполняешь приказ полковника, а мне подчиняешься по службе, как прежде. Я ездил ночами по дорогам вокруг штаба армии и знал, что подмога мне в нужный момент придет. Старший лейтенант занимался делами роты, бегал по домам, встречал выходящих из-за Волги солдат, получал обмундирование и амуницию, выдавал оружие, составлял поименные списки. Мелкие группы солдат и младшие офицеры продолжали просачиваться ночами и переправляться через Волгу. Теперь из всего [личного] состава бывшего [арт. пуль.] батальона [где-то за лесом в деревне] Архипов формировал одну стрелковую роту. Мы должны были выступить куда-то на фронт. 27 октября грузовик, миномет, две ракетницы, и три ящика мин я сдал на склад [коменданта штаба] по распоряжению полковника. Мне добавили во взвод двадцать чужих беглых солдат, и я ушел за лес в деревню, где стояла наша рота. В тот же день вечером роту построили и объявили приказ. "Новых рубежей и укрепрайонов нет, стационарные огневые точки и техника отсутствует. По указанию штаба фронта 297 батальон расформирован и в составе роты передается на пополнение в стрелковую дивизию. Все солдаты, сержанты, старшины и офицеры переводятся в стрелковые подразделения пехоты. Наша рота идет на пополнение 119 С. Д. В один день всё изменилось, и со всем было покончено. Наводчики орудий, замковые, заряжающие, электрики, связисты, оружейные мастера, саперы и минёры превратились в простых стрелков, носителей трехлинейных винтовок. Солдаты были страшно недовольны. Но, как говорят, приказ есть приказ! На горизонте играл полосатый закат. Вечер был сухой, воздух неподвижный. В нашей просторной избе собрались все сержанты и офицеры роты, это была наша последняя встреча и последняя крыша над головой.
– 42- Завтра, когда рассветет, рота построиться и пойдет в сторону Калинина к Волге. Для нас это было начало настоящей войны. Всё, что мы до сих пор знали и слышали о войне, все это была игра воображения! Из-под крыши этой избы мы сделаем первый шаг навстречу настоящей войне, тяжелым испытаниям и неизвестности. Каждому по-разному придется пройти дорогой войны. Одному она будет долгой, а другим она вещала быструю кончину, немецкий плен и тяжелые раны. **************************
Шумилин А. И.
* * *
– – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
Медное. Два танка. Бомбежка. Левый берег Волги. Паром. Командир роты с двумя
взводами уходит на правый берег Волги. Встреча с Женькой Михайловым. Бомбежка.
Комбат заблудился в лесу. Нас переводят на Тьму. Суд. Жизнь в траншее.
– – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -

Утром 29-го октября, после беготни и кормежки, рота построилась в [походную] колону и походным маршем пошла на Медное. Командир роты распорядился, чтобы я со своим взводом шел замыкающим. Это его особое доверие, выраженное мне, таким образом. Через некоторое время мы вышли на Ленинградское шоссе и повернули на Медное. Шоссе в то время было не широкое и во многих местах основательно разбито. Где выбитый до щебёнки асфальт, где участки, засыпанные землей, а где просто развороченное воронками полотно проезжей части дороги. Война везде оставила сбой след! Мы подошли к Тверце и остановились у переправы. Мост около села Медного был разбит. С той стороны к плотам наплавной переправы на подводах спускали раненых. Лошадей вели под узды. Лошади на плоты заходить упирались, их тащили на брёвна, они приседали. Одна за другой подводы с ранеными перебирались на нашу сторону. Мы стояли, смотрели на них, ожидая своей очереди. Откуда их столько? Не туда ли мы держим свой путь? В село Медное мы не зашли. Наведенная переправа была в стороне и выше по течению Тверцы. С дороги были видны дома и постройки. По краю бугра чернело несколько деревянных и одноэтажных каменных домов. Некоторые из них остались целы. А другие основательно пострадали от бомбежки. Повсюду были видны глубокие и свежие воронки. Здесь накануне как следует поработала немецкая авиация. Обойдя Медное стороной, мы свернули вправо, и пошли по мощёной булыжником дороге. Мы прошли километра четыре и впереди на обочине увидели немецкие танки. На боках у них красовались черные кресты, обведение белыми полосками. Танки стояли неподвижно, стволы орудий были опущены. Выглядели они совершенно новыми. Ни вмятин, ни царапин, ни пробоин на стальной броне не было видно. Блестящие гусеницы были в полном порядке. Почему их покинули немцы? Горючее кончилось? Испортились моторы? Но могло быть и другое – подумалось мне.
– 2 – Я конечно фантазировал, и поэтому представлял себе ситуацию так: экипажи танков свои места не покидали, а сидят внутри и ведут наблюдение. Кто передвигается по дороге, сколько и в каком направлении проходит солдат? Работая ключом, они могли передавать по рации эти данные. Люки танков плотно задраены. Все кто проходят мимо, смотрят на них и вполне уверены, что танки выведены из строя и их экипажи взяты в плен. А чтобы славяне не лазили во внутрь, люки наглухо закрыли. Впереди шел командир роты, за ним мимо танков прошли взвода, и вот наконец я тоже оказался около танков. Я позвал солдата, взял у него саперную лопату, залез на один танков и пытался саперной лопатой открыть люк. Но сколько я не старался, сколько не пыхтел, у меня из этого ничего не получилось. Когда я ковырял лопатой крышку, мой взвод ушел по дороге вперед. А я у танка остался с солдатом [, у которого я взял этот саперный инструмент.] Мне даже показалось, что там внутри кто-то есть. Рота отошла по булыжной мостовой на приличное расстояние, и мне пришлось бросить своё занятие и [нам с солдатом] бегом догонять её. Танки стояли на обочине дороги, около самой опушки леса, на перекрёстке двух мощёных дорог, а рота, повернув направо, вышла на открытое пространство. Мы догнали свой взвод, и я перешёл на шаг, чтобы перевести дух. Так некоторое время я шел вместе со взводом, а сам думал о танках. Сказав старшине, что мне нужно поговорить с командиром роты, я побежал вперед, обгоняя солдат. Командир роты увидел, что я бегу к нему, отошел от колонны, остановился и нахмурил брови. – Ты что лейтенант? – спросил он. – В танках немцы сидят! Нужно вернуться! Я слышал внутри какую-то возню! Старший лейтенант улыбнулся и ответил: – Этого не может быть лейтенант! Ты просто ошибся! Здесь по дороге мы проходим не первые. Их давно успели проверить. А у нас нет времени возвращаться назад. Старший лейтенант хотел ещё что-то сказать, но не успел [даже открыть рта] – над лесом мы услышали рёв самолетов. Как только рота отошла от поворота на два, три километра, а это %%% полчаса ходьбы, из-за верхушек деревьев на открытый участок дороги навалились немецкие бомбардировщики. Никакого костыля и стрекозы до этого над нами не было [этим местом не было видно]. Самолеты шли на бреющем полете и точно вышли в створ дороги из-за макушек деревьев. Откуда они могли знать, что мы идем [одни] по дороге? Самолёты уже на подлёте начали обстрел из пулеметов, а потом [уже] посыпались бомбы. Солдаты бросились бежать в разные стороны.
– 3 – Мы тоже залегли, отбежав от дороги. Проревев над дорогой и сбросив с десяток небольших по размеру бомб, самолеты сделали разворот, и пошли нам навстречу [с двух сторон вдоль дороги, под открытым полем обстреливая нас из пулемётов и бросая бомбы]. Как только одно звено [самолётов] отбомбилось и ушло за кромку леса, над дорогой появилось другое [тут же появилась ещё одна партия из пяти]. Не успел я повернуть голову к лесу, а оттуда уже сыпались новые бомбы. Низко летящие над дорогой бомбардировщики стреляли из пулемётов. Неожиданный налёт и [эти] обстоятельства с танками смутили меня. Их базой, повидимому, был городской аэродром в Калинине. Солдаты далеко разбежались по полю, их долго собирали и заводили b кусты около дороги. В ротах были раненые и убитые. Куда отправлять раненых, на чём их везти? Я смотрел на командира роты и думал, какое решение он примет. Хорошо, что он с нами, что все эти заботы свалились не на меня. А командир роты сделал всё просто. Он оставил при раненых старшину и в помощь ему дал трёх солдат из первого взвода. Он поручил старшине сходить на переправу в Медное и связаться по телефону со штабом армии, запросить у них повозки для раненых и похоронить в братской могиле убитых солдат. Всё вышло так просто и естественно? Мне было бы трудно всё так быстро сообразить. Мой взвод в составе роты по-прежнему шёл сзади последним. Я был избавлен от нужды смотреть за дорогой и от всяких других забот. Я шел в составе роты и за дорогой не следил. Роту вёл ст.лейтенант [зам.командир роты и я только получал указания, что и как делать] Он сам выбирал направление, решал где нужно сворачивать и по какой дороге идти. По его команде рота сворачивала в лес. Он объявлял привал. Я даже не присматривался к маршруту [следования] нашего движения. Если меня тогда спросить, какую дорогу я лучше помню – от Ржева до Торжка или от Торжка на Медное? Разумеется, ту, где я сам вел свой взвод.[Я всё помню достаточно хорошо и достаточно точно. А теперь я был избавлен (от необходимости) сосредотачивать своё внимание на дороге. Я шёл и ждал только распоряжений и указаний старшего лейтенанта.] На моей обязанности, идущего последним, было следить, чтобы в роте не было отстающих. Остальное меня не касалось [не волновало, мне не нужно было что-либо делать, ни о чём не думать, ни за что не переживать]. Мне что прикажут, то я и выполнял, делал всё быстро и чётко и особенно не рассуждал. У меня была привычка [быстро и точно] выполнять приказы [и распоряжения]. К этому я был приучен, это вошло я мою кровь. Я шёл, разговаривая со своими солдатами и почти не смотрел по сторонам. Стокилометровый путь до Торжка у меня и сейчас остался в памяти [со всеми подробностями / в уме как на ладони]. А верни меня сейчас назад и прикажи %%%%% пойти на Медное, [я на каждом перекрестке путаться буду, стоять и решать] я пожалуй засомневался бы, где мне %%% туда идти.
– 4 – Где мы поворачивали и откуда мы вышли? Я не следил [за местностью так же], как это делал солдат. Он идёт в строю и смотрит в спину впереди идущему. Пройдя Медное, мы должны были свернуть на Новинки и пойти на Гильнево. За Городней роту остановили, завели в лес [на опушку леса] и объявили привал. Мы долго лежали на холодной, застывшей [морозом схваченой] земле. Командир роты ушел куда-то в деревню. Потом он вернулся и с ним из деревни пришел капитан. – Матвеенцев! – отрекомендовался он нам. – Я политработник! [заместитель командира полка по политчасти] – сказал он сквозь зубы и широко расставил ноги. – Вчера наша дивизия вела бои за Дмитриевское и Черкасово. Немцы остались за Волгой [и на дороге бросили свою технику]! – Ваша рота вливается, как пополнение в нашу дивизию. Теперь вы будете служить в 421 стрелковом полку. Командир полка – подполковник Ипатов. – Но я вас предупреждаю, у нас с дисциплиной строго и порядки особые. – Дивизией командует генерал Березин, за малейшие нарушение и невыполнение приказов, он отдает всех подряд под суд. – Смотрите, не попадите под трибунал! – Особенно это касается офицеров! – У нас в полку уже есть достаточно таких. – Сегодня вы пойдете за Волгу. На тот берег вас переправят саперы. – Там за Волгой вы будете воевать. Капитан прошелся перед строем солдат, посмотрел сурово на нас, на младших офицеров и удалился с двумя солдатами, которые его сопровождали, обратно в деревню. Вливание было сделано, нас влили в стрелковую дивизию. Командир рота подал команду – Разойдись! – и солдаты легли, привалившись к земле. Командир роты заторопился. – Остаешься за меня! – сказал он мне и пошёл в том направлении, куда только что ушёл полковой капитан. Мы лежали и ждали, когда он вернется, нужно было в дорогу на солдат получить продукты. Нас повидимому на ту сторону отправляли надолго. Я не подумал тогда, что наши люди уйдут туда навсегда. "У нас есть приказ Березина судить всех, особенно офицеров…" – остались у меня в памяти почти на крик сказанные капитаном слова. Командир роты вернулся в сопровождении сержанта сапера. Сапёр поведёт нас к паромной переправе на берег Волги. Рота тяжело встала, построилась по взводам и пошла по дороге. Вскоре сержант нас привел на крутой берег с песчаным отвалом и велел подождать.
– 5 – Солдаты остались лежать в кустах, я пошел на берег посмотреть на переправу. Деревянный плот, сбитый скобами из бревен, как его тут громко называли "паром", должен был перевести нас повзводно на тот берег реки. Внизу, переливаясь и крутясь, неслись холодные быстрые струи воды. На тот берег был протянут канат, по канату скользило кольцо, за кольцо был привязан бревенчатый плот. Вот и все нехитрое сооружение. Здесь под берегом сидело еще несколько солдат саперов. [Это они занимались переправой]. На плот могли поместиться человек двадцать [- двадцать пять] солдат или одна армейская повозка с лошадью. Тот правый берег реки, поросший соснами, казался безлюдный и пустым. Туда приказано было перебросить нашу роту, а где находились в то время немцы и были ли на том берегу наши войска, этого никто не знал. Возможно, нам об этом не хотели говорить. Перед тем, как нашему первому взводу зайти на плот, с него под кручу съехала повозка и лошадь. Почему одна единственная повозка пришла с того берега, я не понял. Меня подозвал командир нашей роты, с ним рядом стоял круглолицый офицер в накинутой поверх шинели плащпалатке. Нашивок его не было видно, кто он был по званию, трудно было сказать. – Это заместитель командира полка по тылу! – отрекомендовал мне командир роты стоявшего рядом офицера. В нашей роте было около сотни солдат. [В роте было восемьдесят человек, по двадцать солдат на каждый взвод.] – Сейчас на паром на ту сторону отправятся первые двадцать [пять] человек, их поведет командир первого взвода, – сказал командир роты. – Плот вернется, со вторым взводом поеду я. – Ты! – сказал мне старшие лейтенант, – с группой в тридцать человек останется на этой стороне и будешь здесь за старшего. – Ты со своими солдатами пойдешь на плот последним, когда он вернется сюда. Я буду ждать тебя на том берегу, а пока положи солдат метрах в двадцати от берега и жди от меня связного. Он вернется к тебе на пустом плоту. Меня с тремя десятками солдат положили за бровкой берега, и мы стали ждать своей очереди на переправу. Зам. командира полка суетился около лошади, о чём-то спрашивал и ругал повозочного. Он говорил ему что-то намеками. Не зная главного, нельзя было догадаться о чём шла речь. Почему он собственно ворчал [на повозочного] и был недоволен. Когда лошадь сошла с парома, ездовой что – то [стал рассказывать] сказал саперам. Я думаю, что он ругал его именно за это. Зачем он сообщил какую-то важную новость саперам? Первая партия была уже на том берегу, командир роты со второй спустился к воде и ждал, когда плот подойдет к нашему берегу.
– 6 – Паром вернулся, командир роты вместе с солдатами зашел на плот и на этот раз они [почему-то] очень долго переправлялись на тот берег. Внизу у воды стояли саперы, они за веревку с того берега перетащили пустой паром обратно сюда. И вдруг они почему-то забегали, засуетились и заволновались, застучали по канату топорами, оттолкнули плот, обрубили канат и попрыгали вверх. Они быстро легли за бровку, и в это время на воде послышался взрыв. Я подбежал к берегу и увидел: остатки парома, в виде разбросанных бревен плыли вниз по реке. Лошадь натужено втащила пустую повозку в гору [повозка проскрипела] по наклонному спуску и, поднявшись наверх, загрохотала по мерзлой дороге. Вслед за подводой убежали саперы. Я стоял на краю обрыва и смотрел им вслед [на эту поспешную беготню]. Солдаты, подняв головы и встав на колени, смотрели то на меня, то на удиравших сапёр. Нам и в голову не пришло, что на тот берег к воде вышли немецкие танки. Они правда на берегу не показались, они остались стоять за соснами, но мы этого не видели, не слышали и не знали, повозочный, зам. по тылу и саперы нам ничего не сказали. На том берегу в лесу остались наши солдаты и командир роты. Когда мимо меня пробегал последний из саперов, я рванулся с места и кинулся ему наперерез. – Кто у вас старший? – Почему взорвали паром? – Куда вы все бежите? – Там осталось полсотни наших солдат и командир роты! Но ответа на мои возгласы не последовало. Он обогнул меня стороной, махнул рукой и показал мне на другую сторону Волги. Что он хотел этим сказать? Я посмотрел туда, куда он мне показал и ничего не увидел. Я повернулся снова к нему, а его уже и след простыл. Не мог же я его схватить и держать за шиворот, или стрелять ему в спину из нагана. Признаюсь, я тогда растерялся. Саперы убежали, и мы остались лежать на голом берегу, у бывшей переправы одни. Я вглядывался в опушку леса на том берегу и ждал, что вот-вот [на берегу] у воды покажутся наши солдаты. И даже сел специально на край обрыва, чтобы с той стороны сразу заметили меня. Просидел я так [наверное] не менее часа. Потом спустился к воде и осмотрел обрывок каната. На том берегу было пусто и никакого движения. Кроме винтовок, небольшого запаса патрон и ручного пулемёта
– 7 – с одним диском патрон [, и теперь] ничего другого во взводе не было. Тридцать солдат, из них десять чужие и на меня легла обязанность самостоятельно решать все дела, думать и действовать. Чем я буду кормить своих солдат, если сухари и махорка завтра закончатся? Почему нам выдали продуктов всего на одни сутки? Или у них норма другая или решили, что больше суток мы на той берегу не продержимся? Где находится их штаб полка, в который мы теперь зачислены? Куда я отправлю раненых, если во взводе будут потери? С какой боевой задачей пошла рота [через] за Волгу? В таких делах существует воинский порядок, отдают по всей форме боевой приказ! Что-то здесь не то, не по правилам и не по уставу? Не могли же они просто так послать целую роту, чтобы её сапёры переправили на плоту на тот берег. [Рота восемьдесят человек.] Офицеры должны знать, что им делать, с какой задачей они туда идут [на тот берег]. Я запомнил фразу, брошенную капитаном из штаба на счет трибуналов, и долго вспоминал его фамилию и фамилию командира полка и дивизии. Разве с одного раза забьешь их в свою память! Бросили роту через Волгу в полную неизвестность, часть роты осталась здесь, и никому до нас дела нет! Может поднять солдат и пойти искать ту деревню, найти штаб полка номер четыреста с чем – то. А вдруг саперы доложили, что переправили всех? А мы явимся в штаб полка, и штабные объявят, что мы дезертиры? Попробуй докажи, что нас бросили и что мы на той стороне вовсе не были! По всей видимости, командиру роты приказали вывести роту в заданный район и занять оборону? Сунули необстрелянных людей за Волгу и припугнули их на всякий случай. А что саперы обрубили канат и взорвали паром, роли не играет. Видно в этой дивизии без трибунала ничего как следует не делают. Может мне следует послать кого вплавь, чтобы добраться до того берега. Нужно ведь выяснить, в чем там дело? Я посмотрел на лежащих солдат, подумал и вздохнул. Кого из них я пошлю в ледяную воду? Ни один из них, даже на бревне, до середины реки не дотянет. Перестрелки на том берегу и в глубине леса не было слышно. Как теперь старший лейтенант переправится назад, мне было не понятно. Куда они могли уйти? Почему они так внезапно исчезли? Вот сколько вопросов и неразрешимых проблем встало передо мной неожиданно и легло на мои плечи. И чем больше я думал, чем больше вникал в обстановку, тем больше я сомневался и ничего не предпринимал. Я посмотрел ещё раз на тот противоположный берег и решил просто ждать.
– 8 – День был безветренный и холодный. Прохаживаясь по кромке обрыва, я только теперь заметил, как резко похолодало. Ветки, трава и кусты пригнулись к земле, отяжелели, покрылись слоем прозрачного льда. На деревьях нависали сосульки. Трака хрустела под ногами, даже песок покрылся пористой коркой льда. Холод проникал везде. Он лез в рукава и под воротник. Солдаты были в летней одёжке. Мелкие ручьи и лужи застыли и оцепенели. И лишь холодине струи реки и водовороты на поверхности воды, перекатываясь и переливаясь, неслись куда-то неудержимо [вниз]. Я подошел к своим солдатам, подозвал старшину и велел ему выйти на кромку берега и наблюдать за той стороной. Взяв с собой двух солдат помоложе, и предупредив остальных, чтобы лежали тихо, и что я отойду на некоторое время, я [%%% куда я иду] пошел вдоль берега вверх по течению. Я хотел осмотреть полосу нашего берега, деревья, низину и кусты, все, что находилось правее нас на расстоянии в полкилометра. Дело шло к вечеру, видимость ухудшалась, от воды, со стороны реки, на берег ползла сырость и изморозь. Нужно было осмотреться на всякий случай. Здесь на берегу, ни слева, ни справа нет никого. Мы одни лежим у бывшей переправы. Пройдя метров сто от места, где лежали солдаты, мы отошли от берега и спустились в низину, чтобы обойти открытый участок реки. Я не хотел, чтобы нас увидели с той стороны [противоположного берега] Мало ли, что могло быть! Осторожно пробираясь между прибрежных кустов и небольших деревьев, я каждый раз останавливался и из-под ветвей покрытых прозрачным бисером льда [и льдинками], смотрел на противоположный берег, но ничего подозрительного на той стороне не замечал. Я постоял несколько минут и неподвижно вглядывался в прибрежные заросли на той стороне. Потом мы осторожно и медленно отходили назад от кромки обрыва и неторопясь продвигались дальше вперед. Подойдя к небольшой группе сосен, густым островом стоявшим на берегу, мы заметили в глубине деревьев какое-то едва уловимое движение. Что-то живое шевелилось между стволов. Мы бесшумно изготовили своё оружие и подались вперед. И там, за стволами деревьев мы увидели одиноко стоявшую лошадь. Мы подошли еще ближе, она повернула голову в нашу сторону. Мы увидели, что у нее на шее и в плече была большая и глубокая рана. Из раны [уже не %%%%, а] сочилась черная, как дёготь, кровь. Вот почему она стоит так тихо, почти неподвижно и едва заметна между стволов и ветвей.
– 9 – Большие, грустные глаза её тоскливо смотрели в нашу сторону. О чем думала она, когда увидела подошедших людей? Лошадь умнейшее животное. Один царь как-то сказал своему визирю: " Если бы у тебя на плечах была голова лошади, ты бы не был так глуп и не говорил мне всякой ерунды!" Брошенная лошадь стояла одиноко среди холодных стволов и обледенелой травы. Ми тоже были одиноки и брошены и пребывали в полной неизвестности! Мы ещё не истекали кровью, но всё это будет потом, всё это ждало нас впереди! Что будет с теми и с командиром роты, которые ушли на тот берег? Как они будут переправлять своих раненых солдат, если там примут неравный бой? Кто их пошлет продукты и боеприпасы? С кем они держат связь? Переправа взорвана. Дорога назад им отрезана. Оттуда назад на бревне живым не доберешься. Кругом по-прежнему стояла угнетающая тишина. Холодок и небольшой ветер с реки хватали за спину. Мы постояли немного, посмотрели на тот берег и пошли назад к нашим ребятам. Выйдя по пути на край берега, я заглянул вниз. Берег в этом месте уходил в воду сплошной обрывистой стеной. Выйти на берег с воды можно было только в одном месте, там, где с парома выбралась наверх лошадь с повозкой. Это от моих лежащих за берегом солдат было не далеко. Наши солдаты лежали на открытом месте. Повсюду небольшие кочки, поросшие побелевшей от инея травой. Я положил дозорных на край обрыва, а сам прилег на кочку рядом со старшиной. К вечеру на дороге, по которой укатила телега и убежали саперы, показалась небольшая группа солдат. Они шли в нашем направлении. Когда солдаты приблизились и подошли к нам совсем близко, среди них я увидел знакомое лицо. Это был друг мой по военному училищу Женька Михайлов, с которым мы в Кувшиново ходили на танцы. Лейтенант Михайлов куда-то вёл небольшую группу солдат. Я поднялся с земли, и он увидел меня. Мы вышли друг другу навстречу и поздоровались.
– Ты из штаба полка? – спросил я его.
– Да! А ты тут что делаешь?
– Мы?
– Мы лежим у моря и ждём погоды!
– Наши два взвода с командиром роты переправились туда. А мы вот лежим у переправы и ждём их возвращения обратно. Нас привели, положили и велели ждать. А что делать, этого не сказали.
– А ты, Михайлов, куда держишь свой путь?
– 10 -
– Это твои солдаты?
– Да! Это полковая разведка. Я, так сказать, в полковую разведку теперь перешёл. Когда нас стали распределять после передачи из штаба армии, предложили в разведку. Вот я и пошел.
– Про вашу роту в штабе полка что-то говорили, но они не в курсе дела, что половина роты осталась здесь. Вашу роту целиком считают погибшей.
– Как погибшей?
– Так!
– При мне командир полка подполковник Ипатов докладывал в дивизию, он доложил, что немцы вышли по всему правому берегу к Волге. Вырвалась одна повозка, а батальон и ваша рота попали в плен.
– Он правда сказал, что солдаты сражались до последнего. Но сам понимаешь, истина, она между слов.
– В какой плен? Чего ты мелешь?
– Говорю тебе дело! Я сам слышал. Начальник штаба спросил Ипатова, как роту списывать? Пропавшими без вести или погибшими?
– Думаю, что ты напрасно ждешь своих. Да и из полка за вами сюда никто не придет.
– Как не придет? Здесь был замккомполка по тылу. И саперы на наших глазах взрывали паром.
– А ты куда с разведчиками идёшь? На ту сторону будешь переправляться?
– Нет, на той стороне [теперь] нам делать нечего. Мне приказано двигаться вверх по течению реки по этому берегу. Мы должны пройти километров десять и к утру вернуться в штаб. Нам нужно осмотреть правый берег, не перешёл ли немец выше по течению и не обошёл ли он штаб полка.
– Послушай, Жень. Ты наверное знаешь общую обстановку. Расскажи, где немец, а где наши держат оборону.
– Повозочный, которого на пароме переправили последним, в штабе рассказал, что пока немцы окружали роту, он сумел за кустами незаметно выбраться на паром.
– Вы немцев отсюда видели?
– Нет! Я ходил по берегу в открытую с того самого момента, когда саперы взорвали паром. Ни немцев, ни выстрелов, никакого движения на том стороне!
– Послушай, Женя! Объясни мне на всякий случай, где находится та деревня, в которой стоит штаб полка.
– Пойдёшь по дороге, на развилке дорог в лесу свернёшь влево, пройдешь километра три лесом, при выходе на опушку опять свернёшь в лес. Вот там при выходе из леса левее дороги увидишь деревню. %%%%%
– 11 – В этой деревне и находиться штаб. В деревне живут местные жители. Офицеры штаба живут по домам. Сам понимаешь, кому хозяйки, перины и подушки, а кому, вроде нас, в холодном сарае приходиться спать.
– Я вот с разведчиками в сарае на сене. А ты, друг Сашечка, я вижу, со своими солдатиками на мерзлой земле!
– Ты, Михайлов, теперь работник штаба. Ты мне, вместо рассказов о пуховых подушках, посоветуй что делать.
– Вот пойду завтра утром назад, зайду к тебе, возьму у тебя связного, доложу начальству, что вы лежите на берегу, пусть дадут указание. Что они решат, сказать не могу, но думаю, что тебя определят в батальон. А вообще, теперь ты можешь сам послать с запиской посыльного прямо в штаб полка.
– А теперь [Сашечка, друг мой], мне пора!
– Из училища ребят никого не встречал? Пуговкина Сашку не видел?
– Нет, он, говорят, попал в другую дивизию.
– Пошли! – сказал Михайлов своим разведчикам. Я посмотрел на него, он чему-то улыбался. Возможно, он был доволен своим положением. Ясно, что ходить в разведку было приятней, чем вот так с солдатами лежать на мерзлой земле. Михайлов ушёл со своими солдатами. Он шел легко и беззаботно [впереди], и изредка поддавал ногой ледышки. Я посмотрел ему вслед и подумал: идет в разведку открыто, как на прогулку. А если немцы успели перебраться на этот берег? Окопались где либо и ждут поджидают его! Почему он не выставил, как положено, головной дозор? Вот также вляпается, как наш командир роты! Может он только здесь, передо мной держит фасон? Вскоре они зашли за кусты и скрылись из вида. Это была наша последняя встреча. Утром 30-го октября сорок первого года Евгений Михайлов на разведки не вернулся. Пропал он, пропали без вести и его солдаты. Я потом позже узнавал о Михайлове, но в штабе о нем никто не мог ничего сказать [несколько раз узнавал у Максимова, он в то время был %%% по разведке]. Родители у Михайлова жили в Москве. Я, он и Пуговкин были москвичи. Я был однажды у Михайлова дома. В то время мы были курсантами Московского Краснознаменного пехотного училища им. Верховного Совета Р.С.Ф.С.Р. Точного адреса я его не помню, но запомнилось мне одно, что жил он в одном из переулков на Ленинградском шоссе. Больше лейтенанта Евгения Михайлова и его разведчиков никто не видел. Я сообщаю некоторые подробности о нем, потому, что он был мне другом. Это не какой-то там выдуманный образ, а живой и реальный человек. И потом для справки: все люди, о которых я пишу, все они были живые и реально ходившие по земле [люди].
– 12 – Майора Пуговкина я например встретил в I958 году, после войны. Я вышел в коридор из класса Академии, где мы, офицеры запаса, проходили переподготовку. Прошло 37 лет, а я его сразу узнал в лицо. Он помнил Михаилова. А то как же! Я рассказал ему о нашей последней встрече. Но вернемся к делу! Ни стрельбы, ни шума, ни голосов с той стороны, куда ушел Михайлов, в течение ночи не было слышно. Они ушли и так же тихо исчезли, как живые призраки исчезают в холодную даль! Кругом стояла действительно зловещая и непроглядная тишина. Через некоторое время на дороге, по которой уехала повозка и пришел Михайлов со своими солдатами, снова показались какие-то люди. Они шли большой толпой, и на этот раз их было гораздо больше. Одеты они были иначе, чем наши московские солдаты. На головах у них были надеты каски, поверх шинелей до самых пят болтались защитного цвета плащ-накидки, затянутые около шеи на шнурок. У нас таких плащпалаток не было. Вел их, как потом выяснилось, вновь назначенный комбат, старший лейтенант, не то Поливода, не то Вудко, точно фамилию его я не запомнил. Это был широкоплечий, дюжий парень, с серьезным круглым лицом и маленьким носом посередине. Когда они подошли ближе, они нас не увидели. Мы лежали между кочек и шинели моих солдат успели покрыться белым инеем. Я встал на ноги и пошёл им навстречу. Толпа солдат остановилась прямо посереди дороги и из-за спин их вперед вышел тот самый старший лейтенант, фамилию, которого я не запомнил. Он громко, как перед строем, спросил меня кто мы такие. Я рассказал ему, как мы оказались около переправы, как саперы взорвали паром, что мы ждем своих, которые ушли на тот берег. Вчера мы прибыли в состав 119 дивизии и ждём наших с того берега,
– Ну ждите! – ответил он мне и посмотрел на моих солдат.
– Пошли! – пропел он тонким голосом своим солдатам, и обернувшись, свернул с дороги в сторону к отдельной сосновой роще. Он повел своих сибиряков молчаливых и угрюмых дальше вдоль берега, туда, где в небольшой роще деревьев стояла раненая в плечо лошадь. Я пожал плечами и мы остались лежать на месте. Вскоре мы услышали [два] несколько винтовочных выстрелов из той самой рощи, где скрылись сибиряки. Мы не знали причину стрельбы и были встревожены [конечно встревожились]. Но стрельба, как началась внезапно, так же неожиданно и прекратилась.
– 13 – Я послал старшину узнать, в чём там дело и почему стреляли. Он взял с собой солдата, пошёл [туда] и вскоре вернулся. Старшина доложил, что сибиряки пристрелили лошадь и довольные добычей разделывают тушу. И действительно, вскоре между деревьев и кустов показался дым и замелькали огни небольших костров. Мы смотрели на раненую лошадь, как на несчастное, обреченное животное, а они в ней увидели совершенно другое – куски свежего мяса. Солдатской хватки у них хоть отбавляй! Они только пришли на место и сразу набросились на лошадь. Мне это было не понятно! Я понял всё потом, когда стал выяснять о получении продуктов и о величине солдатского пайка. Изморозь, холодная и зябкая, тянулась на берег с реки. Солдаты подергивали плечами, а там жарили мясо и грелись у костров. Некоторые из моих тоже оживились, хотели пройтись и повертеться около костров, но я не разрешил, а старшина осадил их. Время летело так быстро, как эти холодные струи реки, которые неудержимо и стремительно неслись под уклон на поверхности воды [сильной реки]. Я сидел по-прежнему над обрывом и смотрел то на береговую кромку леса [по ту сторону реки, и переводил свой взгляд] то на крутые водовороты реки [которые неслись мимо меня]. Сзади я услышал похрустывание льда и шуршание [схваченной морозом] замерзшей травы. Метрах в тридцати на меня шагал старший лейтенант [из того батальона]. Он подошел к берегу, постоял некоторое время молча, посмотрел на ту сторону, огляделся вправо, влево, и сказал:
– Завтра я пойду в полк и доложу насчёт тебя.
– Оставайся покуда здесь. Может, увидишь кого из своих.
– Может ещё кто из ваших вернётся?
– Вернётся! – подумал я. Если уйти сейчас под деревья, a солдаты мои только и ждут податься ближе к кострам, кто будет следить за тем берегом, возможно, нужна будет какая помощь? Не успел старший лейтенант дойти до своих солдат, как над лесом из-за реки послышался резкий гул моторов. Из-за макушек деревьев в нашу сторону, на небольшой высоте летели немецкие бомбардировщики. Они шли густой цепью друг за другом. Проревев у нас над головой, они развернулись и пошли обратно вдоль [нашего] берега. Недолетая до нас, они несколько снизились и по очереди стали бросать [%%% по пять-шесть бомб] бомбы и стрелять из пулемётов. Пройдя один раз вдоль берега, они развернулись и почти цепляя за макушки сосен, [где теперь лежали сибиряки] сбросили ещё серию бомб [, а потом вернулись] и открыли [пулеметную трескотню] стрельбу.
– 14 – Все перемешалось в гуле и реве моторов, в стрельбе из пулеметов и во взрывах осколочных бомб. Послышались крики, заметались люди. Ни солдаты сидевшие у костров, ни наши, лежавшие в отдалении от берега [между кочек], заранее и не окопались. Кто знал, что всё так будет [выйдет]? А теперь за свою беспечность солдаты расплачивались кровью. Сибиряков застала бомбежка за варевом мяса [у костров], а мы остались лежать между замерзших кочек на совершенно открытом [пространстве] месте. От бомбежки укрыться было негде. Вот как бывает. Сидели, лежали, а отрыть себе щели или окопчики не додумали. Сверху на нас сыпались мелкие и крупные бомбы, с визгом и скрежетом ударяли в землю тяжелые пули. Нам казалось, что под нами рвется [и разлетается в стороны] земля. Но на наше счастье, что мы оказались среди кочек, [на открытом пространстве]. Немцы бомбили берег, а нас только [как следует] трясло. Из рощи выскочил комбат, старший лейтенант. Он, прыгая через кусты и кочки, бросился бежать по полю в направлении [той] дороги, [откуда %%%%]. За ним врассыпную бежали [его] солдаты. А в роще продолжала реветь и взрываться земля. Бежавшие падали, поднимались, переползали на ходу [на четвереньках]. А сверху над берегом распластались немецкие самолеты. Я вспомнил, как в начале войны, там у Москвы по немецким самолетам по ночам светили прожектора и били зенитки. А здесь они летали свободно, как по помойкам воробьи. Наши солдаты лежали в открытом поле. Они не шевелились. Немцы сверху не видели их. Прямых попаданий не было. Но бегство из рощи комбата и его сибиряков в один миг подхлестнуло кой кого из моих солдат. Первым сорвался тот шустрый мужик, который ещё в телятнике при отъезде на фронт, нализался спиртного. Несколько человек сорвались с места и побежали за ним. Я крикнул им, но они даже не повернули головы. Немцы заметили бежавших и развернулись над полем. Хвостатые черные чушки теперь рвались между кочек и мелких кустов. [После первого разворота над полем] Двоих на бегу разорвало [где они были] заволокло летящей землёй [и дымом]. Пролетая над нами, самолеты били из пулеметов, и под ударами тяжелых пуль промерзшая земля вскидывалась кусками и разлеталась в стороны. Я кричал до хрипа на солдат, чтобы они лежали на месте. Но страх после длительной бомбежки, грохот и рёв моторов сделал своё коварное дело. Большая часть солдат поднялась и побежала [тронулась, чтобы уйти] подальше от края берега. Они хотели выйти из-под огня. Поднявшиеся отбежали метров на сто и снова залегли. Со мной остался старшина и человек пятнадцать солдат.
– 15 – Мы лежали меж кочек, уткнув лица [и тела] в мёрзлую землю. Под вой, грохот и взрывы нас швыряло из стороны в сторону и подбрасывало над землёй, выворачивало все внутренности и било остервенело по голове [по местам с невероятной силой]. Мы цеплялись за мерзлую, покрытую льдом траву, рвали ее, готовы были вдавиться в застывшую землю, и ни холода, ни льда, при этом, мы под собой не чувствовали. [Нам было жарко.] Немцы сыпали бомбы, полизали землю свинцом. Периодически всё кругом вдруг стихало, мы поднимали головы, оглядывали себя и смотрели кругом, но в пространстве перед собой ничего не видели [и не различали], в глазах стоял какой – то непроглядный туман. Время остановилось [для нас]! Минуты превратились в целую вечность! И после всего этого, каждый раз мы должны были не забывать, что в штабе полка нас немедленно расстреляют или в любой момент потом отдадут под суд [военного трибунала]. Там, где дорога от берега уходила в тыл, метрах в трёхстах от берега была небольшая высотка в виде продолговатой гряды, она возвышались над полем с кочками метра на полтора. На ней росли невысокие сосни. [Она была от берега в двухстах метрах.] Солдаты батальона залегли под деревьями и тут же окопались. Мы отошли от берега [отбежали ближе к ним], но места окопаться на высотке для нас не оказалось [хватило], и мы остались лежать в открытом поле. Все ожидали нового налета. В роще, где, пристрелив лошадь, сибиряки развели костры, горели огни и шёл дым. Там остались раненые и убитые, и туда снова полетели бомбы. Комбат решил подобрать раненых вечером, с наступлением темноты, когда прекратиться бомбежка. Теперь сунуться туда не было никакой возможности. Потерь среди моих солдат кроме двоих пока не было. А тех двоих прямым попаданием разорвало на куски. Немцы зашли для бомбежки снова вдоль кромки берега. Новая серия осколочных бомб пришлась по тому месту, где [когда-то] только что мы лежали [%%% полтора взвода]. Земля от разрывов вскипела и вздыбилась, брызнула в разные стороны, теперь мы наблюдали разрывы во стороны. Сверху летел песок, падали клочья земли и [целые] замерзшие кочки. В одно мгновение выросли новые огромные всполохи взрывов. Что было бы с нами, если бы мы остались лежать на берегу? Первые заходы самолетов по сравнений с этими показались нам не такими страшными. Юнкерсы по очереди заходили на боевой курс и повисали над берегом. Они снижались к земле, вываливали свой груз и облегченные с силой и ревом взмывали вверх. Страшный грохот и рев прокатывался над землей, а новый самолёт уже зависал над целью. Мы лежали в двухстах метрах от берега, а земля ходила под нами и дрожала, словно у нас в ногах рвались эти бомбы.
– 16 – Из двадцати налетевших самолетов последний прошелся над берегом и помахал нам крыльями.
– К чему бы это? Мы перевели дух и осмотрелись. На этот раз ни нас, ни сибиряков не задело. Мы переглянулись, посмотрели в сторону сибиряков, они копошились в земле, углубляя свои окопы. Они ждали нового налета. Но ни мы, ни сибиряки не заметили, как под прикрытием последней массированной бомбежки, когда самолеты рыли землю, до роты немцев на надувных лодках переправилась на нашу сторону. Мы увидели пехоту немцев, когда они стали рассредотачиваться по берегу. Вот цепь раздалась быстро в сторону и немцы короткими перебежками стали перемещаться по полю. Я сразу подумал, что это перешла на берег наша рота. Но почему их так много и идут они цепью короткими перебежками, а не гуртом по дороге, как это делают русские солдаты. Догадаться, что это идут на нас немцы, я сразу не мог. Мы стояли во весь рост и они видели нас и не стреляли. Старший лейтенант стоял под сосной позади нас, он тоже смотрел в сторону цепи и молчал. Мои солдаты повскакали на ноги, вытянули шеи и тоже смотрели. Они смотрели то на тех, то на меня. Они ждали, что я скажу [а у меня шла мозговая]. Все смотрели на меня, все ждали моего решения. Комбат [наверное] при этом крикнул мне:
– Ну решай, лейтенант, ваши это или нет? Я подозвал пулеметчика, прикинул глазомерно, сколько метров до цели, подвинул прицельную планку на место, откинул в стороны опорные штанги пулемета и поставил пулемет на землю. Я постоял, подождал минуту не более, выбрал место повыше и поровней, перенес пулемет, решительно лег и старательно неторопясь стал целиться. Идущая фигура немца сидела у меня на мушке животом. Я дал подряд несколько коротких очередей из пулемета, каждый раз проверяя взятую точку прицела. Я даже не увидел, как ткнулись в землю несколько передних голубоватых фигурок в шинелях. Мой взгляд был прикован к разрезу придельной планки и мушки на конце ствола. Я дал ещё несколько очередей, оторвался от прицела и посмотрел вперед. После этого немцы залегли как по команде. Я видел, что несколько человек лежат неподвижно на боку. Остальные животами стали искать углублений между кочками. Я прицелился ещё точнее, с учетом, что цель опустилась, и корпусом чуть подался вперед. Я дал две, три короткие очереди по темным каскам и почувствовал, что попал в выбранную мною цель. Потому, что после выстрелов линия прицела смотрела в выбранную точку.
– 17 – Я не стал открывать беспорядочную стрельбу, как это делают обычно при появлении идах солдат противника. Я не старался захватить огнём сектор побольше. Я выбирал себе всего две, три фигуры покучней и каждый раз после моих выстрелов они получали [свою] по очереди порцию свинца. Они это сразу почувствовали, когда стали нести смертельные потери. Я бил наверняка. Что-что, а стрелять меня научили! Немецкие темные каски на фоне кочек покрытых белым инеем были хорошо видны. Каску не спрячешь ни за кочку, ни в землю! Я спокойно целился, подавая ноги чуть в сторону, чуть вперед, чуть назад, и прижав к плечу и скуле приклад пулемета, плавно спуская крючок и давал короткую очередь. Ещё несколько пригнутых касок к земле после выстрелов вскинулись над землей. Немцы как-то нервно заерзали и зашевелились, забегали и перебежками стали отходить к обрыву. А может это наши? Почему они не стреляют? Я лежу у пулемёта. Сзади меня стоят во весь рост мои солдаты. Немцы их прекрасно видят, но ответный огонь не ведут. Прицел я поставил точно, расстояние до них метров двести [триста] – пустяковое. Видно среди них много раненых и убитых и они от этого не могут прийти в себя. По моим самым грубым подсчетам, с десяток немцев наверняка получили по две, три пули. Они плашмя все уткнулись между кочками, не шевелились и не поднимали головы. Но почему они не стреляли? Вот что [собственно] смутило меня. Я никогда до этого немцев не видел. Не знал их цвета формы, одежды [в чем они одеты]. Я подумал об этом, когда они уже отошли за обрыв. Сейчас вполне было кстати их атаковать. Надо подбить на это старшего лейтенанта. А если это наши? Меня как раз и отдадут под суд. Словяне всегда ходят только кучей. Я вспомнил сзади себя эту дорогу, когда сидел и ждал своих на том берегу. Женька Михайлов с разведчиками пришел тоже кучей. Старший лейтенант привел своих сибиряков, как стадо коров. Идти навстречу своим развернутой цепью, совсем странно! Нет, это были немцы, они подошли к берегу во время бомбежки! Сибиряки старшего лейтенанта вообще не стреляли. Они видели, как я лег, как прицелился, как передние ткнулись в землю, как залегли остальные, как перебежками они стали пятиться назад. Не понимаю я только одного, какую роль здесь на берегу выполняет батальон старшего лейтенанта? Зачем они пришли на берег Волги? Оборонять его или жарить мясо? Возможно, у них приказа на оборону берега нет. Мы! Я понимаю. Мы оторванный кусок от целой роты. Нас считают погибшими, а мы напротив живые.
– 18 – Война [это наши действия и наши сомнения.] для меня сплошные открытия и догадки. Именно сомнения одолевают нас, когда мы делаем первый шаг навстречу [смерти] врагу! Возможно, если бы мы лезли все время вперед, всегда и везде шли напролом, у нас не было бы на этот счет никаких сомнений. Какие могут быть сомнения, если ты уже убит? Какие могут быть, например, сомнения у командира полка, если он от бомбежки и сидит за десяток километров. [Но неудача вершит нашей судьбой даже тогда, когда у тебя на этот счет нет никаких сомнений.] Однако неудача сопутствовала нам на первых порах. Был уже поздний вечер. Край берега смотрелся плохо. Немцы подобрали своих раненых и трупы, они скатились под обрыв и ушли обратно на тот берег. Над бровкой обрыва ни малейшего движения. Сибиряки облюбовали продолговатую высотку под соснами, а мы остались в открытом поле. Здесь были кем-то и когда-то отрыты небольшие, едва четверти глубиной, в виде узких [щелей] полос, одинарные и двойные окопчики. Когда совсем стемнело, я подозвал старшину и велел ему выставить охранение.
– Дежурить будут по двое. Передай солдатам на счет курева. Объяви порядок смены караульных и сигналы на случай ночной тревоги. Немцы убрались к себе на ту сторону. Ночью они не воюют. Но на всякий случай ухо держите востро! Это пускай запомнят все! Старшина всё проделал, а я, чтобы ещё раз убедиться, прошел с ним [по окопам] по постам и проверил несение службы.
– Спать будем с тобой по очереди, – сказал я старшине.
– Я лягу сейчас, часа на три, пока тихо. Ты разбудишь меня. %%% я подежурю, а ты отдохнёшь!
– В случае тревоги разбудишь меня немедленно!
– Я лягу вон там. В одном окопе с солдатом Захаркиным. У него есть одеяло, вот мы одеялом и укроемся. Одеяло большое, нам хватит накрыться сверху и натянуть его на голову.
– Пойдем, проводи меня! Будешь знать, где я лежу. Я велел подвинуться солдату, и старшина укрыл нас сверху колючим одеялом. Ночь была тихая, но довольно холодная. Когда я проснулся, то сразу понял, что проспал слишком долго. Видно старшина не стал будить меня через три часа, как об этом мы договорились. Пожалел видно и не стал беспокоить! – подумал я.
– 19 – Может с сержантом сидели посменно, и решили вообще не будить меня [а с наступлением рассвета сам завалился спать]? Вылезать из-под одеяла не хотелось. Вдвоём надышали, было тепло. Для подстилки на дно окопа Захаркин с вечера нарубил лапника. Лежать в окопе было удобно и мягко. Сегодня я за все дня как следует выспался. Приятно потянуться, ко нужно вставать! Я высунул голову наружу из-под одеяла, вздохнул свежего воздуха и еще раз потянулся. Кругом было светло. Я быстро поднялся на локтях, оперся на руки, сел на дне окопа и выглянул наружу. Окоп был неглубокий, сидя я ней можно было оглядеться по сторонам, поверхность земли была на уровне груди. Я посмотрел в сторону молодых сосенок, где были позиции солдат батальона. Там было пусто [и безжизненно тихо]. По краю дороги, где должны были сидеть мои солдаты, тоже ни одной живой души. Мы остались одни в этом окопчике, прикрытые с головой колючим одеялом. Минуту, другую я соображал! Что случилось ночью? Почему я ничего не слышал? Что теперь нам делать? Почему здесь нет никого? Я осторожно толкнул солдата. Он лежал подле меня. Солдат зашевелился, скинул с лица угол одеяла, открыл глаза и посмотрел на меня. Увидев мой палец прижатый к губам, он легко и беззвучно поднялся, подхватил свою винтовку, лежавшую сбоку на дне окопа и встал на колени. Он посмотрел в ту сторону, куда показывал я. Там на дороге, позади высотки, где ночью сидели солдаты из батальона, шевеля боками, немцы устанавливали два орудия. Возможно, немцы и подходили к нашему окопу, но не обратили внимания, что под серым одеялом лежат и опят живые люди. Мы были прикрыты с головой, а цвет корявого одеяла был под цвет окопной земли. Дорога в сторону деревни, откуда когда-то пришли сибиряки, для нас была отрезана. По дороге со стороны деревни, медленно раскачиваясь, шла парная немецкая упряжка с подводой позади. Нам представился единственно свободный путь выскочить из окопа и пригнувшись бежать поперек дороги к кустам – в сторону леса. Путь этот был чуть правее в сторону берега, где вчера попытались высадиться немцы. Я посмотрел вдоль поля, куда я стрелял [из пулемета], оно было совершенно пустым. Где-то гораздо выше по течению немцы навели переправу и обошли нас слева со стороны наших тылов. Не туда ли отправился Михайлов со своими полковыми разведчиками? Пока я соображал и думал, я успел рассмотреть немецкую форму одежды. Запомнились голубовато-зелёные шинели и френчи с чёрным воротничком.
– 20 – На немцах короткие сапоги с широкими голенищами и каски по форме головы цвета вороньего крыла. Мы осторожно перемахнули через дорогу, обогнули кусты, сделали короткою перебежку в лощину и, пригибаясь, добежали до бугра. Перед открытым пространством поля мы остановились, подобрали полы шинели, подоткнули их за поясной ремень и побежали, стуча сапогами по замерзшей траве и земле. Добежав до леса и зайдя за деревья, мы остановились и перевели дух. Нужно было осмотреться [кругом]. Я посмотрел на дорогу, ведущую в сторону деревни, по ней в направлении к пушкам шла небольшая группа немцев. Видно они к утру успели занять несколько деревень, потому что чувствовали себя вполне свободно. Но куда девались наши и батальонные солдаты? Почему старшина не разбудил меня? Куда исчез батальон вместе со своим старшим лейтенантом? Мы углубились в лес, я взял по компасу направление на северо-запад и мы пошли искать лесную дорогу. Лес просветлел, показалась опушка, и мы вышли не то на заросшую лесную дорогу, не то на давно заброшенную просеку. Осмотрев траву и мелкий валежник, мы убедились, что здесь никто давно не ходил. Такая просека, хоть она и старая, должна нас вывести на дорогу иди хожую тропу. Ходили же здесь когда-то люди по грибы и по ягоды. По просеке мы прошли километров шесть [или семь] и вышли на берег реки Тьмы. Здесь вдоль берега проходила проселочная дорога, по ней ехала повозка. Мы встали за стволы деревьев и ждали, пока из-за крупа лошади не покажется повозочный солдат. Увидев, что это наш, мы вышли ему навстречу. Лошадью правил солдат, на голове у него была надета зимняя шапка ушанка. Тыловиков уже успели перевести на зимнюю форму одежды, – подумал я. Мы остановили его, когда он поравнялся с нами. Он был из той же самой дивизии, в которую мы были зачислены вчера. Он сказал, что их обоз стоит на той стороне реки.
– По дороге отсюда километров пять не больше!
– Как дойдете до брода, повернете по дороге направо.
– А там недалёча паря и деревенька будет стоять.
– В деревне спросите, как дойти до вашего полка. Солдат в шапке поехал дальше, а мы по указанной дороге пошли искать полковой обоз. Я надеялся, что в тылах полка я узнаю обстановку и разыщу своих. Штаб полка нам указать не могли, о нём пока никто ничего не знал.
– 21 – А комбата и своих солдат я разыскал только к вечеру. Что же случилось ночью? Почему я остался в окопе? Почему ушли мои солдаты и не разбудили меня? Ночью, когда мы с Захаркиным легли под одеяло, старшина не спал, он ходил и проверял посты. Вскоре вернулся сержант, которого я с тремя солдатами посылал под покровом ночи дойти до берега Волги и посмотреть, что делается на том берегу. Старшина разбудил меня, когда сержант вернулся. Он доложил мне, что берег у переправы пуст. Я выслушал сержанта, сказал,
– Хорошо! Ты можешь быть свободен. И я опять лёг под одеяло и уснул. Часа через два в расположение взвода явился старший лейтенант, комбат сибиряков. Он привел с собой двух связных и приказал старшине подымать быстро людей.
– Действуйте без шума и осторожно!
– Не тяните время! Пойдете вот за этими связными! – сказал он и тут же ушёл.
– Солдаты нашего батальона давно стоят на дороге и ждут ваших! – сказал один из солдат, оставленных комбатом.
– Мне нужно разбудить лейтенанта! – ответил старшина.
– Ваш лейтенант давно на ногах. Мы его видели там в батальоне рядом с комбатом.
– Лейтенант сказал, чтобы вы шли туда побыстрей!
– Батальон уйдет, а ночью, в темноте можно отстать и мы его не догоним. Старшина, думая, что я на самом деле ушел к комбату и в курсе дела, что за ним послали связных, не стал проверять окоп. Так они и ушли, забрав всех солдат и оставив нас спать в окопе с Захаркиным. Когда старшина дошел с солдатами до перекрестка, то он увидел, что на дороге их ждут ещё двое оставленных комбатом солдат.
– Давай быстрей за нами! – закричали они и ускоренным шагом пошли в темноту.
– Комбат приказал вам бегом догонять [батальонных] остальных. Где они шли, куда и когда сворачивали, старшина не запомнил. В темноте ничего не видать. Он видел, что впереди идут солдаты батальона, и решил, что я иду где-то впереди, вместе со старшим лейтенантом. Они шли лесными дорогами, несколько раз подолгу стояли, было похоже, что батальон заблудился. И действительно они в лесу проплутали до рассвета.
– 21 – а (вариант 2) комбата и своих солдат я к вечеру разыскал. Что случилось ночью? Почему я остался, и меня не разбудили? Почему мои солдаты ушли? Ночью, когда мы с Захаркиным спали под одеялом, старшина ходил и проверял посты. Вскоре вернулся сержант, которого я с тремя солдатами послал под покровом ночи подойти к берегу Волги в том месте, где саперами был взорван паром. Старшина меня разбудил, когда вернулся сержант. Сержант доложил, что берег у переправы пуст. Я выслушал сержанта, сказал хорошо, можешь быть свободен, и опять уснул. Часа через два в расположение нашего взвода явился старший лейтенант комбат сибиряков. Он привел с собой двух связных и приказал старшине поднимать быстро людей.
– Действуйте без шума и осторожно!
– Не тяните время! Пойдёте вот за этими связными! Сказал он и сам ушел. Наши из батальона давно стоят к ждут вас на дороге, – сказал солдат, которого оставил старший лейтенант.
– Старшина, – сам сказал комбат,
– Давайте действуйте побыстрее!
– Мне нужно разбудить лейтенанта! – ответил старшина.
– Ваш лейтенант давно на ногах!
– Я его сам видел рядом с комбатом.
– Ваш лейтенант сказал, чтобы вы вели туда солдат побыстрей!
– Сейчас ночь, темнота, можно отстать и батальон не догоним! Старшина, думая, что я на самом деле ушёл к комбату и в курсе дела, не стал проверять наш окоп. Так они и ушли, забрав всех солдат и оставив нас спать до утра с Захаркиным. Когда старшина вывел своих солдат на дорогу, то увидел, что их ждут ещё двое солдат по пути.
– Давай быстрей за нами! – закричали они и быстрым шагом пошли в темноту.
– Комбат приказал догонять батальон по дороге! Где они шли, куда и когда сворачивали, старшина не мог сказать. В темноте было не видно. Но вот впереди они натолкнулись на людей, и старшина увидел, что старший лейтенант комбат стоит совершенно один.
– А где ваш лейтенант? – спросил строго комбат, увидев приближение старшины и с ним солдат.
– Мне сказали ваши солдаты, что наш лейтенант ушел вместе с вами и находится здесь.
– У меня был лейтенант из четвертой роты [офицер связи из штаба полка].
– 22 – Сделали привал [,чтобы]. Нужно было разобраться в обстановке. Вперед пустили разведку, но и она [тоже] проплутала [до рассвета] в лесу. Стало совершенно ясно, что батальон окончательно заблудился [в лесу]. Карты местности у комбата не было.
– Где ваш лейтенант? – услышал старшина строгий голос комбата.
– Мне сказали ваши связные, что наш лейтенант находиться вместе с вами впереди.
– Я вашего лейтенанта не видел.
– У меня был лейтенант Татаринов [из тылов полка]. А вашего лейтенанта я с вечера не видел.
– Может, он к немцам удрал?
– Этого не может быть! – заикаясь, сказал старшина.
– Он лег спать в окоп вместе с солдатом Захаркиным.
– Ночью мы его с сержантом будили. Он посылал сержанта в разведку на берег Волги, сержант при мне докладывал лейтенанту обстановку. Он поднялся в окопе, сказал хорошо и потом снова лег.
– Утром посмотрим! Если до утра не вернется, будь спокоен, можешь не волноваться! О том, что ночью пропал ваш лейтенант в полку будет известно! Я это я обещаю тебе!
– Мне приказали забрать ваши два взвода в мой батальон. Вы будете по номеру пятая рота.
– Старшим пока назначаю тебя!
– Предупреди солдат, что вы теперь в составе моего батальона. Старшине ничего не оставалось делать. Он подчинился и положился на авось. Старшина только теперь понял и до мельчайших подробностей себе представил, что солдат с рубежа он снял без ведома лейтенанта. Связные заторопили его, и он запутался, затыркался и поддался их окрикам, он самовольно снял солдат и не разбудил своего командира. Теперь тот спит спокойно в окопе с Захаркиным, накрывшись с головой шершавым одеялом. Теперь лейтенанта обвинят в дезертирстве и отдадут под суд трибунала. Что он скажет, когда тот вернется? А то, что лейтенант вернется, у старшины сомнений не было никаких. Вскоре батальон подняли, и они снова тронулись в путь. Старшина шел по дороге, вел своих солдат и поминутно оглядывался. Он думал, что лейтенант вот-вот догонит их. Когда батальон вышел на опушку леса, было уже светло. Деревня, где накануне стоял штаб полка, была, как увидел старший лейтенант, занята немцам. На окраине справа у открытого со всех сторон бугра стояли тягачи и готовые к бою зенитки. Комбат не решился пойти на немцев в открытую со своей не полной сотней штыков.
– 23 – Он отошел в глубину леса и велел всем залечь. Комбат решил подождать. Бывают на войне такие случаи, когда немцы занимают деревню и постояв некоторое время уходят совсем. Если не подымать стрельбы и шума, немцы возможно и уйдут. А чем собственно стрелять? Человек шестьдесят солдат, один пулемет и пятизарядные винтовки против батареи зениток! Прошло часа два. Комбат вскоре увидел, что немцы начинают окапываться и уходить из деревни не собираются. Оставив солдат на опушке леса, он решил сам пойти и разыскать штаб полка. Две пары связных посланные на розыски вернулись ни с чем. Он знал, что тылы полка стоят за лесом на Тьме. В тылах полка, куда мы явились с Захаркиным, мы стали искать кого-нибудь из тылового начальства, чтобы спросить, где находятся наши. Нас проводили к капитану Матвеенцеву, тому самому, который при первой [с нами] встрече грозился нас всех отдать под суд.
– Вот вляпался! – подумал я, увидев его перед собою. Он ничего не сказал, что утром штаб полка в полном составе попал в плен к немцам. Об этом я узнал несколько позже. Он начал прямо.
– Сейчас был комбат и доложил, что ты этой ночью дезертировал к немцам.
– Как это понимать? Когда я здесь!
– Так и понимай!
– Он что, с перепою или конины объелся?
– Вот мой солдат. Он всё время [был] со мной.
– Опросите его, если мне не верите.
– Моё счастье, что в окопе я спал и остался не один.
– У меня, видит бог, есть живой свидетель!
– Вы бросьте тут про бога! Вы могли договориться заранее между собой.
– Хорошо! Опрашивайте его! А потом вызовем старшину Сенина и сержанта Вострякова. Они остались с солдатами. С ними я никак не мог договориться.
– Какие ещё старшина и сержант?
– Как какие?
– Старшина мой помкомвзвод, а сержант во взводе командир отделения.
– Кстати, где они?
– Что же вы? Спрашивайте! Где мы были? Почему остались в окопе? И как отстали от своих? Почему солдаты моего взвода ушли, не предупредив об этом своего командира?
– 24 -
– А ты Захаркин чего молчишь? Говори, как было! Пойдешь под суд вместе со иной! Или здесь судят только офицеров? Солдат поправил пилотку, как будто от неё будет зависть правдивость и складность его речи, привычным движением рукава утер "слезу" нависшую от холода под носом и покашлял в кулак. Ему не часто по долгу службы приходилось говорить с капитанами. Он боялся, что с первым звуком наружу вырвется не нужное слово. Пока он готовился что-то сказать, капитан отвернулся и не стал его слушать. Он собрался было уйти, но я остановил его.
– Товарищ капитан, вы обвинили меня в дезертирстве, и не хотите слушать объяснения моего солдата.
– Как это понимать?
– В таком случае я ваши слова могу считать просто оскорблением! Капитан повернулся, взглянул на меня недовольным взглядом и сказал:
– Ну, ну! Что там ещё? Я взглянул на Захаркина, и он с хода выложил свои показания.
– Мы с товарищем лейтенантом легли спать в окоп. Лёд кругом на земле! Ночью вдарил [ещё] мороз! У них нет своего одеяла. А у меня есть! Мы легли с товарищем лейтенантом и были накрымши с головой одеялом, – и солдат показал на торчавшее одеяло в мешке.
– Товарища лейтенанта старшина товарищ Сенин должен был разбудить через три часа. Они так договорились меняться во время ночного дежурства. А ночью нас никто не разбудил.
– Утром проснулись, а наших и батальонных солдат в окопах не оказалось. Куда они девались мы и теперь не знаем. Вот мы и пришли сюда.
– Могу добавить! – сказал я.
– Когда вы будете допрашивать старшину Сенина и сержанта Вострякова, то обратите внимание, что они полностью подтвердят мои и солдата слова.
– Ваши два взвода передали в батальон. Теперь вы будете числиться в батальоне пятой стрелковой ротой. Батальон и ваша рота находятся на той стороне. Отправляйтесь туда!
– А с делами комбата и с вашими лейтенант, мы потом разберёмся!
– Ничего! – подумал я. То я дезертир, а теперь уже командир роты!
– С моим делом нужно покончить сейчас!
– Прошу вызвать сюда старшину Сенина, сержанта Вострякова и командира батальона. А то потом опять скажут, что я сговорился с ними!
– Хорошо, я пошлю за ними, Я присел на поваленное дерево, закурил и стал ждать. Время тянулось медленно. Я сидел и перебирал в уме возможные варианты. Старина мог испугаться и не признаться в своей ошибке.
– 25 – Но он в то же время понимает, что неправда может поставить его в сложное положение среди солдат. Солдаты народ ушлый, они во все с пристрастием вникают. Это на первый взгляд кажется, что они кроме своего желудка вроде не о чем не думают, и ничего не видят. В сложное положение попал старшина. Я никак не мог понять, почему он снял солдат и оставил меня спать в окопе. Но вот, наконец, появились все вызванные. Старшина рассказал всё, как было. У комбата при этом глаза стали узкими, скулы расширились, лицо расплылось, он был похож на ходю-ходю. После показаний старшины, опрос сержанта отпал сам собою. И так всем стало ясно, что я и мой солдат с одеялом были не виноваты. Я ушел в роту, но случилось другое. После долгих поисков штаб полка не нашли. Деревня, где он стоял, оказалась занята немцами. Командир полка Ипатов вместе со штабом пропал. Ходили разные слухи, но никто ничего точно и конкретно не знал. Когда об этом узнали в дивизии, то приказали комбату немедленно взять деревню обратно.
– Время к ночи! Когда я буду её брать?
– Ночью оставили! Ночью и возьмете! – ответили ему.
– Я этой деревни не оборонял! И не моя вина, что её сдали немцам!
– Мы в этой деревне вообще не были. Почему я должен её брать?
– Потому что в полку других солдат вообще нет!
– А этот участок оборонял ваш [421] полк.
– Если к утру не возьмете деревню, то все офицеры батальона пойдут под суд.
– Вот это ново! – подумал я. Боевого приказа на наступление [ни на то, ни на сё] нет. Просто претензия и категорическое предложение забрать у немцев деревню оставленную кем-то.
– Иди бери, – сказал я комбату,
– Я эту деревню немцам не сдавал.
– А чьи – то угрозы и матерщина по телефону силы боевого приказа не имеют. Так что решай сам комбат!
– Слушай, а кто передал тебе такое распоряжение?
– Да [майор наш, замком по тылу] какой-то майор. Но дело не в нём. Дело в том, что у немцев в деревне зенитная батарея. Без артиллерии нам деревню не взять.
– Ну – ну! – промычал я, – Чего же ты насчёт зениток не сказал?
– Будет тебе лейтенант!
– Дивизия наверно доложила, что деревня в наших руках. И вдруг давай официальный приказ на наступление. Они хотят это дело провернуть по-тихому. Мы сидели втроём. Три младших офицера, всё что осталось от командного состава полка.
– 26 – Старший лейтенант – комбат, я – командир пятой стрелковой и лейтенант Татаринов – командир четвертой роты. Он только что прибыл к нам в батальон. Это его перепутали со мной ночью связные. Он был сибиряк, служил в этом полку, но был из другого батальона. Батальона не стало, а он остался в живых. У него в роте было человек сорок солдат, а у меня около тридцати. Комбату что? Комбат сейчас отдаст приказ, и мы с Татариновым пойдем на деревню!
– Ты! – обратился комбат к Татаринову, – Возьмешь с собой взвод, человек двадцать. А ты, – махнул он головой в мою сторону, – человек десять не больше. Отберите людей и отправляйтесь брать деревню. Остальные останутся при мне. Я буду держать с ними здесь оборону.
– Вопросы есть?
– "Канешно!" А пушки будут?
– Держите ушки на макушке, вот вам и пушки!
– Да не ушки, а пушки! – поправил я.
– Вот я и говорю, пушки!
– Вот это дело! – подумал я. Мы переглянулись с Татариновым и стали собираться. Когда мы подошли к деревне и расположились на опушке леса, стало совсем темно. Кругом темнота, никакого освещения. На небе ни звезд, ни луны, впереди неясные очертания деревни. Что здесь, где? Куда собственно наступать и где лучше идти? Где у немцев пулеметы, окопы, солдаты и зенитки? Я вспомнил слова комбата. "Ночью в темноте немцы не поймут, сколько вас на самом деле. Примут вас сотни за две, а вы не теряйтесь. Шума побольше. А сами вперед!" Как всё хорошо на словах получается! Пролежав с полчаса, я поднялся и перешел на другую сторону дороги, где лежал Татаринов со своими солдатами. Я присел около него и сказал вполголоса:
– Слушай Татаринов! Возьмем человека по три и пойдем вместе в разведку! Может что нащупаем, а может и увидим! А потом и решим, куда наступать.
– Я согласен! – ответил он. Небольшая группа в восемь человек оторвалась от темной опушки леса. Мы пошли по обочине дороги с правой стороны. Мы с Татариновым впереди, а сзади наши солдаты. Слева у самой дороги стоял одинокий сарай.Мы остановились, и Татаринов зашептал: Ты иди со своими и обследуй сарай. Следующий объект после него будет мой.
– 27 – Я кивнул головой в знак согласия. Я лягу здесь справа от дороги и прикрою тебя на всякий случай. Я махнул рукой, подозвав своих солдат, и сказал им:
– Двигаться тихо! Мы пойдем к сараю! Команды подавать не буду. Будете делать все так, как буду делать я! Мы перешли дорогу и направились к сараю. Ни звуков, ни шороха [никакого движения], всё как будто замерло в ожидании, когда мы подойдем к нему. Выбираю направление на середину. Вероятно, ворота с той стороны, сарай стоит лицом к деревне. Медленно приближаюсь к сараю, в руке на всякий случай наган. Солдаты идут пригнувшись чуть сзади, винтовки у них наготове. Подходим к сараю и плашмя спиной прижимаемся к стене. Нужно немного отдышаться и успокоиться. Хоть мы и не бежали, а только шли, дыхание и удары сердца учащены. У сарая по-прежнему всё тихо, я начинаю подаваться к углу. Делаю шаг, и снова замер. Солдаты бесшумно повторяют мой маневр. Угол можно рукой достать. Я стою и решаюсь. Но вот, что-то перевернулось у меня внутри, и беспокойство исчезло. Я вышел за край стены и посмотрел за угол. С противоположной стороны сарая из-за угла на меня смотрел немец. Я отпрянул назад, на мгновение задумался, и, обходя сарай с другой стороны выглянул за угол. Здесь тоже стоял немец, глядел и молчал. Выстрелов [ни с нашей, ни] с их стороны не последовало. Я вернулся назад к середине сарая, показал солдатам рукой, чтобы следовали за мной и пошел обратно. Мы вернулись к дороге, где лежал Татаринов [, и легли рядом с ним]. Я сказал ему, что немцы с двух сторон у сарая, и что нужно их обойти [с двух сторон] полем и попробовать захватить [живыми].
– Ты берешь своих людей и обходишь сарай слева, а я со своими иду на сарай по дороге, – предложил Татаринов. Я согласился. Возвращаемся на опушку, забираем своих солдат и уходим в темноту [ночи]. Татаринов уже у сарая, я обхожу его кругом. И в этот момент раздаются выстрелы. Слышу визгливые крики немцев, топот ног и снова тишина. И подбегаю к сараю, Татаринов уже стоит в проёме ворот. Немцев конечно, как ветром сдуло. И тут началось. Мы успели только забежать за сарай, пробежать метров сто и залечь в ложбину. Немцы в нашу сторону открыли такой огонь, что казалось живого места не осталось до самой опушки леса. Часа через два огонь несколько утих, но мы смогли выбраться из ложбины только под утро. Потери были небольшие, всего трое раненых. При таком бешеном огне, мы даже не решились стрелять в их сторону. Мы отлежались и кой-как добрались лесом до своих.
– 28 -
– Ну что там? – опросил комбат, когда мы вернулись.
– Сам [знаешь] слышал! – ответил Татаринов.
– Зенитки и пулеметный огонь, по крайней мере из пяти пулеметов. После новой перебранки с замкомполка по тылу от нас отвязались. Нас отвели за Тьму, где мы начали рыть траншею. Но это скандальное дело было не кончено. Мы узнали, конечно, что командир полка Ипатов попал к немцам. Вскоре нам прислали на полк%% другого, майора [Карамушко] из разведбатальона. [Карамушко командир, а] Заместителем по пп был знакомый нам Матвеенцев. Мы углубляли траншеи, рыли котлованы под землянки, валили деревья, возводили накаты. Новое полковое начальство посылало к нам своих проверяющих. Помню однажды ночью прибежал к нам %%% Максимов. Он был в то время старший лейтенант. Максимова я запомнил, потому, что потом мне пришлось с ним много раз встречаться. Шли дни, земля покрылась толстым слоем снега. Линия фронта располагалась по обеим сторонам реки Тьмы. Немцы с наступлением зимы больше нас не трогали [и не беспокоили]. Даже винтовочных выстрелов не слышно было с [той] их стороны. Мы рыли траншеи, хода сообщения и тоже не стреляли. А что было стрелять? Они нас не трогали, и мы были не дураки. Пальни разок в ту сторону, и начнешься перепалка [между солдатами]. А начальству что? Солдаты гибнут [, ему ничего!] на то и война! Снегу насыпало, на метр поверх траншеи. Ни немцев, ни нас вовсе не видать. Ни дорог, ни проехать! Одни вытоптанные в снегу солдатскими ногами узкие [в снегу] тропинки. Но все они пролегли на переднем крае [вдоль траншеи. А кто пойдет их топтать в тылу, для тыловиков. Тыловики пересели на сани.]. Глубокий снег, и полное затишье на фронте. Когда траншея и землянки в роте были закончены, из полка, как в насмешку поступил приказ[поступило распоряжение]. Участок обороны сдать [другой,] вновь сформированной роте и перейти на совершенно голое поле и уже прихваченную морозом корку земли. Я пожимал плечами, хмыкал и удивлялся. А мои солдаты крайне недовольные, выражали свое возмущение всем матерясь в глаза [и прямо вслух]. "Старались, старались, а тут пришли чалдоны и сели на готовое!" Больше того. Когда мы закончили оборудование землянок и накатов, в роту явились саперы и по приказу полка отобрали у нас шанцевый инструмент. Сославшись, что пехоте иметь двуручные пилы, топоры и большие саперные лопаты не положено. А мы их несли на себе из укрепрайона. [Солдаты %%%%] Я думал, что это так надо и приказал старшине большую часть инструмента отдать, раз из штаба полка есть такое указание. Но на следующий день из того же штаба поступил приказ сдать
– 29 – готовую траншею и перейти на голое место. Правду сказать, после этого я рассвирепел.
– Ну и прохвосты! – процедил я в присутствии штабного работника. Эти мои слова быстро дошли до Карамушки и Матвеенцева. " Ну щенок, ты у меня попляшешь!" Эту плясовую фразу мне передал телефонист. У телефонистов тоже чесались языки [об новостях] по поводу всяких разговоров.
– Приготовься лейтенант, съедят тебя в этом полку. Уж если кого не взлюбили, то хоть пулю пускай себе в лоб! Сибиряки мстительный народ, – сказал мне телефонист и добавил:
– Я тоже из 297-го. Только прошу тебя об этом никому! [Ни слова!] Через несколько дней меня вызвали в батальон и сказали, чтоб я шел в штаб полка, там со мной проведут беседу.
– Вот побеседуй со старшим лейтенантом следователем из дивизии! Старший лейтенант официально представился и сказал:
– Давайте лейтенант отойдем куда-нибудь, у меня к вам имеется насколько вопросов. Я шел за ним, думая, зачем меня вызвали сюда? Какие он мне хочет задать вопросы? Иди опять будут тянуть за душу за ту ночь, что я лежал в окопе?
– Давайте присядем сюда. Здесь сухо, не ветрено и вполне удобно! Я в ожидании его вопроса присел.
– Я вас должен опросить, как свидетеля.
– Но прежде чем задать вопросы, вы должны мне расписаться вот здесь. За дачу ложных показаний и отказ отвечать на поставленные вопросы, вы можете быть подвергнуты к уголовной ответственности. И он сказал по какой статье и так далее.
– Теперь зададим вопросы!
– Как случилось так, что немцы обошли стороной весь район до реки Тьмы? После нескольких вопросов я понял, что следователь снял допрос с комбата, и что дело его плохо, потому что сдачу деревни, где стоял штаб полка, приписывали ему. Я спросил:
– А что за деревня, которую должен был оборонять батальон, и которая находилась от Волги за десять километров.
– Командир батальона со своей полсотни солдат был все время на берегу Волги и попал там под бомбёжку. Мне, например, когда я лежал на берегу Волги никто никакой задачи не ставил. Я остался случайно на этой стороне. Взорвали паром, и мне некуда было деваться.
– Скажите лейтенант, почему батальон покинул берег Волги и не стал оборонять деревню?
– 30 -
– Не могу вам объяснить. Меня во взводе и батальоне этой ночью не было.
– Я с солдатом спал в окопе. А как меня оставили и кто в этом виноват, вам наверно рассказали и вы в курсе дела.
– Или мне снова просить, чтобы устроили очные ставки?
– Я не знаю названия деревни, но слышал однажды, что это та самая, где к немцам в плен попал командир полка Ипатов.
– Комбат говорит, что это вы во всем виноваты.
– Он не может этого сказать. Я командира полка никогда не видел и где находится эта деревня, тоже не знаю.
– Скажите, почему ваши солдаты отошли от берега Волги? И как это случилось?
– А почему я должен был там остаться? Я на берегу Волги оборону не держал. Я ходил по берегу и смотрел. Я ждал, когда мой командир роты старший лейтенант Архипов вернется с той стороны. Я сидел на берегу почти до вечера, потом налетели немцы, и началась бомбежка. Я видел, как комбат побежал из сосновой рощи, потом вслед за ним отошли от берега его солдаты. Часть моих солдат тоже отбежали от берега и залегли в поле. Батальон занял оборону на небольшой высотке метрах в трехстах от берега Волги. При повторной бомбежке, я с людьми тоже отошел в поле. На высотке, где залёг батальон, были готовые ячейки и мелкие окопы. Там свободных мест не было и мне пришлось своих солдат расположить впереди на сухом месте метров на [пятьдесят] сто ближе к берегу. Ночью я посылал на берег Волги сержанта Вострякова. Он ходил [должен был] смотреть, не переправляется ли наша рота обратно под покровом ночи [и темноты]. Он просидел там часа два, на той стороне не было никакого движения. Я лёг с солдатом в ячейку и договорился со старшиной, что он разбудит меня через три часа и я подменю его на дежурстве. Ночью комбат снял батальон, забрал моих солдат и ушел в неизвестном направлении. Утром мы с солдатом проснулись и вышли к своим. Меня пытались обвинить в дезертирстве, но и потребовал очной ставки со старшиной, сержантом и комбатом. Я не виноват, что без моего ведома сняли и увели моих солдат. Вот собственно всё, что я могу сообщить. Следователь кое-что [из моего рассказа] записал, попросил расписаться на каждом листе, поблагодарил меня и распрощавшись ушел. Я вернулся к себе в роту и на третий день забыл об этой встрече. На берегу Тьмы нам выделили песчаный участок и приказали рыть траншею и занять оборону.
– 31 – Песчаный берег реки был двойной. Верхняя терраса была началом [ровного] снежного поля. В сторону реки она кончалась обрывом, поросшим кустарником и редкими соснами. Под обрывом шел низкий открытый берег реки, который доходил до самой воды. Я хотел траншею расположить по верхнему краю обрыва. Если немцы пойдут в атаку, то перейдя речку, они окажутся перед высоким обрывом, как естественным препятствием. Как наивно я всё представлял! Я не понимал причины, почему меня заставили рыть траншею внизу у самой воды. Мне пришлось снова намечать трассу солдатской траншеи. Сзади обрывистый высокий берег, на который просто так не взбежать, если даже припрет. Я прикинул и остался доволен. Во время атаки или артналета моим солдатам некуда будет бежать. Это даже хорошо! – подумал я. Ну что ж, внизу, так внизу! Впереди от края траншеи метрах в двадцати, [то ближе, то дальше] протекала [река Тьма] неширокая река Тьма, покрытая серебристым льдом. Она проложила себе путь по давно размытой лощине и зигзагами пробираясь куда-то в сторону к Тверце. Мы ходили с котелками к реке, черпали воду в промоине и пили её. В последних числах октября резко похолодало. А когда пришел ноябрь, хватил настоящий мороз. В первую неделю ноября снегопада не было, но потом %%% по колено [по-настоящему повалил снег]. Мы всё время [не переставая] долбили землю и рыли траншею. Землянок не было, спали где рыли. Два последних дня снег валил не переставая ни на минуту. Утром откроешь глаза, а на тебе верхом сидит белым толстым мешком [толстый] слоё холодного липкого снега. Чувствуешь, что кто-то залез тебе на плечи и придавил насильно к земле, [как во время игры в чехарду]. Ты поднимаешься со дна окопа, расправляешь плечи и скидываешь с себя белого седока [на землю]. Если ночью посмотреть вдоль траншей, то увидишь неглубокую канаву заваленную снегом и [живых] солдат в виде небольших бугорков. Лежат они или сидят, уткнув головы в колени, трудно сказать! Посмотришь на белый занавес, ползущий к земле и не знаешь точно, кончилась ночь или день на исходе? А сверху на землю летит и летит %%% снег. Мы хотели вначале построить землянку, чтобы солдатам было где обогреться и спать. Но нам запретили. " Пусть сначала отроют траншею! А то будете спать в землянке всей ротой, вас от туда не выгонишь!" После недели пребывания в снегу лица у всех осунулись, сморщились и почернели. Молодой солдат, двадцать лет, а посмотреть на него – вроде старик, сморщеный как гриб Лафертовский!
– 32 – Мы перестали вести счет времени. Нам хотелось только одно, есть и спать. Солдаты лениво ковыряли землю. Пойдешь проверить, а день и трех метров не насчитаешь. Меня вызвали в полк для промывания мозгов. А что промывать? Какие мозги? Если солдаты голодные и спят на ходу! Они даже говорить перестали. Сказал кто-то раз:
– Отроем траншею, а её отберут опять! Это была последняя фраза, которую я слышал, которую кто-то из солдат через силу [бросил] сказал. Людей на передовой было шло. Один на штабных и предложил перебрасывать роту с места на место. Пока получим пополнение – траншеи будет готовы. Воля командира полка [Карамушко] – неограниченная воля и власть над нами! Над нами над простыми смертными [солдатами], над безликой серой массой людишек в солдатских шинелях. Но сколько ни крути, не хитри и не дави, солдату заправить арапа вряд ли сумеешь! [Земля так и осталась укрытая белым снегом!] Через какое-то время в полк пришло новое пополнение. Я к своим тридцати в конце недели добавил десятка два молодых, необстрелянных ребят. Но жизнь в траншее не изменилась. Она как и прежде шла своим чередом, в каком-то белом сумраке и полусне. Неделя, за ней вторая прошла на снегу, без тепла, со вшами и в голоде. Служили тыловиками в этой дивизии в основном кадровики. Они попали на фронт полным и старым составом. Жизнь в линейных частях научила их всякому. Продовольствие проходило через руки шустрых людей. Солдат здесь питали не как у нас в пулеметном батальоне. Пайки были куцые, тыловики народец тертый! То, что нам в пулеметном батальоне давали на день, здесь раскладывали и разводили водицей на несколько дней. Мы были поражены этому узаконенному побору. Вот оказывается почему тогда на берегу Волги солдаты сибиряки долго не думая пристрелили раненую лошадь! Не только от этого открытия прозрели наши глаза [, хотя мы и жили в полусне]. Наше сознание просветлело, когда мы в этой дивизии подцепили вшей. Возможно кой кому эти слова будут не по нутру, но куда деваться от правды, если эта правда сама наша жизнь.%%% По той стороне речки Тьмы проходила передняя линия обороны немцев. Абсолютно по высоте, если сравнить горизонтали, немцы сидели выше нас метров на двадцать с лишним. Их оборона шла по буграм и обрывам. Местами обрывы подходили вплотную к реке, и тогда нейтральная полоса сужалась до предела. Но в этих местах солдаты не противостояли друг другу.
– 33 – У немцев сплошных траншей не было и линию фронта они держали небольшими опорными пунктами. [Вдоль] Около дороги на опушке леса [днем и ночью ходили] мы видели патрули. За неделю с небольшим до снегопада мы знали, где держали немцы свои посты. А когда выпал снег, когда все кругом замело и завалило, трудно было сказать, где сидели наши, и где теперь сидели они [немцы]. Смотреть на белый снег резало глаза. Немцы не стреляли, мы тоже помалкивали. Речка повсюду покрылась льдом и была засыпана снегом, на ее берегах нависли причудливые сугробы. И только на перекатах остались промоины, там бежала быстрая и прозрачная вода. Как-то выйдя на берег посмотреть, где солдаты черпают воду, я вспомнил, что у Пушкина о Тьме было сказано: "И ель сквозь иней зеленеет, и речка подо льдом блестит…" А Некрасов так кажется сказал: "Кто живет без печали и гнева, тот не любит отчизны своей". Однажды ночью ударил мороз. Нам успели выдать только зимние шапки и телогрейки. На голых руках рукавиц не было, ватные штаны обещали подвезти. Командир полка Карамушко [,теперь уже подполковник,] сидел у окна в натопленной избе и смотрел на замерзшее стекло. Оно покрылось радугой причудливых кристаллов. Ему доложили, что на участке пятой стрелковой роты задержали двух мальцов, они хотели перейти линию фронта.
– А говорили, что в роте все спят на ходу!
– Где пацаны?
– В роте! Товарищ командир полка.
– Пошлите за ними наших людей!
– Слушаюсь! – сказал дежурный офицер, – Будет исполнено! А в то время я беседовал с мальчишками. Им было лет по тринадцать не больше.
– Мы шли все время лесом, – рассказывал один.
– Днем сидели в лесу, а ночью пробирались к линии фронта.
– Два раза видели немцев.
– Один раз на дороге, они шли за повозкой. А другой раз на той стороне леса. Там у них стоят пушки.
– А почему вы решим идти через линию фронта? – спросил я.
– Вас кто-нибудь направил сюда?
– Мы сами!
– А пошли зачем?
– 34 -
– Захотели к своим пробраться!
– У вас в деревне родители или кто из родных?
– У него бабка в деревне. А у меня никого.
– Откуда ты взялся, нужно тебя спросить?
– Мы жили в Калинине. Мать на лето отвезла меня в деревню. Он мой друг. Мы живем в Калинине в одном переулке. Он поехал к бабушке, вот и я с ним. Мать за мной осенью не приехала, вот мы и остались у его бабушки. Вот мы и решили податься к своим.
– Куда?
– Бабы говорили, линия фронта близко. Наши стоят на Тьме. Вот мы и решили уйти из деревни. Я велел старшине послать двух солдат.
– Пусть ребят отведут в батальон. Ребят отправили, и солдаты вскоре вернулись.
– У нас их по дороге забрали. Из полка нарочные подоспели. Дня через два мальчишки опять появились в роте. Их привели полковые разведчики. К нам в траншею явился Максимов.
– Нужно без шума переправить их обратно на ту сторону! – сказал он.
– Ты сам поведешь!
– Я взял с собой старшину, Захаркина и мальчишек, перешёл по льду речку и забравшись на заснеженный берег, решил подождать. Мы легли в снег, нужно было немного дать им отдышаться.
– Ну и где же вы были? – спросил я в полголоса.
– Из штаба полка нас на санях парой лошадей отвезли в дивизию. Там с нами говорили офицеры. Потом водили к какому-то старику. %%% Нам вернуться обратно к бабке и собирать сведения о передвижении немецких войск. Нам дали пароль! К нам связного пришлют, – заявили они гордо.
– Вам же велели об этом никому не говорить! – сказал я.
– Вы-то ведь свой! Может мы опять сюда к вам вернемся. Вам поручено переправить нас.
– А не боитесь назад возвращаться?
– Нет! Мы дорогу знаем!
– Ну хорошо! Я подождал середины ночи, поднялся на обрыв, довел их до опушки леса, и они ползком подались вперед. Мы пролежали со старшиной и Захаркиным в снегу до утра, слушая не стрельнут ли немцы. Я отвечал за них. Нужно было сделать все тихо. Мы уползли назад перед самым рассветом. Можно было сказать, что переправа через линию фронта нам удалась. Старший лейтенант Максимов звонил мне, когда я вернулся, я ему подробно обо всем [доложил] рассказал.
– 35 – Через насколько дней меня вызвали к комбату.
– Иди в полковые тылы и получи валенки и теплые рукавицы. Полушубки, телогрейки и стеганные штаны ещё не привезли [на всех], после получишь. Штабные, тыловики и ком. состав полка были одеты полностью и во все новое. Нам офицерам рот выдали то, что после них осталось.
– А как же солдаты? – спросил я.
– А что солдаты? Солдаты ватники под шинель имеют, шапки на них надеты, рукавицы завтра старшина получит, а на счет валенок придется дня два подождать. Валенки для всех солдат на подвозе. Ещё через день в роту пришло пополнение. С маршевой ротой прибыли молодые солдаты. Командиром взвода прислали младшего лейтенанта Черняева. Не помню, откуда он сам. Но кажется из Омска. Мы были в роте вместе около месяца и сведения о нём исчезли из памяти быстро и навсегда. Но внешность его я запомнил [хорошо]. Парень он был молодой, широкоплечий, по характеру спокойный и даже не в меру молчаливый. Лицо у него было простое, обветренное и чуть – чуть скуластое, глаза обыкновенные, серые. Ладони рук больше и мозолистые. Кем он был до войны? [я знал, но забыл] В деревне работал. На фронте, что ни месяц – каждый день перемены, прошла [одна] неделя – целый [серьёзные] события. День на день никогда не похож. Прибыл он к нам в роту прямо из училища. Несколько месяцев позанимался военным делом и уже младший лейтенант. Прибыл он к нам; в ноябре, а в декабре его уже не стало. При особых обстоятельствах он пропал без вести вместе со своим взводом. На фронте он был всего ничего, всего один месяц. И за этот короткий срок войны сумел получить от Березина судимость. Судимость правда условная, но она морально раздавила человека. II декабря сорок первого года под огнем немецких зенитных батарей легло в землю сразу два полка нашей пехоты. В донесениях и книжечках под диктовку Д. И. Шершина указали, что в районе Марьино и Щербинино шли ожесточенные бои. А боев просто не было. Под батареи зениток сунули людей, и считай только убитых на поле оставили без двух, трех сотен тысячу. И все это свершилось за пару часов. Черняев не мог выйти из-под этого огня. Я был этому очевидец и свидетель. Из нашего полка всего вышло только два человека. Но вернемся на Тьму. Взвод младшего лейтенанта Черняева был выдвинут несколько вперед и правей. Он стоял у самой кромки льда в густых заснеженных кустах.
– 36 – Черняева со взводом поместили туда по указанию штаба. Я понимал, что штаб полка по приказу свыше обязан был разработать в деталях и организовать систему обороны. В общем, расчет был простой! Если роту в траншее накроет немецкая артиллерия, то в кустах на снегу останется нетронутый взвод. Я конечно возражал, тактика штабных мне была не совсем понятна. Но в моём согласии никто не нуждался. А я возражал потому, что взвод Черняева поставили в такое место, где нельзя было углубиться в землю и на полштыка лопаты. Солдатам Черняева негде было укрыться. Они сидели в открытом снегу. Берег в том месте был низкий и топкий. Плоский мыс, образованный наносом песка, не промерз и на поверхность земли везде выступала вода. Можно подумать, что мы могли принести мешки с песком и соорудить что – то вроде редута. Но должен вас огорчить. Рогожа и мешковина была тогда на строгом учете. Мешки выдавали только под тару тыловикам [и обозникам]. Солдаты Черняева насыпали вокруг себя полуметровый сугроб, набросали на снег под ноги лапника и получилась лежанка под открытым небом. Во взводе Сенина солдатам было теплее. У них над головой была корка промёрзшей земли. Солдаты подкопали в переднем скате траншеи норы и заползали туда на четвереньках. Землянку в роте вначале нам строить запретили, потом ее строить не %%%%%. Мы ждали, что нас перебросят в другое место %%%% [А может и не забыли? Мне не хотелось по этому вопросу идти и обращаться к комбату в штаб полка.] Важно было другое, как понимал я. Нас хотят поставить в такие условия, чтобы у каждого возникла правильная и одинаковая мысль. Если назад из траншеи ходу нет, а вы хотите выбраться из обледенелой могилы, идите под пули, берите деревню и грейте зады. А пока на ветру и на холоде застывали мои солдаты. Выползешь из норы, встанешь со сна, наступишь на пятки, а хребет дугой, ни туда и ни сюда, ни разогнуть, ни дыхнуть и ни пёрнуть [%%%%%]. Старики говорят, это икшакс (ишиас). 0т холоду ног. А нам молодым кажется другое. Что нас поставили вдоль мерзлой траншеи раком и через нас прыгает начальство, как при игре в чехарду. Я тоже спал в промерзлой солдатской норе во взводе у Сенина. Сегодня ноябрь сорок первого года. Из дивизии пришёл приказ. Командиру стрелковой роты положено иметь ординарца.
– 37 – Перед рассветом, когда приносили в роту пищу, я сам ходил с котелком за получением порции баланды и хлеба [и стоял в очереди]. До сих пор ротные бегали в одиночку по передку. Зацепит где пулей! Всякое может случиться! Пойдет по тропе и пропадет человек! По приказу я должен выбрать себе солдата в ординарцы, подать на него представление по инстанции и он пойдет в полк на беседу. "Проверка на вшивость", как говорили солдаты. Под этим понималось и то и другое. При тебе должен быть благонадежный и проверенный человек. Кто знает, может ты сидишь как засланный в пехоту шпион? – Сидишь в траншее, спокойно кормишь вшей, [целый день] торчишь на холоде, живешь в голоде, да ещё прикидываешься [что ты свой]. А потом окажется, что ты перебежчик с той стороны. Ординарца должны проинструктировать в соответствующих органах. К вечеру в тот же день меня вызвали в батальон. Зам. комбата по политчасти, а теперь у нас в батальоне было по штату такое лицо, вполне серьёзно и, можно сказать секретно, сообщил мне.
– Есть данные из дивизии, что в стрелковых ротах находиться шпион. Мне поручили предупредить тебя, чтобы ты проверил своих солдат. Он офицер, но одет во всё солдатское. Для связи и опознания у него есть пароль, две немецкие бритвы.
– Проверь у своих солдат карманы и мешки, может найдешь у кого одну или две.
– А они что? Со вставными лезвиями?
– Да нет! Говорят тебе опасные, немецкие, Золинген! Лезвием как следует не побреется. Немцы не дураки!
– Шпионы в роте! Серьёзное дело! Сам понимаешь!
– Так сколько же нужно отобрать опасных бритв? Две или три? – спросил я сидящего рядом комбата.
– Чем больше, тем лучше! – ответил он, пуская дым к потолку.
– Я что-то вас не пойму. Бритвы нужны или шпионы?
– Да! Ты, лейтенант, действительно бестолков. Как тебя только держат на роте?
– Разрешите идти? – оказал я бодро.
– Иди! Иди! Я выбираю себе ординарца,
– Возьмите молодого! Пожилого не удобно! – говорит мне старшина.
– Куда послать бегом, а у него ноги заплетаются.
– Возьмите молодого, есть шустрые ребята [пареньки]. Вот так где ранит, старик вас не вытащит бегом на себе.
– Смотря какой старик, и какой молодой? – заключаю я.
– 38-
– Может Захаркина взять,
– Захаркин не подойдет! Он что-то мается с животом. Я выбрал себе молодого солдата. Как это произошло, сейчас расскажу. Иду вдоль траншеи, в ней сидит группа солдат. Они все из пополнения и держаться кучкой. Скребут лопатами по бокам траншей, им велели очистить её ото льда и снега. Старики не работают. Они когда-то рыли эту траншею. Теперь работать очередь молодым. Старики сидят у бортов, покуривают, ждут когда молодые закончат работу.
– Пусть поработают пацаны. Это им в охотку, мускулы набьют и о войне кой что узнают, – переговариваются между собой пожилые солдаты. Им теперь хорошо, есть на ком отвести свою душу.
– "Вот только лейтенант у нас молодой, был бы постарше, поддержал нашего брата!"
– "А то как на работу, так все становись!"
– " Молодой, молодой! И покрикивать на нас стал, Кричит – шевелись, старые клячи!" Старики не работают, они сидят, разговаривают и курят.
– Кто у вас тут грамотный? – спрашиваю я у молодых солдат.
– Все товарищ лейтенант толковые ребята! А насчет грамотёшки, вон Валька из Москвы. У него девять классов. А у нас всего по пять и шестой коридор.
– Валентин иди сюда, лейтенант зовёт!
– Откуда сам? – спрашиваю я его.
– У меня дома, что-нибудь случилось?
– Нет! У тебя дома [наверное] всё в порядке. Я к тебе не с письмом. У меня к тебе другое дело.
– Мне ординарец нужен. Пойдёшь ко мне ординарцем?
– Не знаю, справлюсь ли я?
– Справишься! Справишься! – отвечают за него дружки солдаты.
– Тебе должность помощника лейтенанта дают, а ты сомневаешься!
– Считай себя в роте пятым начальником.
– Я согласен, товарищ лейтенант, что теперь мне делать?
– Будут дела! Я скажу, когда и что тебе нужно будет сделать. Так я подобрал себе ординарца. Молодой парнишка до войны жил с матерью, учился в школе, и со школьной скамьи прямо на фронт, в стрелковую роту. Парень ничего – скромный. На вид совсем не кормленный и страшно худой. Возможно, отсутствие сил сделало его немного вялым. Посиди неделю в холоде и на снегу, полежи в мерзлой земле без костров, без землянок, без нар, без железных печек, тут и верзила откормленный сразу выпустит дух. Я даю ему разные поручения.
– 39 -
– Сбегай к Черняеву во взвод, вызови сюда младшего лейтенанта. Сходи к старшине, напомни ему на счет патрон, пусть получит, в роте они не у всех в полном комплекте. Задания, которые я даю, проверяю на следующий день обычно утром. Спрашиваю
– Ты к старшине вчера заходил, говорил на счет патрон?
– Нет товарищ лейтенант, выскочило из головы, забегался.
– Ты вечером что делал, когда я ушел?
– Спал товарищ лейтенант. За все эти дни отсыпался. Я на него не кричу, не ругаюсь, но говорю серьёзно.
– Я на тебя надеялся, думал, что с патронами в роте порядок. А ты взял и забыл! Если ещё промашки с патронами будут, обещаю тебя отправить для несения службы в полковую похоронную команду. Там собрался весь цвет изысканного общества и выдающихся личностей. Все доходяги, евреи симулянты, немощные старики.
– Приедешь домой с фронта, а соседи спросят:
– Где воевал?
– Ха, ха, ха! Скажут девчонки, когда узнают, что ты служил в похоронной команде.
– Ладно! На этот раз прощаю тебя! За первую неделю ноября снег навалил ещё. На реке намёрз толстый слой прочного льда. Но кое-где на мели вода продолжала бежать говорливыми ручейками. Она разливалась по поверхности льда и скапливалась под снегом. Солдаты сидели в открытой траншее, мерзли и коченели, проклинали свою судьбу. Я проявил инициативу и разрешил им пробить в земле [трубы] дыры и откопать земляные печурки. Нам на передовой огня разводить не разрешали. Теперь по ночам из-под бруствера траншеи подымались солдатские дымки. Приучишь солдат к огоньку и дыму, потом на мороз не выгонишь низкого! Полковые сидят в натопленных избах, им не понятно, что солдаты мерзнут в снегу. Каждому свое! Одним деревни, бабы и пуховые подушки, а другим голые траншеи и льдышки под головой. %%%% их бы на недельку сюда, чтоб зады пообморозили! Люди не могут, как бездомные псы, сидеть на ветру и жаться друг к другу [от мороза]. Вы слышали, как по ночам стая бездомных собак воет на морозе вблизи человеческого жилья? Собака скулят как пьяная старуха. Людям нужен отдых и человеческое тепло. Им и так солдатская жизнь не светит! Так рассуждал я, а в жизни получалось всё наоборот. Всем было наплевать, что потом будет с солдатами. Какая-то тяжелая апатия охватила некоторых из солдат. Одни сидели у своих печурок, обжигали ладони, смотрели на веселый огонь, пихали в печурки поближе к огню застывшие [валенки] руки и ноги. А другие лежали в нетопленых своих лазейках и исступленно глядели в мёрзлый потолок.
– 40 – Я шел по траншее, что обыкновенно делал перед рассветом. Нужно было пройти, посмотреть, переброситься [несколькими] словами с солдатами, и по первому взгляду, по их неторопливому говору определить, как дела в роте, все ли на месте и ничего не случилось. Ночью я проверял оба взвода раза два, ложился спать и вставал перед рассветом. Рассвет самое тревожное и [ответственное] неприятное время. Перед рассветом на войне делаются все самые пакостные дела. Траншея это извилистая, глубиной по пояс, а иногда и чуть глубже узкая канава. У траншеи в отличии от сточной канавы бока крутые и обрывистые и выброс земли с одной стороны. Траншея послевоенных времён, если где на неё наткнёшь [где-либо в лесу], совсем не похожа на ту, чем она была во время войны. Пехотная траншея скорей похожа на яму, которую роют под водопровод, бока наклонные и крутые [готовые любую минуту обвалиться]. Идешь по ней и цепляешь боками, скребешь мерзлую землю то одним, то другим плечом. Под ногами где ровно, где снегу по колено, за ночь наметет – через сугроб не пролезешь. [Глубокие следы остаются, когда утром первым идёшь.] Солдаты одного отделения скребут и чистят свой участок траншеи, от другом отделении %%% даже снег выкинуть лень. Пролез по глубокому снегу и думаю, может это ничейный участок траншеи. Вышел на очищенный от снега поворотов вижу солдат стоит на посту.
– Ну, как дела? – спрашиваю его,
– Немец не шуршит?
– Нет товарищ лейтенант, все тихо!
– Почему не расчистили за поворотом траншею? Неужель трудно снег убрать?
– Это участок соседнего отделения. Вот мой, где вы стоите чистый.
– У нас в деревне, товарищ лейтенант, сосед мой пьяница был, лодырь и бездельник. Тоже вот так к калитке не пролезешь.
– Вот посмотрите, рядом свою берлогу отрыл их Черешков. Печки внутри нет, ноги торчат наружу, идешь иногда, переступать приходится через них.
– Стыд и срамота! Я обратил внимание, что солдат, с которым я говорил, стоял на подстилке из лапника. Снег по бокам траншей был обметён, и проход от снега был очищен. Здесь на передовой были разные люди, они по разному о себе заботились, по разному в относились к службе. Здесь на передовой солдаты постигли все прелести и горести окопной жизни. Одни и здесь в окопах боролись за свою жизнь, а другие к ней были %%% безразличны.
– 41 – У меня сейчас будет смена. Зайдите к нам в каморку [домушку], товарищ лейтенант. Посмотрите как мы живем. Посидите, покурите, погрейтесь. Мы всю ночь топили. У нас там сухо и тепло. Солдат помолчал, а потом добавил;
– Я вас табачком самосадом угощу. Вы такого ещё не пробовали.
– Ну что ж! – ответил я, – Иди буди своего напарника!
– Так и быть, зайду к тебе! Солдату нельзя [в просьбе] отказать, когда он доверительно приглашает. Нужно пойти, посидеть, покурить, [видно душа его этого] может сказать что хочет. В подбрустверном укрытии у солдата было уютно и тепло. Земля на стенах просохла, ни сырости, ни плесни. Я сел на ворох лапника покрытый сверху куском палаточной ткани, вход наружу солдат старательно завесил. Внутри загорелся огарок свечи, в боковой печурке ещё тлели красные угли.
– Это я для вас зажёг! Мы сами без него управляемся. Только в особых случаях зажигаем, – и показал на огарок свечи. Солдат протянул мне кисет, и я закурил [самосада]. Табак был действительно хорош. Я сидел, молчал и курил. Солдат с разговором не касался. Он понимал [и видел], что я о чем-то задумался и не хотел пустыми словами сбивать меня с мысли. А я сидел, курил и думал о двух предметах: 0 солдатской жизни и о солдатской еде. Кормили нас в дивизии исключительно "хлебосольно"! [как принято в таких случая говорить официально!] Мучная подсоленная водица и мерзлый как камень черный хлеб, его когда рубишь, не берет даже саперная лопата, не будешь же его пилить двуручной пилой, – поломаешь все зубья! Суточная солдатская норма в траншею не доходила. Она как дым, как утренний туман таяла и исчезала на КП и в тылах полка. А полковые, нужно отдать им должное, знали толк в еде! Одни здесь брали открыто, и ели, сколько принимала их душа. Им никто не перечил. %%% Другие помельче не лезли на глаза, они брали скромно, но ели сытно и жевали старательно. Но были и другие, почти рядовые, которые продукты получали со складов, отчитывались за них, варили их и ими комбинировали. Они в обиде на жизнь и на харчи также не были. " Горячая пища солдату, нужна!" – утверждали они и доливали в солдатский котел [вместо продуктов подсоленной] побольше воды. "Пусть солдаты просят добавки! Начальство велело!" А то по дороге, мобыть, расплескаете! У нас в этом отказу нету!
– 42 -
– Что-то она у тебя сегодня жидковата! – нерешительно скажет старшина.
– Не важно, что она с жижей! Это на [мясном] бульоне! Важно, что она горячая и её много!
– Где ж много?
– В котле много!
– А тебе как положено полсотни черпаков на роту, получай и отходи! Мысли бегут быстро, это когда рассказываешь кажется, что долго! С того самого дня, когда мы вошли в состав стрелкового полка, солдаты сразу почувствовали голод. Не раз вспомнишь свой московский 297-ой батальон. Вот где кормили досыта! Мы о еде там и не думали! Солдаты ходили хмурыми, ворчали при раздаче пищи, но полковому начальству на это было наплевать. [при случае ничего не говорили] А что говорить? Ничего не изменишь! У солдат была теперь одна дорога к правде, через собственную смерть и через войну! Тоска о еде точила солдатскую душу. С командира роты тоже не спросишь. Солдаты видели, что на меня постоянно рычали. И уж, если ротный ничего не может сделать, что соваться в это дело солдатам. Любой разговор по телефону со мной начинался [с раздражения, с недовольства] с матерщины и с крика. Орали в глаза, когда вызывали к себе. %%%%варивал по поводу всего, не выбирая выражений. Солдаты знали и видели, как меня %%%%% ехидно высмеивали и старались поддеть. При малейшем с моей стороны возражении, мне тут же грозили. К чему все это делалось, я тогда не понимал [не готовилось чего?]. Я об этом [несколько раз спрашивал] как-то раз спросил комбата, но он упорно молчал.
– Мне тоже каждый день делают втыки! У них наверно стиль такой! – %%%% От сытых и довольных своей жизнью полковых начальников и до вшивых и мордастых тыловиков, все кормились за счет солдат окопников, да ещё покрикивали и делали недовольный вид [выражение лица]. Там в глубоком тылу народ призывали, что нужно отдать все для фронта. А здесь, на фронте, полковые %%%%%% считали защитниками Родины только себя.
– Зачем набивать желудки солдатам?
– Ранит в живот, сразу заражение крови пойдет [от присутствия пищи].
– Траншею загадят так, подлецы, что потом не продохнуть! Солдату нужно иметь промытые мозги и пустой желудок [кишечник]! Русского солдата сколько не корми, он все на начальство волком смотрит!
Меня как – то вызвали в штаб полка. Ожидая приёма, когда освободится начальство, а нас при этом обычно держали на ветру, я наткнулся на подвыпившего капитана. Не знаю, кем он был при штабе, но он посадил меня рядом с собой на бревно, дал папироску и сказал мне:
– Вот послушай! Одни жили-были, живут и ночуют в избах, и считают себя фронтовиками.
– 43 -
– А вас посадили в сугробы и на вас нет смысла переводить сало и прочие съестные запасы. Другое дело основной состав полка.
– Ну лейтенант давай разберемся!
– Кто по-твоему держит фронт? А кто просто так торчит там в окопах?
– Кто в постоянных заботах? А кто все делает из-под палки?
– Да, да! Кто отвечает за фронт?
– Линию Фронта держим мы полковые. И нашими заботами вы сидите спокойно на передке в своей траншее.
– Не было бы нас, вы давно бы все разбежались! Верно я говорю?
– Что верно, то верно! – [поддакнул] сказал я ему, думая что ещё он скажет.
– Без полковников армии не существует!
– В полку фронтовики – это отец наш родной, его заместители и штабные как я. В полку мы не одни. Тут снабженцы и кладовщики, начфины, евреи парикмахеры, медики, повара, и сотня повозочных. При штабе портные, сапожники и шорники, саперы, телефонисты и санитарочки в санроте, сам понимаешь! Все они фронтовики и защитники Родины. Это основной и постоянный состав полка, а вы, как это вам сказать, временные людишки, переменный состав, всего на две, на три недели.
– Вас считай… Сегодня вы были, а завтра вас нет!
– А кто останется? Кто будет стоять против немцев?
– Ты знаешь, сколько вашего брата желторотых лейтенантов за это время успело отправиться на тот свет?
– Нас в полку сейчас больше, чем вас там сидящих в траншее.
– Мы штабные живучие, тем мы и сильны!
– Нас совершенно не интересует, какие у вас там потери. Чем больше, тем лучше, это значит, что полк воевал и мы поработали!
– Что я?
– Я уже лишнего говорю!
– Иди, тебя зовут!
– Нет, это не тебя! Сиди и слушай дальше!
– Чего там скрывать! Кроме меня тебе никто не откроет глаза на то, что здесь происходит.
– Ты мне с первого раза приглянулся. Сразу видать, когда у человека открытое лицо.
– Вот слушай! Застелят вашими костьми нашу матушку землю и ни один человек после войны не узнает ни ваших фамилий, ни ваших могил.
– Видишь разница в чём? А мы будем живые и наши фамилии будут фигурировать в отчетах и наградных листах.
– Скажи лейтенант, за что ты воюешь? Только без трепотни! А то кого ни спрошу в полку, все патриотическими фразами прикрываются.
– 44 -
– Ладно, они тыловики, боятся место потерять. А ты ведь из траншеи.
– Я воюю за [лучшую] сытую жизнь. В молодости я жил в голоде и недостатке. Нас у матери было трое. Хочу, чтоб после войны жилось лучше и сытней.
– И ты думаешь дожить до конца войны?
– Думаю! Мы в училище с ребятами дали друг другу обещание до Берлина дойти.
– И ты веришь этому?
– Ну, а как же, конечно!
– Ну знаешь, ты всех перехлестнул!
– Иди! Вот теперь тебя зовут.
Хорошо, что немцы застряли в снегу, – думал я, шагая обратно в роту. Машины и танки у них увязли в сугробах. Мальчишки, перебежавшие фронт, рассказывали, немецкая техника встала намертво. Они её даже из снега не вытаскивают. Немецкая солдатня одета в летнюю форму. Вдарил мороз и немецкая пехота разбежалась по деревням и [посёлкам] избам. На улице мороз, а они на постах стоят в пилотках. Винтовки голыми руками не возьмешь, прилипают к рукам и отдираются вместе с кожей. У наших, считай, с осени заржавели стволы. А немцы вообще не стреляют. Наши стали ходить в открытую. Да что там в открытую! Считай, идут нахально, не пригибаясь, прямо напрополую! 7-го ноября праздник. К празднику нам выдали по сто граммов водки и по полбуханки не мороженого хлеба. Это целое событие, мы отметили его от души. После праздника водку давать перестали, и наша жизнь пошла по старой колее. 13-го ноября меня вызвали в штаб полка по срочному делу. Там мне сказали, что я вместе с комбатом и командиром четвертой роты Татариновым пойду в дивизию. Я был удивлён. Спросил комбата, а он как обычно промолчал. Татаринов всю дорогу почему-то вздыхал и охал, Мы шли не одни. С нами вместе в дивизию топали два солдата с автоматами и лейтенант командир комендантского взвода, как он сказал. Солдаты пыхтели, обливались потом от быстрой ходьбы и вскоре отстали. А дорога не близкая, считай километров пятнадцать, и снегу по колено, идти не легко. А мы хоть и голодные, но привыкшие к ходьбе и быстрые %%%%%%%
– Подождите я солдат подгоню! – сказал нам лейтенант из комендантского взвода и остановился на дороге.
– У меня нет времени ожидать вас здесь! – закричал он солдатам.
– 45 -
– Давай шевели ногами! Солдаты молчком нагнали нас и мы снова пошли по снежной дороге. В дивизии нас встретили с улыбкой. Но ни одного знакомого лица. Лейтенант передал нас какому-то капитану, забрал солдат и пустился в обратный путь.
– Что это? – мелькнуло у меня в голове.
– Конвой или охрана?
– Доставали нас, сдали и повернули домой! Перед дверью в избу, капитан вышедший нам на встречу, вежливо попросил личное оружие – пистолеты сдать ему.
– Что это, – подумал я.
– Для чего всё, – это опросил я его, удивлённый.
– У нас порядок такой, дорогой мой лейтенант! Давайте пожалуйста ваш револьвертик! Я расстегнул кобур, достал свой наган и положил его на ладонь капитану. Комбат и Татаринов сделали то же самое. После этого нас пропустили в избу. Двое часовых в новых овчинных полушубках на перевес с автоматами охраняли крыльцо и дверь. Мне велели присесть в передней, а комбата и Татаринова провели дальше. 0 чём с ними говорили, мне было неизвестно. Я хотел было закурить, но меня тут же одернули.
– У нас здесь не курят!
– Что за учреждение? И почему здесь нельзя курить?
– Здесь военный трибунал, а не учреждение! И вам, пока вы здесь сидите, курить не полагается!
– Как! – вылетело у меня от неожиданности" Дверь во внутреннее помещение открылась, и меня пригласили войти. Я, ничего не думая, спокойно сажусь на заднюю лавку у стены. Капитан подходит ко мне и обходительно просит пересесть на переднюю лавку.
– А мне сюда зачем? – спрашиваю я. Мне сзади смотреть удобней.
– Вы, лейтенант, уже не свидетель.
– Кто же я такой?
– Вы, как и они, подследственный и участник.
– Какой участник? В чём я участвовал и где?
– Давайте помолчим! До вас очередь дойдет, суд во всём разберётся. Капитан легонько, подтолкнул меня вперед и, положив руки мне на плечи, кивнул головой на свободное место [на передней лавке]. Я, не думая ничего, послушно опустился.
– Вы видите, что я с вами обращаюсь не как со взятым под стражу, а совсем наоборот! – шепчет он мне, усаживаясь сзади.
– А чему я собственно участник, – спрашиваю я его в свою очередь в полголоса.
– 46 -
– Не волнуйтесь лейтенант, не надо, не торопитесь. Держите себя достойно. Вы ведь офицер! Сейчас во всём разберутся и вынесут справедливое решение.
– Вы подтверждаете, что заблудились в лесу и всю ночь блуждали? – услышал я чей-то голос. Потом о чём-то говорили другие. С мороза и с воздуха и от быстрой, долгой ходьбы я не мог сразу вникнуть в происходящее. Я почему-то разговор воспринимал урывками. Впереди, за накрытым красной материей столом сидели люди в военной форме. Перед ними лежали бумаги. Что это, собрание или праздничный президиум? После долгого разговора с комбатом, судьи попросили его пересесть на боковую скамью, около которой стояли два вооруженных солдата. Подошла очередь Татаринова. Он почему-то подкашливал и вытирал ладонью пот с лица.
– Вы прибыли в роту, в ту ночь, когда батальон заблудился в лесу?
– Да! – ответил он не подымая головы. Сегодня 13-ое ноября определил я подсчетом. Шестой день с того дня, когда нам в траншее выдали водку. Кто-то подтолкнул меня сзади в плечо. Я быстро обернулся. Капитан показал мне пальцем в направлении красного стола. Я сразу понял, что теперь меня требуют к ответу. После целого ряда вопросов, где я родился, кто я, и другие, меня спросили:
– Вы были на берегу Волги, когда батальон занимал там оборону?
– Да, был, – ответил я.
– Когда вы оставили линию обороны и отошли от берега Волги?
– Я берег Волги не оборонял. У меня приказа на оборону берега Волги не было. Мы лежали, на берегу и ждали, когда наш командир роты старший лейтенант Архипов вернётся о того берега. Я отошел от берега Волги, когда началась бомбёжка. Сначала отошёл батальон, потом обнаружив, что мы остались одни, мы отошли за батальоном.
– Я думаю достаточно, – сказал кто-то сидящий за столом.
– Больше вопросов нет, – сказал мне тот, что меня допрашивал. После некоторой паузы, сидевшие за столом удалились на совещание. Они вернулись, нас попросили встать. И суд объявил свое решение. Комбат получил восемь лет лишения свободы, а нам с Татариновым по статье 193 – 21"Б" УК РСФСР условно дали по пять лет. Когда нам по очереди дали последнее слово, то я задыхаясь от несправедливости сказал, что всех перечисленных деревень о которых здесь идет речь, и которые полк оставил без боя, я в глаза никогда не видел и о них не слыхал.
– 47 -
– Покажите приказ, или пусть подтвердят отдавшие его люди, что и оставленные во время переправы через Волгу солдаты обязаны были оборонять одну на указанных здесь деревень. Я с солдатами на берегу остался случайно. Я приказа на оборону берега не имел.
– Мой командир роты Архипов с тремя взводами переправился на тот берег реки и приказал мне на следующем пароме следовать за ним. Саперы у нас на глазах взорвали паром и сбежали в тыл. Я остался на берегу без всякой связи и без знания обстановки. Где и куда пропала наша рота, никто не знает. Мне здесь ставят в вину сдачу целого района деревень: Избрижье, Заборье, Стружня, Галыхино, Тухминь и Степанково. Район на десятки километров для взвода в тридцать человек солдат не слишком ли много? Его должна оборонять по крайней мере дивизия. Если здесь вершится правосудие, то почему мне в вину ставиться невозможное и такая несправедливость? Меня тут же прервали и разъяснили, что я должен говорить только по существу и добавили:
– Виноват полк. В полку осталось три офицера. Эти трое – вы! В решении суда всё учтено!
– Если все установлено, то вам хорошо известно, что немцы и техника переправлялись у пристани Избрижье. А я находился в то время от Избрижья в пятнадцати километрах, если идти по берегу вверх по течению реки. Где же тут логика?
– Ты, лейтенант, не кипятись! – услышал я голос капитана у себя за спиной.
– Чего ты лезешь на рожон? У тебя всё условно! Ты должен быть рад, что так легко отделался? Вернешься в роту! Сейчас револьвер свой получишь! Вот у комбата дела обстоят гораздо хуже! Слова капитана сбили меня с хода мысли и я, как бы заткнувшись, опустился на скамью. Да, подумал я. Березин выгородил себя, отдав под суд трех младших офицеров. Самое главное было сделано. Нас судили потому, что мы остались в живых и судить больше было некого. В течение одной ночи Березин потерял полк, который вместе с Ипатовым попал в плен. Березин потерял десяток деревень и территорию пятнадцать на двадцать километров [по фронту и в глубину] Действительно, какая разница для лейтенанта, будет он через неделю валяться убитым с судимостью или без неё!
Что-то будет дальше? – подумал я, выходя на крыльцо. Я осмотрелся кругом, белый снег слепил глаза. Я достал махорку, свернул папироску и закурил.
– Вот ваш револьвер, возьмите! – услышал я голос капитана.
– Можете идти к себе в роту! Нужно взять себя в руки – решил я. И тут же стал вспоминать, когда пришел приказ из дивизии о назначении меня на должность
– 48 – командира роты. На берегу Волги я был командиром взвода. Ночью все было по-прежнему. На Тьме я исполнял обязанности командира роты, но в должности утвержден ещё не был. Перед праздником за три дня, когда мне объявили, что мне положено иметь ординарца. Вот когда я получил эту должность официально. За десять дней до суда. Да, должность командира роты и пять лет судимости условно в придачу. Теперь после суда я должен проявить мужество и стойкость, не пасть духом и не поддаться апатии. Иначе, спрашивается, для чего меня осудили! Я возвращался назад вместе с лейтенантом Татариновым. Мы шли молча и почти всю дорогу курили. Хорошо, что нынче ранняя зима, навалило много снега, перекрыло дороги. А то драпали бы мы до сих пор. У меня не было ни протеста, ни озлобления, даже возмущения к совершенной несправедливости. Я получил неожиданный удар и ещё не осознал, что произошло, что случилось. Татаринов отвернул по тропинке в сторону, и мы разошлись по своим ротам. Когда, я спрыгнул в свою траншею, она мне показалась незнакомой и [совсем] какой-то чужой. В траншее, как прежде, сидели солдаты, чего-то жевали и дымили махоркой [%%%]. Им некогда было открыть рот для разговоров между собой. Я не стал рассказывать своим солдатам о случившемся. Суд придавил меня, придавил мою личность. Много дней я молчал и хмурился, часто вздыхал и не отвечал на вопросы. Телефонист меня звал к телефону, я подымался и уходил в другую сторону траншеи, садился где-нибудь в углу окопа и курил. Вечером меня разбудил старшина. Он чутьём понял, что у меня большие неприятности. Старшина осторожно предложил выпить. Сегодня в роту по норме выдали водку. Он налил мне два раза, я с жадностью и отвращением проглотил содержимое кружки. Выданная водка отдавала сивухой и привкусом керосина. Я вернул старшине пустую кружку, сплюнул на снег и положил в рот кусок мороженого хлеба. Его сразу не съешь, его приходится долго сосать. Тёплая жижа побежала вниз по пищеводу. Водка обожгла что-то внутри и замутилась в голове. Она помогла освободиться от гнусных и грустных мыслей. Я вздохнул и выругался с облегчением. Солдаты тоже чувствовали неладное. Они смотрели на меня со стороны и при моём появлении тут же замолкали. Я на глазах у них за один день как бы переродился. Из приветливого и отзывчивого, я превратился в замкнутого и резкого. Если раньше я старался не замечать их неряшливость и недостатки, сглаживал углы и мелкие ситуации, то теперь все эти мелочи начали меня раздражать.
– 49 – Делал я все как прежде честно и по справедливости, но перестал им прощать даже небольшие промахи.
– Отойдет! – говорили между собой солдаты. Видно начальство им шибко недовольно. Потом, после, через некоторое время они узнали о суде, но своих мнений по этому делу между собой не высказывали. Это как бы была запретная тема для разговоров [, и выноса своих суждений]. Я уходил иногда куда-нибудь в дальний окоп, расслаблялся и внутренне нагонял на себя тоску.
– Милая моя Родина! Плачет твой сын! Горечью и болью душа обливается. Все мы идущие на смерть и в небытие хотим избавить свой народ от страданий и гнета! Мы, простые солдаты своей земли, привыкшие к нищете и голоду, всё на себе терпеливо вынесем и преодолеем. А вы, добрые матери, утрите слёзы, вы, ожидающие в тревоге своё безмерное горе. К вам обращают свои мысли и надежды дети, когда они идут умирать!
Смерть это яркий и последний безумный [крик] миг, когда солдат подходит к своей черте и наступает пелена чёрного и вечного мрака!
* * *
– – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -
В траншее на Тьме. Разведка боем. Артобстрел. Убитый немец. Деревня в огне.
– – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

Прошло несколько дней, на душе отлегло, и жизнь вошла в обычный окопный ритм.
С вечера траншея оживала, в сумерках солдаты вылезали из своих нор, поднимались медленно на ноги, разгибали спины. Одни рысцой бежали в укромные места, другие, гремя котелками, спускались к реке за водой, третьи растопляли свои печурки. Потом в траншее появлялся ротный старшина со своим помощником солдатом, у которого за спиной на широких постромках висел термос. Солдат снимал термос и ставил его на дно траншеи. Солдатская мучная похлёбка билась о стенки термоса. Старшина бросал мешок с гремящими как булыжные камни буханками хлеба себе под ноги и не торопясь разливал по котелкам полутеплую похлебку, бросал на руки солдату замерзшую буханку хлеба [на троих], сыпал в подставленные пригоршни щепотью махорку, раскладывал на кучки колотый сахар и кивал головой. Мол, бери любую, разумеется на пятерых.
Котелок баланды на двоих, буханка хлеба на троих, щепоть махорки на одного, а кучка сахара на пятерых, такая у него была принята раскладка.
Пока старшина занимался раскладкой и раздачей еды, два солдата из роты отправлялись к повозке, которая стояла где-то [в тылу] в кустах. Они приносили бидон с горячей водой. Пейте мол чай! Бидон для сохранения тепла был обмотан двумя солдатскими шинелями и был похож на человеческий обрубок без рук, без ног и без головы. И когда старшина молча кивал головой в сторону бидона, это могло быть истолковано: попей чайку, а то завтра останется вот так без рук, без ног!
Во время раздачи пищи по траншее ни протиснуться, ни пройти. Солдаты с котелками снуют и толкаются боками. Потом, как-то сразу траншея вдруг пустеет.
После раздачи пищи я зову ординарца, и мы с ним обходим ячейки, посты и траншею. С тех пор, когда я выбрал себе в ординарцы молодого паренька, между нами установилось понимание и даже некоторая дружба. Он знал свои обязанности и старался всё сделать хорошо. У меня были свои дела, но мы были почти всегда вместе.
Ходить по переднему краю в одиночку было опасно. Брать с собой из роты случайного солдата не всегда удобно. Этот только что пришел после смены с поста, тому через час выходить, у этого прожжёные валенки и мокрые ноги, этот ещё не ел, а у того болит спина или ноет в груди. – 2 -
– Ну ладно, – говорю я сержанту, – дай мне одного из этих двух. У них, товарищ лейтенант, на почве солдатской кормежки куриная слепота. Вот и выходит, чтобы ходить по передовой, нужно иметь постоянного человека. С ним в любую минуту можно подняться и куда хочешь пойти. Ординарец всегда был рядом, спал, ел, вместе со мною и курил, за исключением тех случаев, когда я посылал его с поручением или отпускал поболтать с солдатами. К своим дружкам он охотно убегал. Посидит, поговорит, отведет душу и быстро обратно. Прибежит, сядет и начинает рассказывать, как живут его дружки, о чём говорят и что думают о войне, о немцах. У ординарца была одна серьезная забота, не упустить время, выспаться и быть готовым в любую минуту сопровождать меня. Бывали и у нас с ним свободные минуты для разговоров и перекура. Привалившись на снег, мы курили, говорили о жизни, о немцах, о погоде, и о войне. Он говорил мне о своих дружках ребятах, как они относятся ко вшам, к окопам, и к голоду, [и войне]. Спрашивал меня о жизни и о немцах, он ещё их не видел ни в живом, ни в мертвом виде. Однажды он прибежал от ребят особенно взволнованный, плюхнулся в снег, отдышался, и говорит:
– В одну из рот на передовую заслали переодетого в советскую форму немецкого шпиона. Он говорит по-русски как мы, не отличишь! У него для пароля две немецкие опасные бритвы имеются. Солдаты толкуют, что в ротах будет обыск. Найдут бритву, в штаб полка для опознания отправят. Я вспомнил такой разговор в полку, он был недели две назад.
– Откуда они это узнали?
– Телефонисты передали. Они слышали такой разговор со штабом полка.
– А старики что говорят?
– А старики наоборот, [говорят]. Это говорят полковые специально распустили слух, они хотят у солдатиков раздобыть немецкие бритвы для своего еврея Ёси парикмахера. Ёся сказал им чтоб "Золинген" достали. Одни говорят, что нужен "Золинген", а другие говорят что "Зингер". Их не поймёшь!
– А что говорит старшина?
– Старшина говорит, зачем среди солдат ерунду распускать, когда даже самый дурак и несмышленый понимает, что это полковая шутка. Но в полку шутить и не собирались. На следующий день меня вызвали туда и потребовали, чтобы я сделал обыск своим солдатам.
– Выводите роту из траншеи к себе, делайте обыск, трясите мешки и солдатские карманы сами. Я этого делать не буду. Можете снимать меня с роты! В полку были недовольны моим настырным, как они сказали, ответом. Мне пригрозили. Я вернулся в роту назад. О бритвах больше не говорили.
– 3 – На следующий день в субботу меня вызвали в батальон, там находились люди из полка. Мне была поставлена задача в воскресенье 23-го ноября перед рассветом провести разведку боем переднего края противника. Я должен с ротой переправиться через Тьму и, развернувшись цепью, пойти на деревню. По данным полковой разведки в деревне находиться небольшой гарнизон. Для усиления роты, мне придается взвод минометчиков младшего лейтенанта Ахрименко.
– Ахрименко с ротой в атаку не пойдет, он займет свою позицию, когда рота возьмет деревню.
– Сколько минометных батарей во взводе? – спросил я Ахрименко, который находился тут же.
– Каких батарей? – переспросил он.
– Минометных, каких ещё!
– У меня во взводе всего один миномет.
– И десяток мин, – подсказал я.
– И это называется огневая поддержка артиллерии?
– Идите лейтенант готовьте свою роту! И лишнего старайтесь не говорить. Вечером в роту ко мне пришел Ахрименко, я вызвал Черняева и старшину Сенина, и мы вчетвером отправились на новый участок, там, где предполагалось провести наступление. Мы вышли на берег Тьмы, перед нами высоко над обрывом была видна деревня Тишакова [которую нам нужно было брать с рассветом], которую нам предстояло взять на рассвете. Рассматривая дома, сараи и крыши, я хотел по внешнему виду деревни определить, где у немцев проходит траншея, где стоят пулеметы, где находиться расчищенный участок зимней дороги и какие дома занимают сами немцы. Предварительных данных нам штаб не сообщил. У роты, которая стояла здесь и от полковых разведчиков я тоже ничего не узнал, чему был крайне удивлён, потому что [они ничего не знали] в боевом приказе должны быть даны сведения о противнике.
– Как же так, – спросил я представителей батальона и полка, отдаете боевой приказ на наступление, и о противнике ничего не знаете. Представитель полка мне ответил:
– Комбат в батальоне человек новый. Нечего из себя шибко грамотного строить!
– Тебе приказали брать деревню, пойдешь в атаку и вскроешь огневую систему! Во время атаки всё станет ясно!
– А обозначу её трупами, так что ль? – [сказал резко я] подсказал я ему. На карте [начальника штаба] полкового представителя эта деревня была обозначена черной узкой полоской, расположенной вдоль дороги, идущей к лесу, и я даже названия ее не успел до конца прочитать. Он сложил карту пополам, на ней был нанесен весь рубеж обороны. Я понял так, что я иду на немцев и мне не положено знать расположение стрелковых рот и огневую систему полка. Мало ли что, – я могу попасть в плен к немцам.
– 4 – Мы стояли в кустах на берегу реки и смотрели на утопавшие в снегу бревенчатые избы [стены]. Ясно, что это были не фасады домов, а тыльная сторона сараев, хлевов и амбаров. Лицевая сторона домов с окнами и наличниками была повернута в сторону леса, [там] за домами проходила дорога, по которой немцы сообщались с деревней. Я беру у Ахрименко его старенький бинокль и навожу на деревню. Передо мной в окулярах заснеженные крыши домов, печные кирпичные трубы и низенькие сараи у самого обрыва.
– Сколько тебе дали мин на предварительную пристрелку деревни? – спрашиваю я его, не отрывая глаз от бинокля.
– Десяток мин на обстрел! [не пожалею!]
– А всего?
– У тебя на пристрелку уйдет не меньше десятка!
– Вон крайний дом и крыша покрытая снегом!
– Ставь миномет, пускай мину, а я посмотрю, где будет разрыв.
– Ты с десятка пристрелочных мин по этой крыше не попадешь!
– По крыше я не попаду!
– А по немецкой траншее ты попадешь!
– Ты ставь миномет и начинай обстрел крайнего дома. Возьмем деревню, посмотрим, куда ударили твои мины!
– Ставь миномет и начинай обстрел крайнего дома, это мой приказ, а ты как поддерживающее средство теперь подчинен мне! Я смотрел в бинокль на открытую снежную равнину и на высокий обрыв, круто спускавшийся в конце её. Там над обрывом немцы, дома и постройки. Левее нас от нашего края [противоположного] берега к самой деревне поднималась лесистая гряда. Заснеженный лес поднимался на самый бугор и доходил до крайних домов почти вплотную. Вот где можно совершенно незаметно войти в деревню! И когда я с представителем полка вышел на рекогносцировку местности, мне указали, когда я заикнулся на счет этой гряды,
– Березин приказал деревню брать развернутой цепью по открытой низине!
– Ты поведешь роту по открытой местности, так, чтобы тебя с НП батальона [полка] было видать!
– Ротой в лес заходить запрещаем!
– Странно! – сказал я.
– Что тут странного? Дивизия приказала – ты должен исполнять!
– Почему я должен пускать людей как живые мишени под немецкие пули? Почему нужно солдат подставлять под явный расстрел?
– Когда по любому уставу я должен использовать скрытые подходы к противнику! – не успокаивался я.
– Не выполнишь приказ, пойдешь под суд трибунала! Представитель полка собрался [полковое начальство собралось] уходить, а я никак не мог успокоиться.
– 5 – Почему они приказали не заходить мне с ротой в лес? Ведь это дураку понятно, что лесом можно подойти к деревне буквально на пять шагов, а потом навалиться всей ротой. Что-то тут не так! Лес не заминирован? Чего они темнят?
"Тебе приказано вести разведку боем!" – вспомнил я слова представителя полка.
"Мы будем о ходе твоего продвижения докладывать в дивизию по телефону!" "Березин хочет лично знать каждый твой шаг!" Может они бояться, что зайдя в лес, я уведу роту к немцам? Вот идиоты! Им не важно, сколько погибнет на открытом поле солдат! На то и война, чтоб солдат убивали! Главное, чтоб полковое командование видело, как встанет и пойдет под пули солдатская цепь. Говорят какой-то Карамушко полк принял. Комбат у нас тоже был новый, всего [три-четыре дня] несколько дней. Поэтому полковые и занимались со мной. Теперь им нужно видеть, как будут убивать нашего брата! Они ещё ни разу не видели, как падают и умирают на поле боя солдаты.
– Ну и дела! Ночью роту приказано было снять из траншеи и вывести на берег Тьмы. В кустах солдатам раздали водку и налили хлебово в котелки, до наступления оставалось ещё около часа. После еды и питья чая, я рассредоточил солдат, [вдоль берега], они легли в рыхлый снег у самого русла реки. Положив солдат, я пошел вдоль берега, туда, где к реке подходила лесистая гряда. Здесь через речку остались стоять старые кладки. Узкий переход в два бревна с поручнем из жердей с одной стороны. Здесь спокойно гуськом можно перейти на другой берег незаметно для немцев, и пока темнота прикрывает нас, занять на том берегу исходное положение. Но одно дело рассуждать, а другое дело повести роту на кладки! Я вернулся назад, ещё раз обошел своих солдат, напомнил им сигнал начала атаки и стал ждать рассвета. Когда перед рассветом комбат из своего укрытия пустил в нашу сторону красную ракету, рота поднялась и пошла во весь рост. Спустившись на лед, многие попали в подснежную воду. Их быстро вытащили назад и велели перематывать портянки. Казалось, что атака заткнулась. Я подал команду первому взводу двигаться к мосткам, за ним потянулись остальные. Речка небольшая, а имела довольно сильное течение. Несколько человек влезли в снежную воду по пояс. Мостки были несколько ниже уступа [того] крутого снежного берега. Немцы не могли видеть нас. И вот мостки позади. Мы молча поднялись на край снежного поля и рассыпались цепью. На какое-то мгновение солдаты замерли, ожидая встречных выстрелов. Но видя, что немец не стреляет, тронулись с места, и медленно пошли вперед.
– 6 – Мы оторвались от берега, вышли на середину низины, мне казалось, что именно ь этот момент немец откроет огонь изо всех видов оружия. Цепь находилась внизу, как на ладони. Немец сидел наверху, превосходство у него было исключительное. Но кругом было тихо, ни звука, ни выстрела! Серые фигуры солдат, увязая в снегу, подвигались к обрыву. Может, нас хотят подпустить под обрыв и разделаться там, когда нам деваться будет некуда! Ударят сверху из пулеметов и все завязнут по пояс в снегу! Когда рота подошла к обрыву и поднялась на бугор, когда дома, огороды, сараи оказались рядом, стало очевидным, что немец оставил деревню без выстрела и из деревни бежал. Разведки боем не получилось! Деревня небольшая, всего десяток домов. Расположены они по одной стороне дороги и окнами повернуты к лесу. На правом конце деревни дорога под прямым углом поворачивает к лесу и бежит по снежному полю. В том месте, где дорога подходила к лесу, повидимому остался немецкий заслон. Оттуда стали постреливать из винтовок в нашу сторону [по деревне]. Солдаты сначала с осторожностью перебегали между домами, потом осмелели и стали ходить по деревне в открытую, немцы прекратили всякую стрельбу. Два взвода расположились вдоль деревни в одну линию, разделив, так сказать, деревню пополам между собой. Еще не рассвело, а в избах уже затопили печи, варили картошку в больших черных чугунах. Возьмешь пару штук [из такого чугуна] спустись шкуру, а картошка отдает кислым запахом. Свет и огонь был I виден через открытые двери и окна снаружи. Я пошел на свет и увидел в открытую дверь горящую русскую печь. Солдаты сушили около неё портянки и одежду. Некоторые толкались у горящей печки в подштанниках, другие сушили валенки и шлепали по полу босиком. Я вошел в избу и огляделся.
– Вы хоть бы окна завесили и дверь прикрыли, – сказал я солдатам.
– А то у вас и дверь нараспашку!
– Чего тут бояться товарищ лейтенант? – услышал я в ответ.
Гляди, – подумал я, – как осмелели! И в этот момент в открытую дверь влетел раскалённый до красна немецкий зажигательный снаряд и ударил в стену. Немцы стреляли с опушки леса, с того самого места, куда уходила очищенная от снега дорога. Я оглянулся назад, взглянул в открытую дверь, и увидел второй зажигательный снаряд, летящий в нашем направлении.
– Ложись! – только успел я крикнуть на ходу и метнулся за угол печки. По свету в дверях и в окнах били прямой наводкой из тридцатисемимиллиметровой пушки.
– 7- Солдаты попадали на пол, расползлись на животах по углам. Я стоял за углом печки и ждал, что будет дальше. В это время ещё два розовых снаряда пролетели сквозь стены. Ствол немецкой пушки после каждого выстрела уводило вправо, снаряды пролетели дальше от печи. Они пролетели в полметрах от меня и, врезавшись в бревенчатую стену, ушли напролёт. Два красных снаряда случайно ни кого не задели. Но все храбрецы теперь лежали брюхом на полу, прижав даже физиономии к грязным и мокрым доскам пола. Некоторые, которые были обуты и в штанах, не отрывая живота от пола, выползли на улицу через открытую дверь. Картошка в чугуне булькала и кипела. Белая пена сползавшая к огню яростно шипела. А стряпухи голоштанные позабыв про чугун, [портянки и штаны,] припав к доскам пола, лежали прижавшись рыбкой. От портянок и мокрых ватников шел вонючий пар. Прошло несколько минут. Снаряды больше не летели. Я вышел из-за угла печки и велел залить в печке огонь.
– Идите сушиться в другую избу! Не забудьте о маскировке, теперь вы научены! Я вышел на улицу и пошел вдоль домов. Пока я собирался отдать распоряжение, чтобы к рассвету везде в избах погасили в печах огонь, откуда- то появились ведра, разыскали колодец и веревку, из окон и дверей домов повалил едкий дым и пар. Что там на скамье, на полу невозможно было сидеть! Солдаты намотали на ноги портянки, надели досушенные валенки, и на четвереньках, как маленькие дети, выползали наружу из задымленных изб. Связисты в это время дотянули до деревни телефонный провод, подключили аппарат, и я доложил в батальон, что деревня полностью в наших руках.
– Позови мне командиров взводов! – сказал я ординарцу. Через некоторое время все трое пришли.
– В тех домах, где ваши солдаты варят картошку, окна и двери должны быть завешены или закрыты соломой. Печи топить разрешается только в ночное время. Днем дым из труб видно издалека.
– Стряпней и варкой должны заниматься не более двух человек от взвода. Остальным делать у печки нечего. Всех свободных от постов и [после] смены [на отдыхе] приказываю поставить на рытьё траншеи.
– Взвод Черняева обороняет правую часть деревни по колодец включительно. Старшина Сенин занимает оборону влево, от колодца до леса. Минометный взвод Ахрименко оборудует огневую в створе дороги на участке Черняева, ближе к обрыву. Раненых будете выносить к обрыву, дальше их [выносить будут] подберут санитары [батальонного] санвзвода. Сигналы боевой тревоги подавать голосом. Моё место в расположении %%% взвода Сенина, немецкий окоп у второй избы.
– 8- Связь между взводами и мною будете подчеркивать связными. Сведений о противнике мы не имеем. Знаем, что на стыке дороги и леса стоит [у него] тридцатисемимиллиметровая пушка. Перед нами открытое снежное поле. По глубокому снегу через поле немцы на деревню не пойдут. Если они и сделают [вылазку и] попытку подойти к деревне, то пойдут по дороге на участке обороны Черняева. На участке Сенина, мне кажется, противника нет. Я просмотрел внимательно, опушка леса совершенно пустая. Но не будем самонадеянными, ко всему нужно быть готовым в любую минуту. От немцев можно всего ждать! Ручной пулемет Сенин поставит на свой правый фланг, с таким расчетом, чтобы в случае немецкой атаки поддержать огнем пулемета взвод Черняева [если немец пойдет по дороге]. Быть готовым к стрельбе в любую минуту! Объявляю дистанции огня: У Сенина планки прицела установить на дистанцию четыреста метров. У Черняева – соответственно на триста. Объявите своим солдатам и лично у каждого проверьте установку прицельных планок на винтовках и пулемете. Сектора обстрела вам указаны, Приказываю в течение трёх дней за дорогой в поле отрыть окопы в полный профиль. Каждый окоп на двоих. Деревенские избы оборудовать будем после. Сначала окопы, а потом в стенах пробьем амбразуры и [оборудуем] бойницы.
– Кому, что не ясно?
– Вопросов нет?
– Идите по местам и преступайте к работе!
– Я буду находиться во взводе у Сенина. Предупреждаю, окопы должны быть готовы через три дня! Черняев ушел, а я остался во взводе у Сенина. Я рассчитал так: Черняев офицер, будет находиться в одном взводе, я тоже офицер, буду присматривать за старшиной и его солдатами. %%% Наметили линию окоп, послали за топорами и лопатами. Остаток дня прошел без стрельбы и без особых хлопот. Я залез на крышу с задней стороны и стал рассматривать позиции немцев расположенные на опушке леса. Я смотрел на опушку и думал, как лучше организовать свою систему обороны, но сколько ни думал, ни перебирал в голове, на ум ничего не пришло.
Опыта нет! – ответил я сам себе. Главное наверно, [это] надо успеть окопаться! Встал солдат в оборону на один день, тут же заройся в землю! Я вглядывался в опушку леса, хотел увидеть хоть малейшее движение немцев, но сколько ни [вглядывался и ни] смотрел, не заметил ни малейшего признака их присутствия.
– Сходи к Ахрименко и принеси мне бинокль, – сказал я ординарцу и он нырнул в прогалок между домов.
– 9 – Часа два, не меньше, следил я в бинокль за опушкой леса, так ничего не увидел и не обнаружил там. В училище нас учили, что при занятии населенных пунктов, мы должны в домах и постройках оборудовать стрелковые бойницы и в стенах прорезать амбразуры для пулеметов. Но я, сидя на крыше, подумал, что немцы могут термитными снарядами поджечь дома [и сараи], куда тогда деваться солдатам. Вот почему я решил начать рытьё окопов за дорогой, подальше от построек и домов. Узнав о моем решении, солдаты Сенина высказали своё неудовольствие. Долбить мерзлую землю никто не хотел. От удара топором от мёрзлой земли летели мелкие брызги и сыпались искры.
– Солдаты Черняева залезли в дома! – ворчали они.
– А нас выгнали в снег по колено!
– Солдаты Черняева будут сидеть в домах и тепле!
– А тут хоть окоченей на ветру!
Старшина Сенин тоже выразил своё неудовольствие.
– Ты что- то недоволен старшина? Или мне это показалось?
– Солдаты твои вроде озлоблены!
– Тут рядом пустые дома. А вы нас выгнали на мороз и на ветер! – басил старшина мне в ответ.
– Ты, видно, пытается отговорить меня от рытья окопов?
– Когда окопы твои будут готовы, разрешу пробить бойницы в сараях и домах! Старшина Сенин стоял у крыльца и мялся [в снегу], а я с биноклем лежал на крыше и сверху смотрел на него.
– Я видел как тогда от трех снарядов, которыми немцы прошили навылет избу, твои умники ползали животами по грязному полу.
– Им тогда хоть из пистолета над ухом пали, они с перепуга не подняли бы голову.
– Ты вот что старшина! Хватит отлынивать! Выполняй боевой приказ и кончай разговоры!
Я посмотрел через гребень крыши, солдаты Сенина лениво и нехотя рубили мерзлую землю.
Посмотрим! – подумал я и решил про себя, – эти пусть останутся в поле, а Черняев со своими в домах. Кому достанется от немцев?
Просмотрев ещё раз опушку леса, я спустился с крыши и пошел во взвод к Черняеву посмотреть, что он там делает. Амбразуры в бревенчатых стенах имели внушительный вид. В одной избе солдаты даже вскрыли полы, использовали погребные ямы, как укрытия от обстрела. Солдаты Черняева были довольны, поглядывая наружу из темноты амбразур.
– 10 – Доказать никому ничего нельзя. Пока немец не стреляет, все умные, уверенные в себе и находчивые. Подошел Черняев и как обычно помялся.
– Почему окопы не роют? – спросил я его,
– Закончим амбразуры и начнем рыть окопы, – ответил он и замолчал. Я взглянул на него и спросил: И когда ты к рытью окопов собираешься приступить?
– Думаю, что завтра [обернусь] к вечеру!
– Ты не выполнил мой приказ. Я кажется оказал тебе ясно и точно. Сначала окопы, а потом бойницы и амбразуры в домах. Ты делаешь всё наоборот. Мне не нравиться твоё самоволие и упрямство, [Ты делаешь всё наоборот] а опыта у тебя нет, солдаты твои не обстреляны.
– Завтра, так завтра! Завтра приду и проверю! – сказал я и позвал ординарца. Через некоторое время мы вернулись во взвод Сенина. Солдаты долбили землю и искоса посматривали на меня. Не знаю, что собственно, меня подхлестнуло, их молчаливый укор или упорство Черняева. Я подозвал старшину и сказал ему:
– Ты однажды с позиции самовольно увел солдат и оставил меня в окопе с Захаркиным [спать под одеялом]. Меня таскали и допрашивали как дезертира. Может ты и в этот раз собираешься подвести меня под монастырь?
– Я приказал тебе за три дня отрыть за дорогой окопы. В срок не уложишься, возьмешь пару гранат и пойдешь подрывать немецкую пушку! В этом будет больше смысла, чем отдавать тебя под суд.
– Думаю, что дело до гранат не дойдет! Окопы будут готовы!
– Мне надоело уговаривать тебя и твоих солдат. Вашим нытьём я сыт по горло! Кто из солдат закончит свою работу раньше, тот будет спать в натопленной избе! А те, кто тянет резину, останутся на все время в окопах и в избу не попадут. Так и передай им моё твёрдое слово [последнее решение]! Морозная ночь прошла спокойно. Немцы не стреляли, и только стук топоров и лопат нарушал тишину. Слышались удары вразнобой, как будто с горы падали камни. Снег поскрипывал под ногами. Я не спал и всю ночь ходил, смотрел как работают солдаты. Я не подгонял их и ничего им не говорил. Важно было, что они взялись за работу [и мои слова были бы теперь ни к чему]. Солдаты ушлый народ. Только приляг засни, тут же найдется один, начнет рассуждать и собьёт всех с работы. Утром, когда рассвело, я решил пойти и осмотреть в деревни задворки. Вдоль обрыва откуда мы наступали, была тыльная сторона деревни. Здесь стояли сараи, клетушки и амбары. Мы проскочили всё это мимо, когда [бежали] наступали на деревню.
Нужно осмотреть наши ближайшие тылы – решил я. Мало ли, что может [произойти] случиться.
– 11 – Я прошел между домами, подошел к обрыву, посмотрел в сторону реки, где когда- то проходила линия нашей обороны. Вот так, наверное, стояли здесь и немцы, рассматривая наши позиции. Отсюда с высокого обрыва весь наш передний край как на ладони лежит. Хорошо просматривается вся траншея, темная полоса кустов и бровка сосен по ту сторону реки. Подкати [сюда] на край обрыва орудие, наводи по стволу и бей вдоль всей траншеи. Я обернулся несколько назад и посмотрел на сарай, что был правее. Там проходил немецкий ход сообщения. Он шел из-под стены сарая и, не доходя до края обрыва, заканчивался стрелковым окопом.
– Смотри, как хитро придумали, – сказал я ординарцу, показывая на пустой сарай и ход сообщения, который шел из-под его стены. Ход сообщения был отрыт без отвала [на бруствер] земли. Ходы сообщения обычно роют, выбрасывая землю на одну или две стороны. А здесь землю, повидимому, выносили в мешках и ссыпали в сарай. И действительно, когда мы зашли за сарай, то увидели внутри через открытые ворота высокий бугор земли, занесенный снегом.
– А что- то там зеленеет на краю стрелкового окопа?
– Вроде убитый немец, товарищ лейтенант! Мы выходим из-за угла сарая и видим перед собой убитого немца. Немец полулежит в окопе, откинувшись спиной на его гладкий край. Вот когда немца можно [было] рассмотреть [подробно] вблизи. Видно даже рельефный узор на пуговицах. На немце [была надета] голубовато-зеленоватая шинель и френч с черный отложным воротником %%%%%. На ногах кожаные кованые сапоги с короткими и широкими голенищами. Тело немца застыло, он полулежал в неестественной позе. Серые глаза у него были открыты и устремлены куда-то в пространство. В глазах ни страха, ни смертельной тоски, а даже [наоборот внутреннее] достоинство, и желанный покой. Волосы у немца светлые, цвета прелой соломы, лицо чисто выбритое, сытое и спокойное, на щеках сохранился легкий румянец. Вот только губы припухли и посинели от ветра и холода. Тронь его рукой, встряхни, и за рукав, и он вздохнет глубоко, тряхнет головой, сбросит о себя задумчивость и сонное оцепенение, заморгает глазами, залопочет [быстро] по-своему, и поднимет руки вверх. Немец широк в плечах, и ростом выше меня, прикинул я, мысленно сравнивая его и свою фигуру. В нем не меньше девяносто килограмм. На голове у него пилотка, он отвернул её и натянул [глубоко] на уши. Голубовато-зеленая тонкого сукна шинель опоясана широким, из натуральной кожи, ремнем с бело-черной квадратной бляхой. В центре бляхи рельефный круг с фашистской свастикой и с надписью по кругу – "Гот мит унс!" /Бог с нами!/ На поясном ремне давленый кожаный подсумок, он расстегнут и
– 12- в нем видны немецкие латунные патроны с проточенной канавкой вместо шляпки [как у нас]. У нас железные и шляпкой наружу, покрытые слоем цинка, а у них блестящие. Латунь не ржавеет [на сырости]. Винтовка его валяется на дне окопа около ног. В последний момент руки ослабли и он её выронил. Мы оглядели его кругом. Входного отверстия от пули нигде не было видно. Никаких следов и пятен застывшей крови снаружи. Такое впечатление, что он пулю свою [просто] ртом проглотил.
– Посмотри в кармане! Документы какие есть при нем? – сказал я ординарцу.
Ординарец наклонился и неохотно засунул руку немцу за пазуху. В нагрудном кармане френча он нащупал их. Вынул из кармана целую пачку разных книжиц, бумаг и фотографий. Здесь была солдатская книжка, какие- то бумаги и квитанции и целая пачка семейных фотографий. На одной фотографии изображен небольшой двухэтажный дом. Повидимому здесь до войны жил убитый немец. А на этой – его фрау [с прилизанным прибором] и трехлетний сынок, приглаженный прибор на голове, рядом с мутер стоит худощавая дочка.
– Да! – сказал я вслух. Ординарец посмотрел на фотографию и почему-то глубоко вздохнул.
– Привали его на край окопа, так чтобы он оперся локтем. Сделаем вид, будто он живой стоит. Положи винтовку перед ним. Кто из тыловых или полковых сюда пойдет, наткнется на немца, подумает что он целится в них. С перепугу наложат в штаны! Пусть немец здесь для хохмы торчит! Со страха доложат в дивизию, что деревню забрали немцы, а рота попала в плен. А то наши солдатики что- то приуныли! Хоть [посмеются над ними] посмеяться будет над чем от души!
– Сколько прошел этот фриц по нашей земле? Разве он думал, что здесь, в этом окопе найдет свою смерть [и могилу]. Разве он знал, что вот так будет торчать до весны, как огородное пугало? Здесь его и сам фюрер никогда не найдет! Дождется немец солнышка, рухнет в окоп и сольётся с талой землей. Куда он отсюда денется? А окоп он рыл с любовью и немецкой аккуратностью, не как наши, все кругом подчищено и убрано под метлу. Фрау унд киндер ждут его домой. А он как верный страж своего окопа прилёг на ровный край и целится. Вот наложат наши батальонные или полковые, когда сунутся сюда! Мы вернулись в деревню, прихватив с собой фотографии и документы убитого. Через некоторое время меня вызвали к телефону. Звонил комбат. Я доложил ему, что долблю окопы и прорезаю в стенах амбразуры.
– Вы не можете прислать нам пустых мешков? – спросил я его.
– Не плохо было бы положить мешки с песком или с землёй вокруг каждой бойницы.
– 13-
– Ты что, не соображаешь?
– Обращаться за помощью [в батальон и в полк] не приучайся!
– Соображай сам и используй подручные средства! На этом разговор с батальонным был закончен. Я пошел к Ахрименко проверить его готовность. Мне нужно было убедиться как он пристрелял дорогу и опушку леса.
– Дай команду своему расчёту, пусть пустят две мины по дороге по самому краю опушки леса! Хочу посмотреть, как точно умеют стрелять твои орёлики. Ахрименко подал команду, минометный расчет быстро занял свои места, и два резких хлопка последовали друг за другом. Ахрименко смотрел в бинокль, а я наблюдал невооруженным глазом. Дистанция небольшая, но взрывов нигде не было видно.
– По-моему, у вас дистанция велика! Мины рвутся далеко в лесу! На опушке взрывов не видно! – сказал я Ахрименке.
– Я просил ударить по дороге, а вы бьете далеко в глубину!
– Разрывы можно не увидеть! – ответил мне Ахрименко.
– Заряд небольшой, мины осколочные!
– Дымовых, пристрелочных у нас нет!
– Знаешь что Ахрименко! Я сегодня ходил по деревне, облазил все закоулки и задворки и воронок от твоих мин нигде не нашел. А как помнится мне, ты выпустил перед нашим наступлением с того берега десяток [десятка полтора-два] по деревне! Может они у тебя не взрываются?
– Ну ладно! Для проверки ударь по дороге, дистанция двести метров!
– Это я могу, пожалуйста! – ответил он и решительно подошел сам к миномету. На этот раз он сам сел за буссоль навел миномёт. Долго возился с прицелом, потом протянул руку в сторону. Солдат подал ему мину. Ахрименко сунул её в ствол, отпрянул в сторону, зажал ладонями уши. Через некоторое время на дороге брызнула мерзлая земля и взметнулся снежный фонтан.
– Вот теперь вижу! – сказал я и посмотрел на солдат расчета.
– Придется тебе самому наводить, если немцы пойдут.
– [Ну ладно,] Пошли, – сказал я ординарцу. Возвращаемся назад и по дороге заходим к Черняеву. Смотрю в поле, ни одного солдата. Окопы в снегу не роют.
– В чём дело? – спрашиваю я Черняева. Он молчит.
– Куда ты со своими солдатами денешься, если завтра на деревню налетит немецкая авиация? Я был под бомбежкой! Могу тебе сказать! Вас в этих избах завалит сверху брёвнами и побьет кирпичом от печек!
– На Селигере, у нас в укрепрайоне бетонные точки были, их для маскировки одевали сверху бревенчатыми срубами и крышами. Но там люди сидели в бетонных укрытиях, а у тебя над головой досчатый потолок и крыша из дранки.
– 14-
– Твоим солдатам бревнами головы разобьёт [по голове попадет]! Твои солдаты, между прочим, сидят за стенами, и от пуль не укрыты. А если пустить прямой наводкой снаряд? Он не только брёвна и стены, он навылет кирпичную печь прошибет! [С лица до изнанки!]
– Что ты Черняев думаешь, когда попадешь в оборот?
– Солдаты Сенина завидуют тебе. А чему завидовать, Я не вижу!
– Я приказал тебе отрыть окопы за дорогой в снегу. Ты мой приказ не выполнил и почему-то упорствуешь. Ты отвечаешь за своих солдат, а не они за тебя в ответе. Подведут они тебя под монастырь, попомни мои слова!
– Будем рыть! – прохрипел Черняев. Он видно ел снег, когда хотел пить. В деревне колодец. Лень послать солдата. А снегом не напьёшься! – подумал я.
– Топоры возьмешь у Сенина! Время не тяни! Сегодня с вечера выставишь солдат на работу! Я позвал ординарцами сидел на крыльце и болтал с солдатами. Я посмотрел на Черняева. Не знаю, он что-нибудь понял, или до него мой взгляд не дошёл. Мы пошли вдоль деревни, на левый фланг, [где сидели солдаты] к Сенину. С левой стороны дороги в одну линию, в снегу стоят темные приземистые избы. Они ушли по самые окна в снег. Повсюду около стен намело большие сугробы. Окна выбиты, двери раскрыты. Двери иногда под ветром скрипят на ржавых петлях [крюках]. Деревня стоит по одну сторону дороги. С другой стороны открытое снежное поле и вдалеке, на его краю, темнеющий лес. Идём по дороге не торопясь. На нас надеты белые маскхалаты. Наверно нас видно на фоне тёмных бревенчатых стен – думаю я.
– Знаешь что! – говорю я ординарцу.
– Давай-ка снимем рубахи. А то мы с тобой целый день здесь мотаемся на виду у немцев. Подкараулят они нас! Стукнут из снайперской винтовки! Я останавливаюсь, снимаю с себя рубаху маскхалата и отдаю её ординарцу.
– На положи к себе в мешок! Ординарец тоже до половины раздевается. Старшина Сенин издалека замечает нас. Он что- то говорит своим солдатам, и те зашевелились в окопах. Да! Стоило один раз по делу прикрикнуть на старшину, и старая дружба сразу дала трещину. Но что сделаешь? Война во всё вносит свои поправки! К вечеру потемнело. Подул резкий ветер. Снежная пыль зашуршала под ногами. Застонали пустые разбитые окна в избах. На ночь я решил
– 15- пойти в избу лечь и отдохнуть. Считай уже третьи сутки на ногах, нужно лечь и как следует выспаться. Окопы у Сенина [были] почти готовы. Черняев забрал топоры и приступил к работе. Я предупредил старшину, и мы с ординарцем пошли в избу, отведенную комсоставу. Там сидели связисты, они круглосуточно посменно дежурили у телефона. На полу была набросана солома, мы легли и тут же заснули. Утром, с рассветом в деревню прилетел первый снаряд. Немцы стреляли откуда-то из-за леса. За ночь все свежие выбросы земли перед окопами замело и запорошило чистым снегом, так что они растворились в белом пространстве. Второй немецкий снаряд прошуршал и ударил под крышу соседнего дома, ещё один рванул за обрывом, перелетев дома [и сараи]. Потом зафыркали ещё два, они грохнули с недолётом на дороге. На дороге перед взводом Черняева поднялся столб снега и черного дыма. За двумя [этими, прогудев] прилетело ещё несколько [штук], они метнулись к домам Черняева, где были вырублены амбразуры. Мы с ординарцем быстро поднялись на ноги и перебежали в окопы к солдатам Сенина. Солдаты в окопах как-то вдруг сгорбились, втянули шеи, навострили уши [и присели поглубже] и смотрели что будет.
– Пристреливают! Товарищ лейтенант!
– Я обернулся на голос, и увидел в соседнем окопе старшину Сенина.
– Ты всех убрал из домов? – спросил я.
– Пошли двух солдат, пусть ещё раз проверят! И вели всем немедленно в окопы! Телефонистам скажи, чтоб забрали свой телефон и бежали сюда [поскорее]!
– Учти! Через две [три] минуты будет поздно! Немцы откроют беглый огонь. Откуда у меня появилась такая уверенность? Я впервые видел, как рвутся снаряды.
– Ну, Черняев!- подумал я. Достанется сегодня тебе и твоим солдатам! Влепит он вам по амбразурам! Когда после очередной пристрелочной пары немцы пустили залп беглым огнем, то с одной и изб сорвало крышу и щепа разлетелась, как куриные перья, кругом. Вот когда всем солдатам стало ясно, что такое в снежном поле [за дорогой] окоп. Немец разнесет всю деревню, не оставит бревна на бревне, сотрет всё с поверхности земли. Немецким наблюдателям видны темные силуэты изб на снегу. Амбразуры они пересчитали в стереотрубу. Пристреляли улицу по самому краю домов. А вот после небольшой паузы послышался отдалённый нарастающий гул летящих на нас снарядов.
– 16 – Затем мы услышали их затихающий звук [шуршание снарядов]. Над деревней вскинулось пламя, последовали мощные удары, и деревню заволокло дымом. Стенки окопов дрогнули и зашатались. Удары снарядов отозвались у нас внутри. От домов полетели брёвна и доски. Дома как бы на миг подпрыгнули от земли, повисли в воздухе, и с грохотом осели вниз. Взметнулись обрывки щепы, стропила крыш, обрывки, куски и кирпичи. Немцы били по домам тяжелыми фугасными снарядами. Бревенчатые коробки домов перекосились и стали рушиться. Я вспомнил бомбежку на Волге. Тогда нам взрывы показались силой сверх человеческого предела. То, что творилось сейчас, бомбежка была просто детской забавой. Возможно, что самое страшное быстро забывается, и человек каждый раз [преодолевает] переживает всё заново [и переживает всё иначе и по-другому]. Небольшой обстрел уже не вызывает у нас мандраж [дрожи %%% и на зубах]. Залпы немецких батарей следовали один за другим. Над деревней повисло черное облако дыма. Металась и дрожала земля. Уходил из-под ног мерзлый окоп. Мы вместе с окопом подпрыгивали при очередном недалёком ударе. В какой-то момент наступила короткая пауза. Я поднялся на ноги и осмотрелся кругом. Я хотел взглянуть туда, где сидели солдаты Черняева. Два дома, которые он занимал, горели. Яркое пламя охватило их с крыш. Искры и черный дым ветром сносило в нашу сторону. Если Черняев с солдатами сгорит в этих домах, то его и солдат объявят героями. Про самого Черняева пропечатают в дивизионной газете. "Погиб на огненном рубеже!" Около домов не видно ни одной живой души. Никто не мечется и не выбрасывается из окон и дверей. Но вот опять полетели снаряды. При ударе фугасного снаряда в пылающий дом, в небо взлетают горящие обломки и сыпятся искры. Солдаты старшины Сенина скорчились в своих окопах. Но не все пали ниц, есть любопытные. Они выглядывают поверх окопов и посматривают на горящие дома. [Одни согнулись, воткнулись в мерзлую землю окопа, ждут смерти и молят о жизни, о спасении своей души, другие только вздрагивают, но не пригибаются, смотрят.] Теперь видно, кто из них к войне годится, кто будет воевать, а кто закончит войну, не увидев её своими глазами. Теперь солдаты поняли, что их тяжкий труд не пропал даром. Но вот опять послышался гул и через десяток секунд над деревней [следуют] беспорядочные разрывы. Спины солдат согнулись. Каждый очередной удар гнет их всё ниже и ниже на дно окопа. Но, несмотря на неистовый огонь, грохот и рёв, все, кто уткнулись головой меж колен, уверены и знают, что немцам в окоп не попасть [попасть очень трудно]. Страх, конечно, [делает своё дело] у каждого есть. Но в белом снегу [немцам] окопов не видно.
– 17- Теперь солдат почувствует на собственной шкуре, что значит попасть под обстрел. Каждый новый залп устремляемся к земле, каждый новый удар застилает всё дымом [, заставляет подгибать колени. Но в сознании теплится надежда, что ты жив, и что с тобой ничего не случится]. Но вот с гулом и рёвом успели освоиться ещё несколько солдат. Они чувствуют, что шуму много, а прямых попаданий не предвидится. Они вытянули шеи, стоят и выглядывают наружу. Что это? Лихость, храбрость, проба своих сил, или просто человеческое любопытство? В начальный момент я тоже было ткнулся [в свои колени] в окоп. Но тут же сообразил, куда [собственно] падают и где рвутся снаряды. Я видел, что окопы в стороне от обстрела [но в этот момент] что в первый момент нужно [всё равно найти в себе силы, чтобы преодолеть грохот и страх] осмотреться кругом и осмыслить обстрел %%%% Я поднялся на ноги и стал наблюдать за обстрелом. Любопытство [, твёрдое желание] и первый страх! [Это что-то похожее на вино, смешанное с пивом и %%%% настойкой из чеснока]. Любопытство и страх! Что преодолеет? Я смотрел [по долгу службы] вдоль деревни и думал. Мне нужно [было] знать, что делается теперь [там,] на поверхности земли. Мне нужно знать, как действовать в будущем. Что твориться у младшего лейтенанта Черняева? Тем более, что осколки не долетали до нас. При взрыве снаряда осколки веером уходили вперёд. Долго будет продолжаться эта огненная пляска? Кажется, что время остановилось совсем [минуты %%% как дни]. Но вот немецкие пушки неожиданно поперхнулись, разрывы стали реже и через мгновение прекратились совсем. Я прислушался. Какая-то напряженная тишина расплылась над окопами [навалилась на окоп]. И только сзади между домов потрескивал огонь, да слышалось шипение таявшего снега. В такой момент жди, да гляди! Я смотрел на опушку леса, ожидая увидеть рассыпавшуюся по снежному полю немецкую цепь. На опушке леса никакого движения, в поле на снегу ни одной живой души. Но я подал на всякий случай своим солдатам команду – К бою!
Не встряхни сейчас своих солдат, многие так и будут торчать костлявыми задами кверху. Команда – К бою! Это когда все солдаты встают, кладут перед собой трёхлинейки, передёргивают затворы и глядят [в оба вперёд] в сторону противника.
– Передай пулеметчикам, – сказал я старшине, – пусть ударят по опушки леса. Полсотни патрон, короткими очередями! Немцы должны знать, что мы сидим в деревне! Я огляделся кругом и сказал сам себе: Немцам здесь делать нечего. Деревня сгорит. Все дома охвачены огнем, а им натопленные дома и избы нужны, иначе они не могут держать оборону! Им подстилка из соломы под задницу должна быть! Они в снегу и в мерзлой земле топтаться долго не будут. Предположения мои сбылись. Немцы в атаку не пошли.
– 18- Но вот опять подул холодный порывистый ветер, подхватил красные языки пламени [и угли], и замигал яркими искрами. Соседний обуглившийся бревенчатый сруб окутался белым облаком [белыми кудрями] пара. Вот он вспыхнул ярким пламенем, и черные клубы дыма поднялись над ним. Дома горели подряд. Через некоторое время в прогале между [сохранившихся домов] горящими домами я увидел группу солдат, идущую в нашем направлении из тыла. Их было не больше тридцати. Что это? Новобранцы? Или новое пополнение из другой стрелковой роты? [Эти] Идут вразброд. Новички обычно ходят кучно [держась друг за друга]. Я вылез из мерзлого окопа и махнул ординарцу рукой. Пойдем, мол, посмотрим! Когда я приблизился к обрыву, то понял, что это солдаты Черняева. Да и он сам шел сзади за своим храбрым войском. Видно я прозевал, когда они начали драпать из своих домов. В первый момент артналёта дома, где они сидели, попали под огонь. Под ударами фугасных снарядов стали рушиться стены, потолки [и взлетали кверху крыши. Но огонь и дым появился в них только в конце обстрела]. С первым же ударом солдаты Черняева бросились наутек под обрыв, Черняев оказался среди своих солдат. Он промолчал как всегда. О том, чтобы вернуться назад, он не сказал ни слова. Под обрывом нашлись два паникёра, они заметались на месте и бросились бежать дальше к реке. Остальных уже невозможно было остановить. Взвод галопом помчался на переправу к кладкам. По мосткам они перебрались на другой берег и в кустах напоролись на комбата.
– Опять пятая рота! – сказал он Черняеву.
– Это твой взвод?
– Мой! – ответил Черняев.
– Где командир роты и все остальные?
– Не знаю!
– Ты пойдешь под суд! – сказал ему комбат.
– Ладно пойду!
– Собери солдат и отправляйся назад!
– Есть назад! Взвод Черняева без потерь вернулся назад. Где теперь располагать своих солдат, Черняев не знал.
– Ну, теперь ты убедился, для чего нужны солдату [копать] окопы? – сказал я ему, [когда он подошёл ко мне.]
– [Тебя] Комбат пугал трибуналом, говоришь?
– Грозился!
– В этой дивизии, Черняев, с лейтенантами не чикаются! Чуть что – отдают под суд. Страху нагоняют! У них генерал свирепый, говорят, кастрированный. Нет ни одной роты, чтобы не было судимых офицеров.
– 19- Генерал знает кого судить. Воюют лейтенанты! Вот он на них и вешает судимости [нагоняет страха]. А [потом, что для тебя] для лейтенанта окопника что суд? Сегодня ты жив, а завтра тебя нет! Теперь в окопах сидели солдаты Сенина, а Черняеву предстояло копать их в мёрзлой земле. Солдаты Сенина довольные стояли и поплёвывали на бруствер махорочной жёлтой слюной [и дышали махоркой]. [Белый снег на краю окопа пожелтел от плевков.] Теперь солдаты Сенина подшучивали над солдатами Черняева.
– Меня младший лейтенант за топором к вам прислал.
– Ты вот что, браток! Старшина появится с жратвой, ты давай неси мне свою порцию водки. Пущу даже на время посидеть в своём окопе. Может со смены когда придёшь и переночуешь! А топорик в мешке тяжело носить. Я его из Ржеавского укрепрайона на себе ношу. Мзду за топорик платить надо!
– А не принесёшь, выдуешь сам сто грамм, валяться тебе с пулей в боку, считай, зря водку испортил! Черняев с солдатами ожесточённо рубил мерзлую землю. Торжествовал и старшина Сенин. Как ни как, он был наверху. Когда совсем стемнело, я пошел к Черняеву посмотреть на его работу. Мы сели с ним на целое необгоревшее бревно, которое принесли солдаты, [достав его из развалин дома] и поговорили как обычно. Черняев сказал два слова, я пару фраз, не зная, с чего начать. Освещённый отблесками пожара, белый снег имел неестественный вид. Вспыхивал и угасал огонь. Снег во время вспышек менял свою окраску. Пламя постепенно перекидывалось с одной избы на другую. Тушением пожара никто из [наших] солдат не занимался. Горит и горит! У солдат свои дела! Странно было смотреть. Горят дома в деревне, а люди ходят спокойно. Проходят мимо, внимания не обращают! Нет никакой суеты, не слышно, как обычно, ни криков, ни суматохи, ни частых ударов [обломком лома о рельсу] в набат. Помню, один небритый пожилой солдат во слезами на глазах высказал мне своё неудовольствие.
– "Вот вы, товарищ лейтенант, обзываете нас бранными словами. А я хоть и солдат, но, между прочим, постарше вас годами и учитель."
– Ну и что из этого?
– Тебя за самовольное оставление позиций следует расстрелять!
– А Черняев по доброте своей всю вину взял на себя. Не сумел остановить вас, пристрелить паникёра духа не хватило!
– Ты слышишь? – обратился я к своему ординарцу.
– Ему мои слова не нравятся!
– А слова не пули, дырок не оставляют!
– Видишь, недоволен он чем. Безусый лейтенант на него ругается!
– Вы наверно думаете, что держать позиции и воевать должны [офицеры] лейтенанты, а вас, солдат, это не касается!
– 20-
– Видишь, он недоволен чем!
– А теперь я хочу тебя спросить, почему ты во время обстрела не остался на месте?
– Ты видел, что появилась паника.
– Почему, сразу не пристрелил паникёра?
– Может ты и есть один из них?
– Накануне нужно было окопы долбить, а вы уговорили Черняева остаться [у амбразур] в избах!
– Может, это ты демагогию разводил?
– Я помню, как ухмылялись вы, когда солдаты Сенина рубили мёрзлую землю.
– Ты наверно будешь помалкивать, когда следователь будет выяснять, кто посеял панику. Ни один из вас не откроет рта.
– А то, что Черняева будут судить, это вас не касается. Это вам наплевать [Это вас не скребёт]!
– Чего молчишь?
– Ты видно, образованный, а совести у тебя нет.
– Когда мне по телефону начальство даёт указания, оно через каждые два слова по делу, вставляет эти самые [нужные] слова.
– А вы, видите ли, не привыкли к [тому] такому обращению!
– И в заключение я вас всех предупреждаю, покинете окоп хоть на минуту – пойдете, под расстрел на месте!
Я Черняеву дам указание, кому нужно по нужде, пусть в немецкую сторону, в снежное поле идёт – и там сидит, прохлаждается. Харчи будете получать тоже с той стороны.
– Пулеметчикам я приказал, кто хоть шаг из окопа сделает [назад] в сторону тыла, стрелять всех без разбора [раненый он или нет]. Из окопа назад вы пройдете только через мой труп. Больные и раненые будут являться лично ко мне!
– Даю вам два дня на отрытие окопов! Вы хоть землю зубами грызите, а окопы должны быть к сроку готовы!
– Ну что, Черняев! Убедился где нужно держать в обороне своих солдат!
– Запомни и заруби себе на носу! В любой обстановке, встал на один день, копай окоп, только окоп от смерти спасёт твоего солдата! Через неделю мл. лейтенанта Черняева вызвали в дивизию. Он вернулся в роту молчаливым и угрюмым, получив условно пять лет. Его судили за то, что он покинул свои позиции, остался жив и [невредим] не имел во взводе потерь. Теперь пятая рота имела полнее соцветие. Я конечно тоже был виноват, что не заставил Черняева зарыться в мёрзлую землю. Не спустил на него собак, как это я сделал с Сениным. Черняев не выполнил мой приказ. Об этом в дивизии ничего не знали. До этого в трибунале разговор не дошел.
– 21- Березин показными судами решил на ротных и взводных нагнать побольше страха. Какой смысл судить командира полка. Во-первых, он всегда вывернется. А во-вторых, он с солдатами [у него кроме штыков воевать нечем]. В атаку не ходит и в чистом виде является передаточной инстанцией. Получил распоряжение или приказ сверху, передал через батальон в роту, ротный и должен его выполнять [брать деревни]. Березин [в штаб армии доложил, что он на рассвете взял деревню Тишково. Всё просто!] приказ штаба армии выполнил. Снимать ротного с должности нет никакого смысла. Ротные офицеры живыми на дороге не валяются! [Дороги мостят их трупами.] Командир батальона в атаку с ротами тоже не пойдет [тоже не бегает с солдатами под пулями]. Есть чин пониже [комбата]. 0н и погоняет ротного издалека по телефону. Немец больше не стрелял. Деревня ещё горела [и дымилась]. Нужно отметить выдержку Ахрименко. Во время обстрела он на участке о стался со своим расчётом один, несмотря на то, что пехота сбежала. О нём даже напечатали в боевом листке. К 30 ноября солдатские окопы и отдельные ячейки были соединены общим ходом сообщения. Мы прошли серьёзные испытания огнем и научились копать мёрзлую землю лопатами [отдавая все силы]. Нельзя бесконечно испытывать судьбу, полагаясь только на совесть солдата. Нельзя попрекать человека за старые грехи [, держать его в страхе]. Запреты и строгости были отменены, старые проступки и обиды были забыты. Жизнь офицера роты на войне, это последняя инстанция, куда сыпятся приказы и распоряжения. В руках батальона и полка солдат нет. Для них существует только Ванька ротный. А у ротного, что ни солдат, то свой склад ума и характерец. Каждому солдату своё давай! У командира роты – солдат вот где сидит, и я пальцем щелкал [по горлу] себе по вороту. Теперь я вспомнил, как перед наступлением на эту деревню, по распоряжению полка нас несколько раз перегоняли с места на место и каждый раз заставляли рыть новую траншею. Тогда я возмущался, а зря! Видно мало раз мы проделали эту работу, раз Черняев по моему приказу отказался долбить мерзлую землю. Получилась досадная осечка. А солдата нужно приучить, ко всему на войне. Нагнулся к земле, припал на колени от пули, рой себе ячейку, где бы ты не стоял.
* * *
Глава 7. Переход в наступление
Текст главы набирал Mole [email protected]
??.07.1983 (правка)
Декабрь 1941
– – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
Смена дивизий. Обмундировка в лесу. Переход вокруг Калинина. Деревня Поддубье.
На рассвете 5-го декабря. Деревня Горохово. Пятая рота берёт с хода деревню
Губино. На опушке леса. Совхоз Морозово. Мы отрезаны от своих. Переход через
железную дорогу. Гибель разведчиков. Наступление на станцию Чуприяновка.
- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -

В ночь на 1 декабря сорок первого года в расположение роты прибежал батальонный связной. Я в это время ходил по траншее и проверял несение службы ночным нарядом. Связной нагнал меня в узком проходе траншеи и навалился на меня %%%. Он поднялся на цыпочки, вытянул шею и, дыша мне в лицо, таинственно сообщил:
– Товарищ лейтенант! Вас срочно вызывает комбат! Я не люблю, когда мне [вот так] дышат в лицо и изо рта дышащего ударяет неприятный затхлый желудочный запах. У меня появляется желание оттолкнуть его, а он все ближе лезет ко мне и дышит на меня своей отрыжкой. Он солдат [а я офицер]. Толкать его без видимых причин вроде нельзя. А я не переношу и не могу терпеть, когда мне вот так лезут и дышат %%%%. Связь работает. Могли бы и по телефону сообщить о вызове, думаю я. Не обязательно гонять солдата по такому поводу. Здесь что-то не так! Опять какую-нибудь разведку боем провернуть задумали.
– Вас срочно вызывает к себе комбат! – слышу я голос солдата и чувствую противный запах изо рта.
– Ладно приду! – отвечаю я и отворачиваюсь от него в другую сторону. Но ему неймётся и он опять забегает наперёд.
– Комбат велел мне вместе с вами к нему идти.
– Комбат? – переспрашиваю я, и отворачиваюсь от него.
– Отойди от меня на десять метров и ближе не подходи! Комбат у нас новый. Старшего лейтенанта, что был на Волге, давно уже нет [в помине]. После суда он сразу исчез, а куда он девался, никто не знает. Был человек и пропал! Иду вдоль траншеи, жду ординарца. Он должен быть где-то здесь, в солдатской ячейке. Пошёл навестить [своих ребят] приятеля. Я трясу его за плечо. Он присел на корточки и спит непробудным [солдатским] сном. За день набегался, намаялся, присел и заснул.
– Вставай, собирайся, пойдём в батальон!
– Забеги к Черняеву, скажи, что я ушёл в батальон. Он в роте останется за меня!
– Догонишь бегом! Я на тропе подожду у обрыва! Я иду но траншее и на повороте вылезаю на поверхность земли. Посыльный из батальона следует за мной сзади. Мы медленно подвигаемся по [утоптаной и %%% тропинке] снежной узкой стёжке к обрыву.
– 2 – Иду по тропе не торопясь, а связной мне наступает на пятки.
– Я тебе дистанцию велел держать! [Он привык убегать с передовой]. Все бояться переднего края [, где рвутся снаряды]. На передке сейчас тихо, немец не стреляет. А страх у него все равно по спине ознобом ползёт. К снарядам и к передовой нужно привыкнуть! Но вот за спиной у связного я слышу сопение моего ординарца. Я его на расстоянии по дыху определяю. Дышит он часто, а запаха изо рта [не имеет] у него нет. Поворачиваюсь, спрашиваю:
– Видел Черняева?
– Передал, как вы сказали! Я прибавляю шаг, и мы быстро опускаемся с обрыва, идём по пологой долине и наконец подходим к реке. К той самой, [о которой сказано: "И ель сквозь иней зеленеет, и речка подо льдом блестит!"] от которой мы когда-то цепью пошли на деревню. [Но теперь всё] Русло реки засыпано снегом. Прозрачного льда не видно совсем. По узкому мостку перебираемся на другую сторону. Это наш, так сказать, пограничный рубеж. Мы можем его перейти только с разрешения начальства. Перешагнул его однажды самовольно Черняев и тут же получил соответствующий срок. Мы отгорожены от остального живого мира двумя узкими брёвнами с перекладиной. Смотрю вперёд – знакомые места! Вот наша старая траншея, чуть дальше кусты, на склоне бугра зеленые сосны, а там за бугром открытое снежное поле. За полем в ложбине небольшая деревушка. В избе сильно натоплено, накурено и кисло пахнет. В спёртом воздухе чувствуется бензиновый запах коптилки. У нас хоть снаряды, [смерть] снег и мороз, но воздух чистый и полезный для организма! Как они здесь сидят? Чем они здесь дышат? У стола на лавке сидит комбат в новой меховой безрукавке. Он шибко занят, смотрит на себя в зеркало. Не понимаю только, [не знаю только, от удовольствия или от %%%%] отчего он смотрит в зеркало и улыбается сам себе. Фамилию комбата я не знаю. Сам он не называется. Может, фамилия у него звучит неприлично? Ведь бывают такие фамилии? [на букву Х.] Мне спрашивать у него нет никакой охоты. Комбат и комбат! Ко мне он тоже обращается на ты. То ты! То лейтенант! 0н срочно вызвал меня к себе. Я вошел, а он сидит перед зеркалом и ковыряет болячку [бородавку]. Входишь в избу и никак не поймешь, вызвали тебя по делу или так, от скуки. Посередине избы горит железная печь. Русская, деревенская, на половину избы, почему-то не топиться. В ней что-нибудь неисправно? Под у печки на месте. Дымоход совершенно цел. А эта железная горит и дымит. Может дрова экономят? Комбат посмотрел на меня через зеркало. Головы назад не поворачивает, оттянул верхнюю губу двумя пальцами, рассматривает новый прыщ и говорит:
– Ты лейтенант чем – то все время недоволен. Уважения к старшим по званию и патриотизма у тебя нет.
– 3 -
– Если сказать точнее, подхалимства и угодничества [у меня нет], – добавляю я и продолжаю.
– Выходит те, кто сидит [сзади нас] у нас за спиной и есть истинные [русские] патриоты?
– А мы окопники так, ненадёжный народ, мусор и сброд!
– Ну ты уже загнул того!
– То, что вижу, о том и говорю! [Я режу правду в глаза. Правда она всегда колет глаза.] Дальше передовой меня не пошлют. Мне нечего бояться. Война держится на нас. И ты, комбат, и другие об этом прекрасно знаете. Только признаваться никак не хотите!
– Все это так! Но о тебе складывается мнение.
– Мне все равно. У меня дорога одна!
– Я тебя вызвал [не для этого] вот почему – дивизия получила приказ! Сегодня ночью приказано сдать позиции! – при этом он опять поскрёб ногтем верхнюю губу.
– Мы отходим в район деревни Новинки. Тебя будет сменять вторая рота первого батальона 246 стрелковой дивизии. Наконец, он кладёт зеркало на стол, поворачивается ко мне и добавляет:
– Вернёшься к себе, до начала смены своим солдатам ничего не говори! Мало ли что! Сейчас придёт твой сменщик тоже командир роты. Отправляйся с ним к себе и покажи передний край. Уточните огневые точки, сектора обстрела и сведения о противнике!
– В дивизии предупредили, чтобы смена прошла без шороха.
– Тебе всё понятно, что я говорю?
– Чего молчишь?
– Всё ясно, чего говорить!
– У меня всё! Можешь идти! Я вышел на свежий воздух, сел на ступеньки крыльца, достал кисет, оторвал кусок газетной бумаги, насыпал махорку, свернул цыгарку и закурил. Вскоре явился мой сменщик и я повел его на передок [в свою траншею]. У мостков через речку нас догнал его мл. лейтенант, командир взвода. Я показал им траншею, стрелковые ячейки, пулемётную позицию, сектора обстрела и передний край.
– А что это за колышки? – спросил меня командир роты.
– Эти колышки обозначают не только сектора обстрела, но и прицельные точки для каждого солдата, когда он стоит на посту. Если он увидел в створе двух колышков немца, он обязан его поразить. Ему [не последует от командиров команда "Огонь!"] не надо подавать команду, куда стрелять. Он должен прицелиться и стрелять самостоятельно. Он должен бить по цели, а не палить куда попало. Здесь по колышкам все видно. Можно точно определить. Кто стрелял? Кто попал? А кто дал при выстреле промах. Убили немца и каждый потом [доказывает] до хрипоты, что он немца выстрелом срезал. Колышки всё покажут. Я могу с разных мест по колышкам определить [линию прицела], кто куда стрелял. Мы прошли ещё раз по траншее, и я показал ему немецкие огневые точки.
– 4 – Командир роты остался в траншее, а командир взводов ушел за солдатами. Смена переднего края растянулась [почти] до [утра] ночи. Но, как хотели в дивизии, прошла без шороха и без выстрела. Последними траншею покинули солдаты взвода Черняева. Когда Черняев увёл своих последних солдат, я подошёл к командиру роты и пожал ему руку.
– Счастливо оставаться! Мы с ординарцем дошли до поворота, вылезли из траншеи, и не спеша прошли мимо обгорелых развалин и закопчёных печей. Они как немые свидетели остались стоять [после нас] вдоль обрыва дороги на месте. Всего чуть больше недели простояли мы здесь, а покидая траншею, казалось, что мы были в ней по меньшей мере полгода. Спустившись по крутой тропинке с обрыва, мы остановились, я решил закурить.
– Теперь нам некуда спешить! – сказал я и чиркнул спичкой. И подумал:
– Сколько труда и пота вложили мы здесь! Сколько тяжелых минут пришлось пережить на этом клочке земли! Теперь все брошено, [но не будет] и как будто забыто! И что те, другие, знают об этой сгоревшей деревне? Перед ними кучи пепла и обгоревшие печи в снегу. А когда-то по этой заснеженной пологой низине мы подвигались с опаской вперёд. Мы шли по колено в снегу и каждую секунду ждали, вот вырвется навстречу бешено из пулеметов огненное пламя. Неважно, что его не было! Важно то, что пришлось [его ждать] пережить! Да, да! [То самое переживание перед смертью, когда ты должен перейти в небытиё! Та самая секунда, которую долго ждёшь.] Ждать всегда пострашней! Перейти в небытие недолго, когда со смертью смирился. Теперь по снежной тропе [идти легко] мы шли легко и спокойно, зная, что в спину стрелять нам не будут. Идёшь себе и думаешь о чём-нибудь о прошлом. [Думаешь о другом, и никаких тебе переживаний]. Вот и кладки в два узких бревна. Они для другого человека не имеют никакого значения. Кладки, как кладки! С одним перилом с левой стороны. А для нас сейчас перейти по ним на другой берег, это целый %%% этап войны [нашей жизни и страшной войны]. Совсем ещё не рассвело. Мы идём и потягиваем [свои закрутки из махорки] махорку. Теперь курить можно в открытую, немец с опушки леса нас не видит [в низине]. Мы шагаем по снежной низине, заходим в кусты, а комбат тут, как тут. Налетел петухом и кричит визгливо:
– Почему огнём батальон демаскируете? – Это опять пятая рота? Мать вашу в душу! Новый комбат мне не очень нравиться. Не из-за того, что он петушится, пыжится и орёт. Я просто устал от [окопной жизни] него и от окопной жизни. Я смотрю на него и сплёвываю на снег. Ординарец свою папироску бросил и затоптал ногой. А я стою, молчу и продолжаю курить [в открытую].
– 5 – [- Ты чего орёшь?] Я стою, смотрю на него и думаю. На моей шее целая рота, а у него [в руках обычно] телефонная трубка в руках.
– "Что там у тебя [на передовой]?" – [звонит он по телефону] обычно спрашивает он. [Ему нужно ещё отчитываться перед полком. Быть в курсе дела.]
– Ничего! – отвечаю я.
– Что ничего?
– Ничего, значит всё в порядке.
– Вот так и говори, а то ничего. Но он тоже взял манеру покрикивать вроде Карамушки. Карамушко, это наш командир полка. Я его однажды видел. На лице у него деловая строгость и сосредоточие. Смотрит он на нашего брата из под бровей, верхняя губа у него отклячена, вроде мы низшие презренные существа. Образование у него сельское, приходское. Ростом он маленький, глаза едкие и быстрые, а какого цвета не разберёшь [уловить невозможно].Вообще, лицо у него с мелкими чертами [и совсем рядовое] как у крестьян, мужиков. Среди моих городских солдат тоже есть такие сплющенные лица. Другое дело Черняев. У него худое и выразительное лицо, крупные черты, чёрные брови. И фамилия у него Черняев. [А Карамушко, как снятый со сковородки испеченный блин]. Это не камушек под ногой на дороге, %%%%% его ногой, и его нет. Все они в тылах полка похожи друг на друга. У комбата на лице прыщиков больше. Зато гладкая [другая сторона] задняя часть и короткие толстые ноги. Ему мешки %%% таскать, а он телефонной трубкой забавляется. Раньше я не рассматривал [своё полковое и батальонное начальство] их, не приходилось их видеть вот так. [А после суда] Потом я прозрел и стал к ним приглядываться. А у меня, как назло, зрительная память хорошая. Мне было интересно, кто из них кто? [Кто собственно посылает стрелковые роты на смерть?] У нашего комбата подчинённых всего двое. Я – командир пятой и Татаринов – командир четвертой роты. Комбат нам по очереди [,когда нужно,] по телефону вправляет мозги. Без этого нельзя. Погонять ротного нужно. Он с голода и холода может проспать всю войну! В роте всё держится на Ваньке ротном, вот с него все требуют и погоняют его. В кустах за бугром лежит моя рота. Черняев и Сенин, увидев меня, поднимают солдат. Теперь вошло в обычай, где встал, там и лёг. А что под тобой, снег, мерзлая земля, заснеженные камни, это не важно, солдату всё под бок сгодится. Тыловик на снег не сядет, он задницу [опасается простудить] мочить не будет.
– Нам связного из полка прислали! – докладывает мне Черняев.
– Он поведёт нас до места сбора. Вон стоит у сосны! Я поднимаю глаза и смотрю на солдата. Упершись в ствол хребтом, [привалился] и ждет нас, когда мы построимся. Смотрю на лежащих в снегу солдат [своей роты] [и задумчиво качаю головой] и спрашиваю:
– Ну как дела? [- обращаюсь я к солдатам.]
– Дождались! Теперь на отдых пойдём!
– Держи карман шире, товарищ лейтенант! – бросает в ответ мне кто-то из лежащих фразу.
– В наступление пойдём! Переход дня два, а потом опять под снаряды.
– Это почему же? – спрашиваю я.
– Говорят, дивизия на другой участок переходит. Тыловые уже вчера укатили [из деревни] туда.
– Откуда ты взял?
– 6 -
– Как, откуда?
– А я тут на дороге знакомого ездового встретил. [Земляк, с одной деревни. Вот он и сказал.] Солдаты [,товарищ лейтенант,] всё знают наперёд, вот такие дела!
– У нашего брата чутьё.
– Мы чутьём берем секретные военные хитрости [премудрости]. Знакомый говорит, что все обозы снялись [давно] и куда-то уехали. [Земляк мой остановился на дороге вот здесь и прикурил.] Я построил роту и мы вышли [из кустов] на дорогу. Нетронутые снежные просторы лежали [распластались] кругом. Здесь стоит непривычная для нас тишина, без посвиста пуль и без разрывов снарядов. Мы идем по прикатанной санями [и лошадьми] дороге, [шагаем вперед,] подвигаясь к деревне Новинки. Где-то там, как [выразился] объявил наш комбат, нас определят на постой и на отдых. Часа через два неторопливой ходьбы [по морозу], встречным ветром до нас донесло [мы почувствовали вдруг] запах жилья и печного дыма. Запахи на передовой имеют совсем другие [значения] свойства. Мы огляделись кругом, впереди невысокий снежный бугор и кроме белого снега, ничего не видно. Но вот, еще сотня [метров позади] шагов по дороге и впереди [по ходу дороги] из-за снежной гряды показались заснеженные крыши и торчащие сверху печные трубы. Серые, чуть заметные [клубы] полосы дыма [выходили] поднимались из труб и склонялись в нашу сторону [вдоль дороги]. Идем дальше. Минут через десять, показались бревенчатые стены и маленькие окна на уровне сугробов. [Ну и конечно!] Всё ясно! Ха! Ха! ВМЕСТО того, чтобы топать в деревню, а до неё уже рукой подать, полковой связной поворачивает в сторону леса и ведёт нас по снежной целине [в направлении леса].
– Хоть бы дали пустой сарай! Издали жилья [хочется] понюхать – заворчали солдаты. Но связной свернул с дороги, и мы топаем по колено в снегу [по снежной целине прямо в лес]. На опушке леса он останавливается, и я подаю команду к привалу.
– Так приказал командир полка! Мое дело маленькое! Здесь в пятидесяти метрах походит дорога, вам приказано сосредоточиться около неё.
– Пройдете вот здесь! – постукивая ногу об ногу, сказал связной.
– Располагайтесь! А я пойду в деревню, и доложу что вы на месте. Связной повернулся и ушел [по дороге]. Вот что обидно. Солдаты чувствую запах жилья, [и это его раздражает. Это вызывает сразу воспоминания о прошлом.] а в деревню их не пустили. Из мёрзлой, [как камень,] траншеи и снова [на пушистый] снег.
– Считай, что тебе повезло! Не нужно землю долбить. [Из мёрзлой траншеи в тепло попали!]Наруби лопатой лапника, брось под себя и лежи, как барин в пуховой перине! Причудливые шапки снега нависли [повсюду] на елях. А деревня с натопленными избами, [чугунами варёной картошки, которая горячим паром отдает] рядом под боком.
– 7 – Горячие печки и пахучая свежая солома, [брошенная охапками на пол] нам по роду службы [вредны и не положены] теперь ни к чему. Мы люди мерзлой земли, мы носители ветра и холода и нас нельзя заводить в тепло. Мы растаем, [как в сказке Снегурочка!] как льдышки, как снег, занесенный [на сапогах] в избу на валенках [с порога]. Но все же обидно! Запах жилья и горького дыма мутит сознание солдату [, а он торчит по колено в снегу]. Хоть бы ветер сменился! [и подул в другую сторону!] На душе у солдата стало бы легко! Рота без дела целый день провалялась в лесу. Начальство считало, что мы получили заслуженный отдых. К вечеру из деревни привезли обмундирование. Офицерам выдали полушубки, меховые рукавицы, солдатам байковые портянки и трёхпалые, утеплённые байкой, варежки. Заменяли старые и рваные стеганые телогрейки и ватные штаны. До самой ночи продолжалась толкотня и примерки. То тут узко, то там трещит по швам, то в поясе не сходиться, то штанины до колен и рукава до локтей. Снабженцы сразу не дадут, что нужно. Они норовят [спихнуть] сунуть солдату какой-нибудь недомерок. Только мое вмешательство, наконец, [возымело действие] ускорило дело. Оделись в новую одежду, и сразу солдатам стало жарко. Погода %%% морозная. Холодный воздух захватывал дух. Зимой в лесу хорошо и безветренно. Вершины елей покачиваются [в вышине], а здесь у земли [безветренно и почти] совсем не дует. Немецкая авиация не летает. Костры разводить категорически запрещено. В 421 стрелковом полку [теперь] три батальона. Мы во втором. В моей роте около шестидесяти солдат, а в четвертой у Татаринова на десяток больше. Я говорю около шестидесяти, потому что [на передовой] состав роты постоянно меняется. То дадут пополнение [человек двадцать], то идёт естественная убыль. Солдат по списку старшина считает котелками и крестиками. Поставил крест при выдаче харчей, значит живой. Старшина дело своё знает. Он по количеству котелков сразу определит, кто съел свою порцию, а кто хлебать сегодня не будет. Солдат числиться в списке пока торчит в траншее живой. У старшины бухгалтерия элементарно простая, получил котелок, поставил крестик, отваливай поскорей [ты живой!], следующий подходи. Все мы солдаты кровавой войны! [Чуть немец открыл огонь, солдат уже навострил уши.] Где бы рота не была, в обороне или наступлении, я её Ванька ротный, постоянно должен [идти и стоять] быть среди своих солдат. Стрелки не пулеметчики. Стрелок – солдат считай как заяц в лесу. Когда нужно, не встанет %%%, когда не нужно [сможет сбежать в тыл и там отсидеться] возьмёт и уткнется в траншею, его оттуда хоть за рукав тащи. [Пулеметный расчет с Максимом другое дело. Пулеметчик в обороне сидит до последнего патрона. Максим тяжеловат, его не схватишь подмышку и не убежишь, как стрелок.]
– 8 – [У комбата свои дела и заботы. Он солдатами в бою не руководит. Он не касается их. Он их даже в лицо не знает. Ему нужно держать в руках командира роты, чтобы он выполнил боевой приказ (приказ был выполнен ротой). Ему нужно, чтобы в роту связь была и звонил по телефону. Ему приказы идут сверху по инстанциям. Приказы в роту приходят сверху по инстанции. Это не (выдумки) личное желание командира полка. Это приказ дивизии. Что дивизии, бери выше! Это директива Армии и Фронта. Приказы сверху идут всё быстрей. И вот вызывают к телефону (по приказу) Ваньку ротного.
– С рассветом возьмёшь деревню! Кровь из носа!
– А как её брать?
– На то ты и ротный. В душу твою мать! У тебя один выход. Или ранит, или убьёт. Потерь будет много? Война без потерь не бывает! За это ругать не будем! Деревню возьми!] Кто же выходит гонит солдат на [верную] смерть? Опять же я, Ванька ротный. [У комбата две дороги.] От КП батальона [идут две дороги] на передний край вьется тропа. По ней [По одной, что идёт на передок] бегают телефонисты и связные в стрелковые роты, а по другой в тыл от КП батальона [на КП полка] комбат ходит, когда его вызывают в полк. Он надевает [потрёпанный] потёртый полушубок, заляпанный грязью и глиной и прожжённый в нескольких местах. На плече вырван клок белого меха, вроде от пули. На лице у комбата [появляется] озабоченный и усталый вид, [человек] он вроде страдает бессонницей и переживает за общее дело. При докладе он обязательно [представит] вспомнит ротных, как бестолковых и бессовестных людей и [лодырей]. [Кивает – мы приказ получим!]
– Уж очень он боязлив! – скажет комбат командиру полка, между прочим. У командира полка глаза лезут на лоб, что бы он делал без такого комбата %%%% [и настойчивость способного комбата]. [У командира полка три батальона, а это на мало ни много, всего восемь рот. Да если прибавить всякой вспомогательной тыловой братии, вот тебе и больше тысячи будет. На днях придёт пополнение, в ротах перевалит за сотню, и в полку считай за две тысячи штыков будет. Тут только смотри, куда их стрелками на карте направить! %%%] Командиру полка не важно, кто там [живой (или мёртвый) а кто убитый] сидит впереди. Он даже фамилии командиров рот не знает. Да и зачем их держать в памяти, сегодня [ротный лейтенант (один из них)] он жив, а завтра его нет. [Хватит философствовать! Смотрю вдоль дороги.] Вроде наш старшина с харчами идёт [по дороге тащится]. Солдаты всколыхнулись и [дребезжат] отвязывают котелки, высыпали на дорогу. Вышли на дорогу, смотрю, а Татаринов со своими уже стоит. [Солдат накормили.] После кормежки в роту явился комбат со своим замполитом. Велели на дорогу нам выходить. Мы впервые увидели свой батальон в полном сборе. Пока мы на дороге топтались, ровнялись и строились, нам подали команду с дороги сойти [назад в снег].
– Освободить проезжую часть!
– Командир полка, Карамушко едет!
– 9 – По дороге в легких саночках фыркает жеребец [иноходью]. Пыля порошей [и брызгая снегом,], он иноходью приближается к нам. Сам Карамушко, так сказать, решил показаться солдатам и [взглянуть на нас] оглядеть своё полковое войско. Вот, смотрите, каков у вас командир полка! [Никто из солдат не имеет представления, кто и какой собственно в тылу %%%%] Губи [у него плотно сжаты] поджаты. С правой стороны от носа залегла глубокая складка, как знак вопроса. Лицо рябоватое, нижняя скула многозначительно отвисла [выдвинута]. [Один глаз %%% прикрыт.] Попробуйте всё это проделать на своём лице, взгляните в зеркало и вы представите каким был Карамушко. %%% Жеребец размашисто бросая ногами, брызгая слюной и [вытаращив] вывалив навыкат глаза, был похож на разъярённого зверя. Из-под ног в стороны летели комки снега и попадали прямо в лица, стоящим у дороги солдатам. Солдатам успели подать команду смирно и они застыли, стоят [от испуга] не моргая глазами. Утирать лицо в пассаже нельзя. За лёгкими саночками верхами скачут солдаты телохранители, одетые как офицеры в цигейковые полушубки. На груди прижаты новенькие автоматы. Я взглянул на комбата. Лицо у комбата сияло. Он вытянулся в струну [в пружину, как столб] и готов был за взгляд Карамушки [пойти на смерть] тут же умереть. Карамушко не останавливая жеребца, пронёсся дальше по дороге. Там за поворотом [дальше по дороге] стоят ещё батальоны, [им дана команда и они] ждут его появления. Вот копыта скрылись за поворотом. Послышалась команда – "Вольно!" Комбат объявил:
– На марше ночью не курить! Из [этого] сказанного на счёт курева нам стало ясно, что мы будем стороной обходить город Калинин. Хотя маршрут, куда мы идем, нам не объявлен. Комбат пружинисто прошелся вдоль строя. Посмотрел из-под бровей на командиров рот, улыбнулся солдатам и хотел что-то сказать. На его улыбку в строю кто – то громко хихикнул, на [него] солдата тут же шикнули. [и он] Солдат осёкся. Комбат не стал поизносить приготовленную речь. Он подал команду ротным:
– Ротными колонами за мной шагом марш! И солдатская масса, колыхнувшись, пошла месить снег по дороге. Командиры рот кобыл и саночек не имели, шли они шли [и месили снег] вместе солдатами. На повороте из-под развесистой ели выехали деревенские розвальни, комбат уселся в [них] сани, укрылся брезентом и уехал вперёд. А мы топали по дороге и месили снег всю ночь до утра. [Мы понадобились на пару минут.] Начальство [покрасовалось и] уехало в новый район сосредоточения. Для них там заранее всё было готово [натоплены %%%% и на пару]. А мы солдаты войны по морозцу и хрустящему снегу пешком да пешком!
– 10 – Мы идем по лесной дороге и лениво перекидываем ноги. У нас впереди километров тридцать пути. По рыхлой зимней дороге, взрытой лошадьми, передвигаться тяжело. В узкие полосы укатанные полозьями ногу не поставишь, приходиться всё время идти по рыхлому [снегу на обочине дороги] конскому следу. Дорога [в лесу] всё время петляет, она то скатывается под уклон, то снова ползёт куда-то на бугор. Кругом лес. На открытое пространство дорога не выходит. Мелькнёт в стороне между снежными сугробами небольшая деревушка [своими чёрными срубами], утопшая в снегу, и пропадет за поворотом. Зимняя ночь длинная, за ночь намахаешь, натолчешь сыпучего снега, дойдешь до места привала и замертво упадёшь [свалишься в снег]. Солдаты [нее разбирая дороги] ложатся, где их застала команда – "Привал!" Валяются в снегу, как трупы прямо на дороге. Тыловые любят ездить рысью, торопятся, ругаются и недовольно кричат.
– Чьи это солдаты лежат поперек дороги?
– Где командир роты?
– Почему такая расхлябанность? %%%%!
– Подать сюда его! Я поднимаюсь из снега, подхожу к дороге %%%%% Смотрю на спящих солдат и останавливаюсь в нерешительности. Картина поразительная! Люди лежат как не живые, в невероятных лозах и не реагируют ни на брань, ни на крики. Ездовой орёт:
– Освобождай дорогу, а то по ногам поеду! Я поворачиваю лицо в его сторону и говорю ему:
– Только попробуй!
– Ты знаешь кто здесь поперёк дороги лежит?
– Это святые, великомученики!
– Сворачивай в сторону! Объезжай их по снегу! Да смотри никого не задень! А то с пулей дело будешь иметь!
– Объезжай, объезжай! – подталкивает своего ездового штабной офицер.
– Видишь раненые лежат!
– Ну ежли так! То хуть бы сразу сказали!
– Он же и говорит великомученики! Повозочный дергает вожжи, лошадь забирает в сторону передними ногами, нащупывая [глубину снега на краю] край дороги. Сани наклоняются, и одной полозьей скользя по дороге, обходят спящих солдат. У солдат на дороге где руки, где ноги, где голова, а где просто костлявый зад. Его видно и сквозь ватные стеганные брюки. %%%%%%% Я подхожу к солдатам, нагибаюсь и начинаю по очереди оттаскивать их [с дороги].
– 11 – Одного тащу за рукав, другого за воротник, а третьего за поясной ремень волоку поперек дороги. Один носом снег пашет, у другого рыльце, как говорят, от снега в пуху, но ни один из них не издал ни звука, и глаз не открыл. Я их по кочкам тащу, и ни один не [трёхнулся] проснулся. Я отпускаю очередного, он собственной тяжестью падает в снег. Подхожу ещё к одному, этот лежит поперёк дороги. На подходе гружёная верхом повозка. Эта при объезде завалиться в снег. Солдата нужно тащить через дорогу за ноги. Голова и плечи у него под кустом. Солдат лежит на боку. Под головой у него вещевой мешок. Он спит и держит его обеими руками. Я беру его за ноги и волоку на другую сторону. Он по-прежнему спит и крепко держит мешок руками. Усталый солдат ради сна может пожертвовать даже жизнью, но не солдатской похлебкой и куском мёрзлого хлеба. Сон и еда, вот собственно, что осталось у солдата от всех благ на земле[и чем он ещё дорожит].
– Давай проезжай! – кричу я повозочному, идущему рядом с повозкой. На передовой мы привыкли кричать. [Слова, сказанные нормальном голосом, там не возымеют действия и не всегда их слышно]. Вся рота, как мертвая, лежит и [сопит] спит на снегу. Солдаты спят после изнурительного перехода. Я и сам еле стою на ногах, постоянно зеваю, тяжёлые веки липнут к глазам, голова валится на бок, ноги заплетаются. Что там ещё? Вопросы меня мало волнуют. Какие вам ещё часовые, мы у себя в глубоком тылу [в лесной глуши]! Ни одного солдата сейчас не поставишь не ноги! Я отхожу от дороги, делаю несколько шагов по глубокому снегу и заваливаюсь в него.
– Езжай, езжай! – говорю я сам себе и мгновенно засыпаю. Открываю глаза, в лесу слышны солдатские голоса. Позвякивание котелков и голос старшины [знакомый звук для солдата]. [Удар откинутой крышки термоса и побрякивание черпака сразу поднимают всех солдат на ноги! Знакомый звук звучит, как пожарный набат, теперь не нужно толкать и будить солдат. Я протираю глаза. Оглядываюсь кругом. Небо пепельно-серое. В лесу полутемно и тишина. До рассвета должно быть часа два, не больше. Что это? Или это утро или вечер и близится ночь? Смотрю на снежный покров, а он искрится и светится. Ничего не пойму. Кажется, что он [слабо] излучает из себя [изнутри] холодный мерцающий свет [серебристым оттенком]. Странно! Почему задолго до рассвета снег начинает мерцать и серебриться холодным огнём [холодным налётом, серебристым светом]?
– 12 – Мы шли через Васильевские мхи. Прошли деревню Жерновка. Потом свернули на Горютино и Савватьево и через Оршанские мхи вышли к Поддубью. На переходе вокруг Калинина сначала мы топали ночами, а затем нас пустили днём. За три перехода мы обошли вокруг города и на рассвете 3-го декабря, не выходя из леса, приблизились к Волге. Когда долго идёшь и ногами швыряешь сыпучий снег, в памяти остаются, выхваченные местами, застывшие картины привалов. [Идёшь по дороге, и смотришь себе под ноги.] А что видишь по дороге и что монотонно уплывает назад, в памяти не остается. Глянешь случайно в сторону, а кругом всё тот же [заболоченный]%%% засыпанный снегом лес. Шагнёшь иногда не глядя, воздух в лесу морозный, а из-под ног выдавливается коричневая [вода] жижа. Прошли мы лесными дорогами в общей сложности километров шестьдесят. Вышли на берег Волги, где на карте обозначена деревня Поддубье.
– Даю вам сутки на отдых и [на] подготовку! – встретил нас в лесу и объявил наш комбат.
– На какую подготовку? К чему нам собственно готовиться? – спрашиваю я. Комбат молча поворачивается ко мне спиной и уходит в глубь леса [по дороге].
– Потом узнаешь! – буркнул он на ходу.
– К смерти нужно готовиться! – говорит кто-то из моих солдат.
– Завтра в наступление [пойдём]! Вечером, нас командоров рот собрали и вывели на берег Волги, подвели к крайнему дому в Поддубье и велели ждать. Через некоторое время Карамушко, наш командир полка подъехал к леса на [белом] жеребце в ковровых саночках Поверх полушубка на него был надет белый маскхалат. Жеребца оставили в лесу, а нас вывели на открытый берег и положили в снег. Вскоре к нам явился и Карамушко. Это была первая рекогносцировка, на которой был командир полка. Вместе с Карамушко пришёл офицер. Какого он звания был? Знаков различия под маскхалатом не было видно. Он зачитал боевой приказ. Дивизия в составе передового отряда 31 армии 5-го декабря сорок первого года переходит в наступление. Два полка дивизии, взаимодействуя в полосе наступления, должны прорвать оборону противника на участке Эммаус-деревня Горохово. На Эммаус вместе с 250 дивизией наступает наш 920 стрелковый полк. Второй батальон 421 стр. полка двумя ротами наступает на деревню Горохово. 421 стр. полку к исходу дня 5-го декабря приказано перерезать шоссе Москва – Ленинград и овладеть деревней Губино. В дальнейшем батальон наступает на совхоз Морозово и к исходу дня 6-го декабря должен выйти на железнодорожную станцию Чуприяновка.
– 13 – Перед наступлением по деревне Горохово будет дана артподготовка [из двух орудий]. И могу сообщить ещё одну приятную новость, нас будет поддерживать авиация. До начала наступления никому из леса не выходить, находиться в ротах и ждать установленного времени! После прочтения приказа, Карамушко показал нам рукой направление и полосу наступления полка. Мы [приподняли] задрали головы и смотрели вперёд. Он стоял на одном колене и простер руку вперед.
– Всё ясно?
– Вопросов нет? Мы промолчали. Карамушко легко поднялся и ушел за избу. После этого нам разрешили подняться и по одному [перебежать] отойти в деревню. Карамушко сел в ковровые саночки, жеребец нетерпеливо бил по снегу копытом, Карамушко тронул рукой за – плечо ездового, тот дернул вожжой, взмахнул в воздухе кнутом, жеребец рванул вперёд и мы Видели его, как такового. Карамушко скрылся, а мы до леса дошли спокойно пешком. Здесь в глубине леса были построены срубы, теплушки, сараи и навесы для полковых и тыловых лошадей. Сами полковые, штабные и тыловые %%% устроились удобно, заняли [по рангам] места в рубленых теплушках. Только солдаты стрелковых рот остались лежать на открытом снегу.
Когда они сумели всё это нагородить [настроить]? – подумал я Может они сюда пожаловали за [неделю] две, три недели? Первый раз за всю войну я получил карту местности. По ней завтра [через день] на рассвете нам предстоит идти [в наступление] вперед. Вот на карте, на крутом берегу деревня Горохово. Здесь проходит передний край обороны немцев. Ещё выше по отлогому склону прямой линией изображено шоссе Москва – Ленинград. Переходишь шоссе, около леса деревня Губино. За лесом полотно железной дороги, а чуть левей обозначен совхоз Морозово – бывший конный завод племенных рысаков.
Раз, два! – считаю я количество домов и построек. Один дом, два сарая и пруд около них. Левей по полотну, в сторону к Москве расположена жел. дор. станция Чуприяновка. Её нам нужно взять к исходу дня 6-го декабря сорок первого года.
– Ну что лейтенант! – слышу я сзади из-за плеча голос Татаринова.
– Пройдём этот лист? Или ляжем под первой деревней?
– Почему не пройдём? – отвечаю спокойно я.
– Ты в этом уверен?
– А что в этом особенного? Чего собственно бояться? – спрашиваю я. Я вспомнил, как мы ротой ходили на деревню через Тьму.
– 14 – Сначала боялись, а потом обошлось без единого выстрел а, без единой потери.
– Как ты думаешь, доползем до шоссе? – не унимается Татаринов. Я повернулся, посмотрел ему в глаза и ответил:
– Не волнуйся, дойдём до Берлина. Назначаю тебе место встречи на Фридрих-штрассе нумер цвай.
– Почему Фридрих и почему цвай?
– Потому, что улица Фридриха в Берлине наверно есть.
– А цвай, легко запомнить!
– Ты чего-то боишься, Татаринов, и не хочешь говорить.
– В обороне на Тьме мы с тобой стояли рядом. Меня тогда послали брать деревню, ты занял мою траншею. Я знаю, чего ты боишься! Первый раз в наступление идти. А я на Тьме ходил. Вроде ничего! Идти можно.
– Ты не знаешь куда девался наш бывший комбат, старший лейтенант, который был на Волге? – спросил Татаринов.
– Я многих спрашивал, – продолжал он, – все отнекиваются и говорят, что не знают. Судили всех вместе, а он пропал после суда.
– Не знаю, – ответил я.
– Меня вчера предупредили, – кивнув годовой в сторону полковых теплушек Татаринов.
– Струсишь в наступлении! Пойдешь под расстрел!
– А тебя в полк не вызывали [насчёт предупреждения]?
– Нет! Ты же знаешь, что я уже [брал деревню] ходил на деревню. Теперь мне понятно, чего ты боишься! А вообще – то ты зря!
– Комбат тебя за руку на деревню не поведёт! Ты здесь в тылу у него под надзором ходишь! А пойдёшь в наступление, все они разбегутся. Будут на тебя только по телефону орать.
– Так-то оно так! – со вздохом [сказал] говорит Татаринов.
– Ничего, преодолеешь, это только сначала страшно!
– Ну мне пора! – сказал я. На этом разговор наш закончился. Мы разошлись по ротам. В ночь на 5-ое декабря роту Татаринова послали тихо переправиться через Волгу. Он должен был подойти под крутой обрыв и, постреливая, не давать немцам спать до утра. Рота Татаринова вошла в мертвое пространство, куда не могли залететь ни пули, ни снаряды. Ночью можно было без выстрела перейти по льду через Волгу и под обрывом [сосредоточиться для наступления] спокойно сидеть и в небо стрелять, и ждать сигнала для наступления. Я просил комбата [и командира полка], чтобы мою роту тоже послали %%% под берег. Мне было сказано, что я вместе со всеми на рассвете перейду в наступление, буду брать Горохово и дивизия не разрешила без времени соваться туда. Как потом стало известно, командир дивизии генерал Березин А. Д.
– 15 – доложил в штаб 31 армии, что в ночь с 4-го на 5-ое декабря дивизия захватила плацдарм на том берегу для наступления. Я был поражён. Слова не вязались с делом! Чего там захватывать? %%%% ночь и ложись под бугор. К утру 5-го декабря мы были на ногах. Получив водку, хлёбово, [хлеб] сухари и махорку, в дорогу на тот свет, как кто-то сказал из солдат, мы были готовы идти через Волгу. Раздав по горсти патрон, снабженцы закончили свои дела, собрали мешки и поспешно убрались в глубину леса. Солдаты всё нужное рассовали по карманам и в мешки. Они были готовы идти на смерть за счастье своей любимой Родины. Роту частями вывели за деревню на исходные позиции. Мы обошли крайний дом, отошли от деревни вперед, вышли на пологий берег и легли в снег. До рассвета оставались считанные минуты. Я посмотрел ещё раз в ту сторону, куда нам предстояло идти. Впереди простирался открытый обрывистый берег. Покрытое льдом и снегом русло Волги совершенно не выделялось на белом фоне снежной равнины. И только там, на той стороне реки стоял крутой и высокий обрыв, за кручей которого, были видны тёмные стены передних домов. До деревни отсюда идти, и идти! Немцы сидели в деревне и постреливали из пулемета. Снежные бугры от деревни справа и слева немцы не занимали. Накануне и ночью немцы из артиллерии не били. Я думал, что мы без особых потерь преодолеем русло Волги, полезем на снежный бугор, и возьмем деревню. Справа от меня замелькали фигуры солдат соседнего батальона. Вглядевшись в белые очертания сугробов, я увидел, что вдоль пологого берега реки сложены крутые кучи камней. Мой сосед справа занял исходное положение за этими камнями. Немцы бьют по камням из пулемета, пули рикошетом убивают лежащих за камнями солдат. После длинной очереди из немецкого пулемёта, солдаты как воробьи от этой кучи разлетаются в разные стороны. Вижу есть убитые и раненые. Думаю, что соседний батальон, наступающий правее Горохово, в атаке захлебнется. Наше командование, видимо, решило из резерва бросить туда ещё одну роту. Рота вышла из леса и вошла в середину деревни. Немцы заметили движение солдат по деревне. И в тот же момент из-за горизонта на деревню полетели залпы немецких орудий. В дома ударило десятка два снарядов одновременно. Мы лежали в снегу и [при залпе немецких батарей] на фоне светлого неба, затянутого облаками, было видно, как к земле устремлялись чёрные точки [силуэты] летящих снарядов. Вот они на излёте стремительно пронеслись у нас над головой, мелькнули чуть сзади и в деревне [вскинулось пламя] раздались разрывы. Удары следовали непрерывно, сплошной чередой!
– 16 – Деревня была сзади нас метрах в ста. Удары снарядов о землю мы ощущали короткими толчками [качания земли не замечали]. Но вот часть немецких батарей перенесли огонь ближе к реке и ударили по замерзшему руслу реки. Немцы поставили мощный заградительный огонь на фарватере. Мы лежали и смотрели, как рушиться лед, как вздымаются мощные взрывы, как надламываясь поднимаются над поверхностью реки вздыбленные льдины, как кидается и пениться стремительная волжская вода, как она огромными темными столбами поднимается медленно к небу и рушиться с неистовой силой, застилая собой русло реки. Мы лежали и ждали, когда нам подадут команду в атаку. Может какие роты не успели выйти на исходные позиции? Почему с подачей сигнала тянут? %%% Мне казалось, что момент начала атаки срывается. Пока мы лежим, немец разобьет весь лед и придётся наводить переправу. На время нельзя полагаться [в нашей пятой ни у кого нет часов.] Телефонная связь оборвалась [в обрыве]. Телефонист закрутил своей ручкой. Я позвал ординарца, мы вскочили и подбежали к крайней избе. Недалеко за ней, на склоне бугра и оврага была отрыта землянка, в ней я видел сидели связисты. Телефонная связь оборвана, а они и не думают выходить на её исправление [линии связи]. Подбегаю к двери и рывком открываю её. Навстречу мне из землянки вываливает какая – то бабёнка и за ней наш комбат. Кому война! А кому хреновина одна! – говорю я вслух. Комбат, услышав мои слова, отстраняет рукой бабёнку и смотрит на меня в упор.
– Ты чего здесь?
– Ничего! Связь оборвана!
– Когда приказ будет вперед идти? Или мы до вечера лежать будем?
– Немцы лёд рушат! Потом вплавь пойдём?
– Командир полка даст команду! Я связного пришлю!
– Всё понял?
– Понял!
– А раз понял, давай вали отсюда! Я [улыбнулся,] посмотрел на него выразительно, сплюнул, повернулся и пошёл обратно в роту. Мы с ординарцем подходим к крайнему дому. Отсюда нам нужно и сделать стометровую перебежку. В это время слышится гул и сверху по деревне сыпятся снаряды. Крыша дома сползает набок и кругом все заволакивает дымом,
– Товарищ лейтенант! – слышу я рядом голос ординарца.
– Меня ранило в руку! Ещё удар и снова удар! Я пригибаюсь у стены.
– Кровь сильно течёт? Покажи мне руку!
– 17 -
– Подними её вверх! Держи вот так! Сейчас достану пакет и перевяжу. [сделаю перевязку.] Я замотал ему руку. Снаряды рвались где-то рядом правее.
– Беги по дороге! В лесу найдёшь нашу санроту!
– Руку не опускай! Бинт весь в крови! Ординарец хотел мне что-то сказать.
– Беги! – закричал я, услышав на подлёте [залп] новую стаю снарядов. Через секунду взметнулись разрывы, стена дома рухнула, труба с печки сползла в сторону и вокруг меня завизжали осколки. Я метнулся от дома вперёд и через некоторое время был уже в роте. Ординарец успел убежать %%%. [Теперь он бежит по дороге.] Может это и счастье, что его ранило в руку? Может, навсегда отделался от войны. Залпы один за другим следовали по деревни. Я посмотрел вперёд на русло реки, там тоже рвались снаряды [залпы снарядов]. Что нас, каждого, ждёт впереди? Смерть при переходе русла на любом из участков.
Не смерть страшна? – рассуждал я, глядя на вскипающую воду и летящие глыбы льда. Её не избежать, если на тебя вдруг [сверху при переходе] обрушатся снаряды. Страх перед смертью! – вот что кошмаром давит сейчас. [давит сознание, выворачивает душу и убивает волю]. А если в русле тебя не убьёт? Если ты добежишь до твердой земли, успеешь укрыться под бугор [через проломы и пробоины]? Переживания человека сильней, чем сама эта проклятая смерть и её ожидание %%%. Но если она вдруг [наступит] %%%нет над тобой? Ты смиришься [с ней и со %%%] потому что не будет надежды! Ну, а если преодолеешь русло? Добежишь до берега и останешься жив? Ты же на бугор полезешь и там можешь сложить свою голову! За бугром стоит деревня. Тебе её нужно брать! А за ней ещё одна и ещё, и ещё! Когда это произойдет? Когда ты встретишься со смертью? Что собственно лучше? Сразу отделаться? Провалиться под лёд? Или потом, под какой-нибудь деревней отдать свою душу? Что же все-таки лучше? Лучше сейчас? Или лучше потом? Русский Иван всегда надеется на авось. Авось пронесёт! Авось, лучше потом! Да, но сколько раз придётся рассчитывать на этот авось, если тебе предстоит воевать не день, не два, не неделю и не месяц? Из-за леса вдали, где сидели наши тыловики послышался рокот мотора и самолёт И-16 в количестве одной штуки, задевая за вершины елей, вывалил вперёд. Он пролетел полукруг над Волгой, стреляя из пулемёта. На снежном покрове правее нашей роты я заметил движение, послышались голоса, стали подниматься солдаты. К нам в роту прибежал батальонный связной. Поступила команда подниматься в атаку. Красной ракеты не будет. Ракетницы не нашли. Я поднял роту и мы, раскинувшись в цепь, пошли к руслу реки. Подойдя к краю вскрытого льда, каждый из нас на ходу стал выбирать твёрдую перемычку, по которой можно было перебежать на ту сторону среди [покрытых водой открытых воронок]. Повсюду огромные воронки и весь лёд покрыт водой. Топтаться на месте ни секунды нельзя. А куда ступать? Везде вода под ногами!
– 18 – Снаряды рвутся кругом и рядом. В любую минуту могут ударить и здесь. В любое мгновение роту может накрыть [огонь разрывов] десятки снарядов.
– Давай вперёд! Быстрей до твёрдой земли! – закричал я и ступил ногой на перемычку. Солдаты сразу [уловили обстановку] поняли, что к чему. Слева и справа, насколько было видно, к разбитой кромке взмокшего льда подходила извилистая сплошная цепь солдат. Вот она разорвалась на отдельные [звенья в] куски и скрылась в дыму от разрывов. Перед нами тоже встали огромные столбы вздыбленной воды, летящие глыбы льда, зияющие холодной стремниной, пробоины. Рота в сотню солдат вдруг замерла на краю водной пропасти от ужаса. Пулеметного огня со стороны немцев не было слышно. Кругом ревели снаряды и рушилась вода. Под ногами ломался лёд. Перед глазами всполохи огня и непроглядная дымовая завеса. Куда бежать-то, совершенно не видно.
– Давай вперёд! – кричу я и бегу под разрывы. Перед нами снова и снова вскипает вода, летят осколки и куски разорванного льда, [поднимаются фонтаны воды %%%%%%%%%].
– Давай вперед! – кричу я и бегу по краю промоины [под разрывы]. Солдаты падают, вскакивают, вскидывают руки, падают в промоины и исчезают в потоках воды. Вот снаряд откинул солдата ударной волной и шинель у нас на глазах расползается на отдельные части. Никто никого не спасает! Взрывы следуют один за другим. Под ногами пениться и бурлит ледяная вода. Где тут край пробоины, а где залитая водой перемычка? Снаряды с воем и грохотом взламывают новые глыбы, рвут последние узкие перемычки и затопляют всю поверхность русла водой. Где тут лёд, где плавающие в пробоинах льдины? Не поймешь, куда ставить ногу. И вдруг бегущие столбенеют. Они оказываются на краю бурлящей стремнины. Куда мы бежим? В какой стороне обрывистый берег, и [наше спасение]? Где наши и где немцы? Перед глазами летящая стена изо льда и воды. Кажется, что в лязге и грохоте снарядов мы бежим совсем в другую сторону. Земля поменялась местами с небом и мы летим в преисподнюю, ещё не убитыми. Дым, яркие вспышки, бесконечные удары, под ногами подвижка льда, перед глазами лоскуты шинелей, в ушах крики людей, падающие в воду солдаты: – всё это смешалось и превратилось в общий ужас, клокот и неистовый рёв. При ударе фугасных снарядов об лёд, они на время уходят под [воду] лёд. Затем перед нами взламывается лёд и огромный столб воды простирает свои потоки к небу. Ледяное месиво бьёт до боли в грудь и лицо, кажется, что тебя пронизывают свинцовые пули. Прикрываясь рукавом, некоторые оступаются и падают в стремнину [это месиво]. Но нужно бежать и бежать вперёд. Топтание на месте смерти подобно! И вот, наконец, под ногами твёрдая земля. Разбитое русло реки только что пройдено!
– 19 – Плешины воды, кровавые глыбы льда, ревущие снаряды остались сзади! Согнутые фигуры солдат вырвались из бушующего смерча металла, льда и воды и пробежали вперёд, под укрытие обрыва. Ещё два, три прыжка и всё позади! Считай, что от смерти ты в этот раз [ушёл] избавился. Татаринов со своими солдатами сидит под бугром и смотрит на нас. У него глаза вылезли из орбит, когда мы появились на краю воды из смерча и скрежета [полосы разрывов]. Рота Татаринова сухая и целая. А мы по горло в воде и тут же у него на глазах покрываемся белым инеем [белой коркой]. Но это ничего не значит. Татаринов знает, что мне идти на деревню. Приказа никто не отменял. Приказ был. Деревню брать мне. Связь с тылами отсутствует. Приказом не было предусмотрено, что моя рота покроется коркой льда. На снежный бугор, где стоит деревня, должна лезть пятая стрелковая рота. Я не считал и не стал проверять своих солдат. Сколько осталось живых и сколько ушло под воду. Сейчас важно было, что рота достигла берега и нужно быстрей подниматься на бугор и занимать деревню. Вся война вот так – быстрей и быстрей! На берегу мелькнули Черняев и Сенин. Я увидел их под бугром. Важно, что они живые!
– Вот этой расщелиной, – сказал я Черняеву, – поведёшь своих солдат вверх на деревню!
– Я следую со взводом Сенина. Подыматься буду прямо по утоптанной тропе к домам. [Выйду между домов.] Если нас положат пулеметным огнем, то ты ворвёшься в деревню, обойдя два крайних дома. Ты идёшь слева! Я прямо на бугор!
– Давай быстро наверх!
– Пока немцы не перенесли заград.огонь по бугру, подходи к ним ближе, меньше будет потерь! Немцев в деревне оказалось немного. Человек десять, не больше. Увидев нас у крайних домов, они заметались и побежали к середине деревни. Мы перешли улицу у них на глазах и они, видя, что мы не стреляем, бросились врассыпную наутёк. Выбежав из деревни и отбежав от нее метров сто, они загалдели, остановились на дороге и собрались в кучку. Деревню мы, как говорят, заняли без выстрела. Я прошел по деревне, вышел на окраину и стал рассматривать, впереди лежащее, открытое снежное поле. А в глазах по-прежнему мелькали фонтаны воды и слышался зловещий нарастающий гул немецкой артиллерии. Через какое – то время немцы опомнились, поставили пулемёт на дороге и дали в нашу сторону несколько очередей [трассирующими]. Я велел Сенину ударить по ним из пулемёта.
– Бей короткими очередями! Дистанция двести метров! Бери под обрез дороги! Режь пулемётчика под живот!
– 20 – Немцы лежали на дороге [на открытом поле], а мы стреляли из-за угла избы. Преимущество было [у нас] на нашей стороне. Получив несколько очередей, немцы сорвались с места и бросились бежать по дороге. Несколько слов о деревне Горохово: Дома в деревне стояли по обе стороны улицы. Расчищенная от снега дорога уходила круто вверх. Первый дом, когда мы вошли в деревню, не был занят немцами. Они, при появлении нас, стал выбегать из домов, которые стояли дальше. Один дом в середине деревни дымился. Но какой именно, я не обратил внимания. У меня перед глазами были тогда только немцы. По правую сторону от дороги стояли кряжистые стволы лиственных деревьев. Перебегая между ними, я с группой солдат стал преследовать немцев. Немцы не стреляли. После беглого осмотра домов, остальная часть роты следом за нами вышла на окраину деревни. Перед нами лежало [простиралось] снежное поле и уходящая вверх по нему расчищенная от снега дорога. После короткой перестрелки, когда побежали немцы, мы стали преследовать их по дороге. Мы шли, все время медленно поднимаясь [вверх] в гору. Где мы перерезали Московское шоссе, трудно сказать. Мы ожидали, что и шоссе, как дорога, будет расчищено от снега. А оно оказалось скрыто под снегом. По рельефу снежного покрова трудно определить, где тут шоссе, а где занесённая снегом канава. На ходу это не сделаешь. Поле покрыто метровым слоем снега. Сказать, где именно проходит шоссе, почти невозможно. [Нужна привязка карты к местности] Нужно по карте встать и сориентироваться,а времени на остановку [и ориентирование на местности] у нас в тот момент не было. Мы идем по дороге, а немцы драпают от нас. Они иногда останавливаются, посматривают в нашу сторону, но из пулемета больше не стреляют, подхватывают полы шинелей и пускаются наутёк. Деревню Губино мы увидели не сразу. Сначала показались трубы и засыпанные снегом крыши, а потом бревенчатые стены домов. Деревня стояла у самого леса. За деревней пушистые покрытые белым инеем кусты, затем заснеженное мелколесье, а за ним настоящий, с высокими елями, лес. Зимой он бел и светлее дневного облачного неба. И лишь у самой земли местами видны его темные стволы и зелёные лапы елей. Группа немцев, за которой мы шли, вбежала в деревню и посеяла панику. Мы видим, как [к ним] из домов выбегают другие солдаты. Их стало больше, но они с перепуга бегут из деревни. В деревню Губино мы тоже входим без выстрела. Дома в Губино стоят по одной стороне. Мы прошли деревню до крайнего дома и остановились.
– 21 – За крайним домом около дороги на вбитом в землю столбе прибита широкая доска жёлтого цвета с фирменной надписью чёрными буквами по-немецки.
– Товарищ лейтенант! – услышал я голоса своих солдат, подошедших к этой доске.
– Дальше идти нельзя! Дорога заминирована! Я подошел, посмотрел на указатель. На нём печатными буквами по-немецки было написано название деревни.
– Губино! – прочитал я.
– Гуу-бии-но! – складывая [куриной задницей] дудкой губы, произносили солдаты.
– Да не Гу-гу и не би-би! – сказал я. А просто, как по-русски, -Губино!
– Губино это по нашему. А по ихнему наверняка в растяжку! – упорствовали они. Все деревни вплоть до самой передовой имели указатели с названием деревень на жёлтых досках. В деревне Губино мирных жителей не было. Но в одной избе сержант Стариков захватил живого немца. Из рассказа пленного и доклада сержанта, вот как это случилось! Немец стоял на посту и сильно замерз, сменился с поста, пришел в дом и залез спать на печку. От тепла его разморило, он быстро уснул, но слышал во сне крики и голоса, и хлопанье дверьми. Он подумал, что его камерады, зольдатен, упустили свинью, которую они привезли с собой из под Зубцова. Во всяком случае, он видел во сне, как они бегали и ловили её по деревне. Отчего он проснулся, вспомнить не мог. Но когда снится свинья, это к плохому. Знакомые голоса за окном притихли и он уловил на улице непонятную русскую [чужую] речь. Скрипнула дверь. Он похолодел от ужаса. Он ясно услышал спокойную русскую речь. Сначала он подумал, что это ему снится. Но вот отворилась дверь, и на пороге в клубах белого пара показались русские. Немец предупредительно кашлянул, подал свой голос и стал осторожно, задом, спускаться с печи. Вот он нащупал ногой, стоявшую вдоль печи, узкую лавку и опустил на нее вторую ногу. Искоса посмотрев на сзади стоявших русских, он переступил ногами на пол и, не поворачиваясь к ним лицом, поднял обе руки вверх. Один из русских солдат подошел к нему, взял его за плечо и повернул лицом к себе. Перед немцем стояло трое русских, трое небритых, обросших щетиной солдат. Винтовки они держали на перевес. Летом, когда они, немцы, брали пачками русских в плен, то они ему казались какими-то худыми и маленькими. А эти стояли твердо на ногах и выглядели широкоплечими великанами. Немец мельком взглянул на русских, они спокойно и с интересом разглядывали его. Теперь ситуация войны изменилась. Теперь он, немец, имел тщедушный вид, а они стояли спокойно, как хозяева положения. Что-то теперь будет? – мелькнуло у него в голове.
– 22 – Зимой у наших солдат под шинелями были надеты ватники, и, по сравнению с ними, немец казался худым и тощим [заморышем]. От одного их вида у немца по спине побежали мурашки. Он долго не мог опомниться, но через некоторое время всё же пришел в себя. Он набрал воздуха в грудь и пролепетал решительно:
– Гитлер капут! Криг цу энде!
– Капут! Капут! – подтвердили они.
– Сейчас придёт лейтенант, допросит тебя! Он у нас по-вашему шпрехает! Сержант Стариков обставил солдат в избе. Велел смотреть за немцем. А сам пошёл на окраину деревни [доложить, что захватили пленного], где мы в это время с лейтенантом Черняевым решали, что делать дальше.
– Товарищ лейтенант! Пленного взяли! Там в третьем доме от края сидит! Двух солдат я с ним оставил! Я велел Сенину и Черняеву организовать оборону и пошел посмотреть на немца. Я вошел в избу и огляделся кругом. Вижу, живой немец стоит с поднятыми руками, а солдаты сидят напротив, на лавке у окна. Первый раз перед нами стоял живой и невредимый немец. Я велел ему опустить руки и попросил своих солдат освободить нам лавку.
– Немен зи битте пляц! – сказал я немцу и посадил его рядом с собой. Я хотел спросить у немца, какой гарнизон стоит в совхозе Морозово. Приготовил уже целую фразу, как вдруг кто-то икнул за печкой. %%% в том месте, где от зада печи к стене были перекинуты палатья.
– Ну-ка взгляни! – сказал я сержанту. Когда возникают необычные обстоятельства, обостряется память и всякое там прочее. Фамилию сержанта Старикова с того дня я запомнил [на всю жизнь]. Помню её и сейчас. Стариков шагнул к палатьям, отдёрнул висевшую на верёвке тряпицу и оттуда, из темноты закоулка, на божий свет показались две девицы. Вид у них был иностранный, похожи они были на гулящих девиц.
– Вот это дела! – произнес один из солдат, стоявший у двери.
– Немецкие фрау во всём натуральном виде! – потянул второй.
– Кто такие? – спросил я их по-русски. Девицы молчали.
– Шпрехен зи дойч? – последовал мой вопрос. Они упорно молчали.
– Парле ву франсе? – спросил я их. И они, как бы сорвавшись с места, предполагая, что я понимаю их язык, залепетали без всякой остановки.
А кроме Парле! Бонжур! и Пардон! – я ничего другого не знал.
– Пардон! – сказал я, повысив голос, давая понять, что разговор окончен. Они поняли и тут же умолкли.
– О чем они говорили? – спросил меня Стариков.
– Не знаю! Я французских слов знаю всего два, три. Они думают, что я всё понял. А я понял столько же, сколько и ты.
– 23 -
– Ладно сержант, с бабенками займемся после?
– Сейчас нужно немца по делу допросить!
– Нам нужны сведения о противнике. Штаб полка нам такие сведения не даёт. Мы по сути дела идём на немцев вслепую! Я хотел спросить немца, где находится их штаб, но на первой же фраз весь запас слов куда-то исчез. Я напрягал память, вспоминал отдельные слова и заученные фразы, но кроме глагола "хабэн" ничего вспомнить не мог. Не будешь же в каждом вопросе вставлять одно и тоже "хабэн". Хабен зи канонен? Хабен зи %%%%%%. Потом несколько успокоившись и собравшись с мыслями, я спросил его из какой он части, где находиться артиллерия и есть ли на данной участке фронта танки.
Мы идём к железной дороге и нам нужно знать, что делается там. – подумал я. В избу за короткое время набилось довольно много солдат. Всем хотелось взглянуть на живого немца и на двух иностранных девиц, которых поймали в избе. Слух по деревне обычно ползёт с невероятной скоростью. Я вначале растерялся и сделал упущение. Мне нужно было сразу поставить часового на крыльцо. Вскоре в избу явились Черняев и Сенин, растолкали солдат и, по праву встав в первый ряд, стали рассматривать захваченную компанию.
– Охрану сняли! Солдат распустили! Деревню бросили! Пришли на девок гулящих смотреть! – сказал я, оборачиваясь к командирам своих взводов.
– Ну вот что!
– Немедленно всем по своим местам! Кто мне будет нужен? Я вызову сам!
– В избе останется сержант Стариков с двумя солдатами!
– Сенин! Поставь у крыльца часового! И никого сюда не пускать!
– Шагом марш по своим местам! – приказал я. Дверь открылась наружу, белый облаком заволокло весь задний простенок избы. Немец и девицы от холода заёжились, мороз побежал по ногам. Солдаты стали нехотя выходить на улицу. На улице дул пронзительный холодный и колючий ветер. По такой погоде немецкие солдаты обычно сидят по домам. Часовые на постах больше часа не выдерживают. Если посмотреть на пленного, то он по сравнению с нашими русскими солдатами одет на летний манер. Жиденький воротничок у него поднят, пилотка натянута на уши, на шее верёвочкой висит [наверчено невероятного] какого-то грязного вида тряпица. Смотрю на него в профиль спины, мне кажется, что он вроде горбатый. Похлопав его по спине, убеждаюсь, у него и там куча тряпья, которой он прикрыл позвоночник.
– 24 – Мороз сейчас такой, что и в полушубке до костей пробивает. Велю Старикову снять с [него] немца ремень и завернуть полы шинели на затылок. Надо посмотреть, что у него на спине. На спине у него кусок рваного ватного одеяла, сшитого из цветных лоскутов, которые когда-то до войны были в ходу у деревенских жителей.
– Посмотри, – говорю я сержанту. Чем вшивые кавалеры прикрывают себе хребты!
– Ты ведь смотри! Чтоб тряпьё со спины не спадало, немец его вокруг себя верёвочкой обвязал.
– Изобретение века? – смеюсь я. Сержант опускает шинель.
– Хинаб! – говорю я немцу и показываю на лавку.
– Ну, а дальше что? – спрашиваю я немца,
– Вайтер? – переспрашивает он.
– Гитлер капут! Криг цу энде!
– Для тебя – то война кончилась! – сказал я вслух. А для нас она только начинается! На немце надеты кованые железом сапоги, шинель из тонкой и мягкой голубоватой шерсти. Стальной шлем был пристегнут к поясному ремню. Видно он ложился спать, снял его с головы и зацепил на ремень, чтобы не затерялся. Солдаты крутили немецкую винтовку. Щелкали пустым затвором.
– Чья лучше? Товарищ лейтенант!
– Немецкая тяжелей!
– Раз тяжелей, значит бьёт кучней и лучше!
– Попробыватъ надо! У немца взяли документы, забрали фотографии и поясной ремень. Как будто боялись, что он на ремне может повеситься. Мы думали, что пленных, как и наших, взятых под арест, нужно вести без поясного ремня. Всё это мы думали и нам казалось по первому разу. Потом мы с пленных не снимали ремни. После допроса, немца и девиц отправили под охраной в деревню Горохово. Там должно было быть наше начальство. Пусть допрашивают немца и позабавятся с девицами. По дороге в Горохово нашу охрану, девиц и немца встретили полковые разведчики. Отобрали у солдат всю компанию и велели солдатам идти назад в свою роту. Так пленный и девицы взятые нами, [стали фигурировать как (инициатива) добыча полковых разведчиков] перешли в руки разведчиков. Вместо того, чтобы от комбата получить одобрение и похвалу, за взятие деревни к уснувшего на печке немца, я получил от него недовольный выговор и втык. Он неожиданно появился в деревне Губино и заорал на меня:
– Почему остановился в деревне? Почему не выполняешь приказ? Я что, мальчик? Бегать за тобой!
– Допрашивал пленного! – спокойно ответил я.
– 25 -
– Какого ещё пленного? – заорал он.
– Нашего, которого мы взяли вместе с девицами.
– Тебе было приказано без остановки двигаться вперёд!
– А я что делаю?
– Почему не занял совхоз Морозово?
– Первый раз слышу! Мне приказано к исходу дня перерезать Московское шоссе и попытаться с ходу взять Губино. Вот я и здесь! А в Морозове по приказу мне положено быть завтра.
– Мне нужно Морозово! Ты понял, что мне нужно?
– Вот ты его и бери!
– Мне нужно! Мне нужно! А мне нужно [отдых дать солдатам!] высушить одежду на солдатах и дать им отдых хоть несколько часов!
– Тебе нужно Морозово, а мне нужно солдат накормить! [и обсушить] [А это, комбат, забота твоя.] Ты посмотри на солдат, они покрылись льдом. Ты видел, как мы Волгу форсировали?
– Через два часа тебя в деревне чтобы не было! Пойдёшь по дороге через лес, выйдешь на опушку и займешь оборону перед совхозом Морозово. Туда [пошлём твоего] пришлю старшину с продуктами. [Накормишь солдат. Два часа на отдых.] В шесть ноль-ноль перед рассветом по Морозово будет дан залп нашей артиллерии. После залпа поднимаешь своих солдат в атаку и цепью пойдёшь на Морозово. Всё понял?
– А что оно, Морозово, представляет собой?
– Увидишь, когда возьмешь!
– Ты берёшь Морозово, Татаринов переходит железную дорогу и поворачивает влево, в направлении на станцию Чуприяновка. Он берет станцию, ты прикрываешь его по полотну со стороны Калинина.
– Всё ясно?
– Давай вперед! Когда посланные с пленным немцем солдаты вернулись в Губино, роты в деревне уже не [было] оказалось. По деревне ходили связисты и растягивали провода. Солдаты спросили, где рота. Их направили в крайнюю избу к командиру взвода связи. Солдаты вошли в избу, лейтенант связист сидел на лавке, скинув валенки. Он у горящей печи сушил свои портянки.
– Нам пятую роту надо найти! – обратился к нему один из солдат. Нас посылали в Горохово. Мы отводили пленных.
– А вон сидит ваш политрук Савенков, спросите у него, он наверно лучше меня [в курсе дела] знает, где ваша рота. Политрук сидел за столом, брал из горячего чугуна [дымящего паром] вареную [в мундирах] картошку, снимал с нее ногтями аккуратно кожицу и вытянув губы старательно дул на неё.
– Ну что там ещё? – спросил он, не поднимая головы.
– Пятую роту ищем.
– Пойдёшь в лес по дороге, туда они и ушли [туда и ушла пятая рота]!
– 26 -
– Идите, идите, догоняйте быстрей! С дороги никуда не [собьётесь!] сворачивайте! Солдаты проглотили слюну, попятились назад, подались осторожно к двери, видя, что политрук чем-то недоволен. Они хотели попросить у него пару горячих картошек из чугуна. Но, видно, не сумели совершить к нему подхода. Савенков был назначен в пятую роту за несколько дней до перехода роты в наступление. За Волгой он явился однажды в роту, провел, так сказать, беседу с солдатами и сказавши, что занят делами в политотделе, из роты ушел. Он и во время выхода роты на лёд предусмотрительно где-то задержался. А теперь, чтобы не мозолить глаза начальству, на время обосновался во взводе связи. Здесь он был в курсе дела всех событий, он слышал все разговоры с ротой по телефону, отсюда он посылал свои политдонесения. Если бы его спросили почему он не в пятой роте, он не задумываясь сразу бы ответил, что он именно сейчас и идёт туда. Он прекрасно знал, что его место в боевой обстановке среди солдат. Но он из боязни за свою драгоценную жизнь избегал появляться в роте, понимая, чем это может кончиться. Рота без ротного, это конечно нельзя! [не то!] %%%% его Савенкова? Он политрук, мог и в тылу отсидеться! Савенкову было [около] тридцати. Он имел, как говорят, жизненный опыт и ему окрутить вокруг пальца молодого лейтенанта ничего не стоило. Сказал, ушёл по важным делам и возражать нечего! А будешь возражать, напишу в донесении [такое, что] что морально неустойчив, потом сам [лейтенант] будешь не рад. В роте он говорил одно, а в батальоне и полку другое. Он где-то до войны, как он сам говорил, работал инструктором по пропаганде. Таких Савенковых, возможно, было немного. И не в каждой роте встречались они [были такие Савенковы]. Но нам повезло, у нас был именно он. Тем временем рота, пройдя лесной массив, вышла на западную опушку и расположилась справа от дороги. Солдаты зашли в глубокий снег и легли. Метрах в ста впереди по моим расчетам должен был находиться, обозначенный на карте, совхоз Морозово. Мы тогда не знали, что тут был небольшой конный завод, вернее Морозовская конюшня. Время зимой бежит быстро. Светлая часть дня короткая. Не успеешь оглянуться, уже сумерки и долгая ночь. К середине ночи облака несколько рассеяло, с севера подул порывистый ветер и под ногами зашуршал и заскрипел мелкий снег. Солдатские спины согнулись, [в спины вцепился] покрепчал мороз. Я вспомнил немца с тряпьём, накрученным колбасой на позвоночнике. Может, мороз и ветер загонит в избы и тех, что стоят на постах в совхозе Морозово? Солдаты [повставали], пытаясь согреться, топтались в снегу. Стучали замерзшими валенками, махали руками. Никто из них спать не хотел.
– 27 – Да и мудрено было уснуть на таком ветру и морозе, в [промокшей] промерзшей одежде. Немцы [, которые] бежали из Губино, и свернули в сторону Калинина. На лесной дороге, ведущей к Морозово, свежих следов на снегу не было. Нас в совхозе Морозово немцы не ждали. После кормежки роты, из батальона прибежал связной и передал приказ. Роте занять исходное положение на опушке леса и ждать дальнейших указаний. Четвертая рота [к моменту наступления должна подойти] к рассвету подойдёт и будет находиться во втором эшелоне. Перед утром усилился мороз. Было трудно дышать. Холодный ледяной воздух жёг ноздри и лёгкие. При каждом очередном вздохе у некоторых солдат вырывается надрывный и мучительный кашель и свист. Небритые лица солдат неподвижны от холода, щетина покрылась инеем, одежда торчит колом, валенки стучат как деревянные [колодки] башмаки. Белые кусты и одетые снегом [отдельные лохматые] деревья стоят перед нами. Домов и постройки за белыми ветвями не видно. Но я знаю, что они стоят где-то рядом, в полсотне шагов впереди. Совхоз Морозово это старое название, оно теперь стёрлось из памяти жителей. Но место, где когда-то стояли сараи и дом, нетрудно и сейчас отыскать по старому пруду. Мы топтались в снегу, поглядывая [вперёд] на дорогу. И вдруг из-за леса, из-за нашей спины, там, где были [наши] тылы, послышался нарастающий гул летящих снарядов. В голове успело мелькнуть, что наша артиллерия хочет ударить по совхозу Морозове. Гул снарядов на мгновение затих и в ту же секунду обрушился на роту. Под мощный залп разрывов люди попадали в снег. Повалились друг на друга, кто где стоял. Человек в одно мгновение кидается к земле, надеясь в снегу укрыться от взрывов и спастись от осколков. Никто не подавал команды – "Ложись!" Каждый солдат своим ухом уловил звук [падающего] летящего снаряда и в доли секунды понял, что разбираться [куда падать] некогда. Весь залп, выпущенный из-за леса, по небрежности наводчиков, пришелся по опушке леса, где стояла пятая рота. От первого удара человек, обычно, сжимается. Одним ударом бича с силой напрягаются мышцы. Проходит, какой-то момент, напряжение в теле ослабевает. А тут через секунду следует [ещё] новый удар. Потом другой, ещё и ещё, с нарастающей силой. Снаряды рвутся среди лежащих солдат. И тело каждого [дёргается и] бьётся в конвульсии. От каждого нового удара людей кидает страшная внутренняя сила. Ни люди храбрые и обстрелянные, ни люди слабые волей и духом не могут противостоять непрерывным ударам и [реакции] рывкам нервной системы, она их кидает и дергает. Никто из живых не мог совладать с собой!
– 28 – Людей бросала [сжатая внутренняя пружина] какая-то сверхъестественная сила. Когда я падал, на меня навалились сверху двое солдат. Я оказался прижатым к земле их весом. Но вот разрывы снарядов стихли. Над снежной опушкой леса повис сизый дым. Люди зашевелились и стали подниматься на ноги. Я оказался внизу под солдатом.
– Ну хватит! Полежал и вставай! – сказал я, пытаясь подняться и толкая локтем солдата.
– Ты что? По голосу не узнаёшь? Что лежишь не на своём дружке, а на командире роты! Обстрел кончился. Он решил подшутить над своим [дружком] приятелем. Солдаты этак иногда делали. Но солдат не шевелился и не отвечал. Я движением плеча скинул его с себя в сторону и поднялся на ноги. Солдат лежал рядом на снегу, он был убит и уже не дышал. Все были подавлены и оглушены этим обстрелом. Одним залпом в роте выбило сразу шесть человек. Шесть солдат москвичей было убито, и ни одного раненого! На лесной дороге со стороны нашего тыла показались два солдата [,связисты полка]. Они бежали, разматывая провод и оглядываясь по сторонам. Вот они остановились, прислушались и завизжали своей катушкой. Подбежав к роте, они долго отдувались, хватая ртами морозный воздух и выпуская клубы белого пара. Отдышавшись, они забили в мерзлую землю металлический штырь, подсоединили к ящику телефона протянутый провод и молча сунули мне в руку телефонную трубку. Я не успел [ничего] сообразить. Я думал, что они мне дали просто трубку подержать, а в трубке ревел уже голос комбата.
– Ты почему не в Морозове?
– Мы расходуем реактивные снаряды! А он сидит на опушке леса и не чешется! Видно связисты запоздали с прокладкой провода. Они должны были размотать его до начала обстрела. Комбат делал вид, что во всем виноват только я. Он кричал в трубку, что я срываю наступление. А я терпеливо слушал и не перебивал его. Не стоит, подумал я, останавливать его крик. Пусть поорёт немного. А когда он кончит, я спрошу его насчёт обстрела по своим. И в самом деле, когда он выдохся, я спросил его: кто будет отвечать за убитых своей артиллерией.
– У меня шесть убитых! Чего молчишь?
– И потом, где приказ, чтобы я вышел на [занял совхоз] Морозово? Кто мне его передал? Я не обязан догадываться, что вы там задумали [с командиром полка, с Карамушкой].
– 29 -
– И потом учти: – Давай, давай! Это не приказ!
– Пришлёшь мне письменный приказ, я распишусь на нём, вот тогда и спрашивай!
– Мне нужно похоронить солдат! В роте убитые!
– Ты боевая стрелковая рота, а не похоронная команда! Этим займутся тыловики и политработники!
– Тебе нужно брать Морозово! И до рассвета ты должен быть там!
– Убитым ничего не сделается! Полежат на снегу, подождут!
– Командир полка приказал, чтобы совхоз через час был взят твоей ротой! Жди! Я сейчас сам приду к тебе! Я сунул трубку телефонисту и подозвал командиров взводов. Ночь была тихая, темная и морозная. Впереди слабо светятся холодные снежные сугробы. Тонкие ветки кустов покрыты мерцающим пушистым налётом. Снег скрипит под ногами даже тогда, когда не идёшь, а просто стоишь. Строения совхоза должны быть где-то рядом за поворотом [заснеженной] дороги. Я смотрю на карту и ставлю задачу взводам. Ровная, расчищенная и тонким слоем снега присыпанная дорога уходит вперед. Даже [в этой расчищенной совсем недавно дороге] в этом видна немецкая аккуратность [и образцовый порядок]. %%%%% на дорогах образцовый порядок. Сбежав из Губино, немцы повернули по другой дороге, которая ушла в направлении Калинина. На совхоз Морозово они не пошли. Повидимому здесь проходит раздел их полков и дивизий. Теперь по этой зимней дороге мы должны приблизиться к позициям немцев другой дивизии [совхоза Морозово]. Что [будет] там впереди? Как встретят нас при подходе к совхозу? Солдаты вышли на дорогу и в это время сзади роты появился комбат. Видя, что мы развертываемся для наступления, он молча повернулся и подался назад [остался стоять]. Мы нехотя и с трудом делаем первый шаг. Вот тронулись все и рота пошла по дороге.
– Используй темноту! [Это наше преимущество!] – [сказал он мне, когда вышел на дорогу] сказал я Сенину и Черняеву. Дорога делает крутой поворот, и из-за кустов и белых сугробов показались крыши домов. Немцы молчат! Я разглядел сквозь кусты казенной формы продолговатый дом и в стороне два сарая с односкатной крышей. Дом совсем не похож на обычные деревенские избы, а сараи напоминают станционные постройки. С каждым шагом мы приближаемся к ним, и каждую [томительную] секунду [растет наше волнение и мурашки ползут по спине] ждём первого встречного выстрела. Все напряжены, каждый хочет уловить первый прицельный [встречный] выстрел. Кому он достанется? Кто упадёт? Вижу, как пот снежной мукой выступает на лицах солдат. Один вытирает его рукавом шинели и всё время поглядывает на меня [в мою сторону].
– 30 – Стоит мне оступиться или замедлить шаг, солдаты сразу замрут на месте. И потом их не сдвинуть вперёд. Солдата нужно вести не останавливаясь, не давая ему передышки [и времени на размышление.] Я ускоряю шаг. [Что-то здесь в совхозе приготовлено роте? С каждым шагом напряжение растет. Все ждут встречного выстрела. [смотрят вперед и %%%%% И хотят уловить это мгновение.] Снег скрипит под ногами. Кажется, что этот звук слышен, как скрежет танковых гусениц, сейчас разбудит немцев и поднимет их всех на ноги. Мороз хватает за горло, давит [на грудь] и теснит дыхание. Клубы белого пара вылетают из ноздрей, Черняев что-то медлит и жмется сзади. Он посматривает на дом и на сараи из-за моего плеча и молчит. Сенин со своими топает чуть впереди. За ним только поспевай. Он знает, что медлить нельзя. За ним идёт вся остальная рота. Я иду между ними. Солдат Черняева я держу позади. Я могу их пустить в обход дома [в любой момент]. Но они понемногу начинают отставать. [А я останавливаться и ждать их не могу.] Я ускоряю шаг и машу рукой Черняеву. [Черняев что-то тянет. Когда он там справится со своими нервами и мыслями? (Черняев тоже начинает махать. Ускоряют шаг.)] Я кошу глазами и вижу. Солдаты все время посматривают на меня. Что буду делать я? Вот главный вопрос, который торчит у них сейчас в голове. Если я встану. Встанет вся рота, Сенин поймёт, что нужна остановка. Я это чувствую и не сбавляю хода. Я мог, скажем, Черняева или Сенина с двумя, тремя солдатами послать вперёд и осмотреть дом, а потом подойти к нему целой ротой. Но я сомневаюсь, что и на этот раз будет легкий успех. Две деревни без выстрела! На третьей мы должны споткнуться! Не может быть, чтобы немцы от одного нашего вида [будут бежать до Берлина] побегут и здесь. [Маленькая (небольшая) группа их может поднять вовремя на ноги.] Дом и сараи могут сразу ощетиниться пулемётным [дождём] огнём. Нужно скорей бежать к дому и сараям. Их нужно сразу окружать [целой ротой]. Я прибавляю шагу и солдаты послушно следуют за мной. Не меняя шага, я иду по припорошенной снегом дороге. Валенки отяжелели, ноги передвигаются с трудом. Я поворачиваю голову и смотрю назад, солдаты двумя [змейками идут] шеренгами движутся не отставая. Это хорошо! – думаю я. Без нас с Сениным они вперед не пойдут. После шести убитых и мощного обстрела у них на это не хватило бы духа. Если лейтенанты и старшина идут впереди и подставляют себя под пули, значит и солдатам нужно [двигать своими ногами] поспевать за ними. Если они сейчас упадут и уткнутся в снег, их от туда колом не [выковырять (выбьешь)] поднимешь. Нервы у всех напряжены до предела! Это как раз тот самый момент, когда дырявый череп смерти с ухмылкой смотрит на тебя в упор двумя провалами костлявых глазниц. Вот она протянула костлявые руки тебе навстречу и ждёт, когда ты хлебнув свинца попятишься назад, ткнешься коленями в дорогу
– 31 – и скажешь – возьми меня, мама, на ручки [начнёшь ловить последний вздох морозного воздуха]. Поворачиваю голову вправо, солдаты Черняева [плетутся за нами] нагнали нас и идут рядом. Они идут какой-то особой манере, каким-то [напряженным кошачьим] %%%нным вкрадчивым шагом. Стрельни я сейчас из нагана, они тут же метнутся, зароются в сугроб, и мы втроем останемся стоять на пустой дороге. Уж очень сжались и сгорбились они. Лица у солдат застывшие маски [от холода]. На лицах их не видно ни страха, ни ужаса. Только глаза воспалены от мороза и [чуть уже раскрыты, как у китайцев] ноги плохо гнутся в коленах. Но почему немцы [не стреляют] молчат? [Мы пошли вперед и] Теперь мы идём вообще на виду [по открытому со всех сторон пространству.] Может они хотят подпустить поближе и ударить сразу? А может [беспечно] спят и вовсе не думают, что мы [приближаемся к дому] подходим к крыльцу? Перед крыльцом [влево от дороги находится ровная] расчищенная от снега площадка %%%%%. В замерзшем окне виден отсвет горящей коптилки внутри. Мороз за тридцать градусов и на крыльце никого. Внутри горит свет, а на улице ни души. Где же часовые? Я подаю рукой знак Черняеву, чтобы он шел со своими солдатами к сараю. Сенин со своими словянами остается рядом со иной. Я слышу его дыхание у своего плеча. Он молча стоит и ждет [что я скажу ему] какую я подам команду. Я делаю ещё несколько скрипучих шагов, останавливаюсь и снова прислушиваюсь, что там внутри и слышу только своё собственное дыхание. Кроме него, ничего [другого не слышу] не нарушает тишину. Минуту стою и озираюсь. Смотрю на дом и на то, как подходит к сараям Черняев. И вот я решительно подался вперёд. Об опасности я больше не думаю. Наступает какой-то момент, и о ней уже мыслей нет. Подхожу к запорошенному снегом крыльцу. На крыльце свежих следов не видно. Я велю Сенину окружить дом с двух сторон.
– Поставь у крыльца четырёх, а у каждого окна по два человека!
– Без команды [пусть не стреляют] не стрелять! – говорю я ему тихо [вполголоса].
– Стрелять только тогда, когда немцы начнут прыгать в окна! Внутри дома находятся люди. Это мы сразу [почувствовали, если бы даже в окно не было света] увидели, учуяли. Хотя ни малейшего звука или шороха %%% наружу не долетало. Но и у нас чутьё в такую минуту, как у [гончих] легавых собак на стойке.
– 32 – Я махнул рукой и солдаты Сенина быстро окружили дом. Теперь немцы были в наших руках. Солдаты Сенина действовали расторопно и уверенно. Русскому солдату хоть малую малость [зацепиться за немца] почувствовать свою силу, хоть на минуту получить перевес! Тут уж храбрости не отбавляй! Тут солдата подгонять и торопить не нужно! Он полезет в любую темную дыру [напропалую] и со злостью зарычит, как фокстерьер на лисицу. Я стоял на первой ступеньки крыльца. Сенин замешкался. Нашлись сразу шестеро добровольцев подняться по ступенькам, открыть входную дверь и войти в коридор. Я [отошёл] сошёл с крыльца, разделил их на две части рукой и [рукой] показал, что сначала пойдут эти трое первыми [а следом, если нужно, последуют эти]. А вы трое последуете сзади. Внутри дома послышался надсадный кашель и тихий невнятный говор двух человек. Движением рукавицы я позвал за собой старшину и трех солдата, [показал] вошёл с ними на крыльцо и знаком велел им войти. Я [поднялся на крыльцо следом за ними] стоял на крыльце. Мне тоже нужно видеть, что и как произойдёт там внутри. Тихо взвизгнула дверь. В коридоре было темно и тихо. Под ногами старшины заскрипела половица. Скрип, как по душе, резанул острым ножом. Сенин с солдатами вошли в коридор в полной темноте. Где-то за дверью опять вполголоса заговорили двое. Теперь ясно слышалась немецкая речь. Вот чиркнула спичка и Сенин потянул, на себя ручку внутренней двери. Мерцающий свет коптилки сразу проник наружу в темный коридор осветил его лицо. Я вспомнил, как старшина переступал порог мерцающей обители монашенок во Ржеве. Зря я иногда ругаю его. Он в решительную минуту ведёт себя молодцом. Немец спокойно сказал старшине что что-то не совсем понятное. Из сказанного, я уловил лишь одно слово – "Битте!" Старшина видно понял, что его приглашают войти. Он решительно переступил порог тускло освещенной комнаты. До этого момента все шло спокойно к мирно. _ Но вот немцы увидели я комнате вооруженных русских солдат и вдруг завопили, и завизжали и заголосили так, что было похоже, что в комнате неумело режут молодую свинью. Я первый раз слышал, как пронзительно вопят и визжат взрослые мужчины. Как будто Сенин резал по-свински ножом. Один, обезумевший от страха немец, вскочил на подоконник и пытался прикладом выбить оконную раму и спастись бегством. Но несколько [дружных] выстрелов по верхнем части рамы наших солдат [стоявших снаружи] отбросили его назад. Он спрыгнул на пол, СОГНУЛСЯ пополам и ткнулся [лицом в пол] каской себе в колени. В других окнах соседних комнат на подоконниках вниз головой остались висеть несколько трупов. Я боялся, как бы те, что были снаружи, не застрелили нашего старшину и солдат.
– 33 -
– Стрелять только в немцев, какие прыгают из окон! – крикнул я солдатам, стоявшим за углом. Из задней комнаты немцы решили бежать. Посылались рамы и стекла наружу. Несколько человек успело выпрыгнуть вниз. За углом затрещали беспорядочные выстрелы. Остальные, видя, что мышеловка захлопнулась, побросали свои винтовки и подняли руки вверх. Они со страхом смотрели на[своих непрошеных гостей] нас с поднятыми руками при свете мигающих стеариновых фитилей. Они глядели ничего не понимая, как будто пребывая во [летаргическом] сне. Их легко было понять. До сих пор немцам всё было легко и доступно. Они [без особого труда] легко добрались о Волги. [Легко воевали.] А на такую наглость русских совсем не рассчитывали. Они были легко, по летнему одеты. На улице за тридцать градусов, немыслимый мороз, выходить наружу из теплой избы ПРОСТО безумие. Под касками у них были надеты летние пилотки, на шеях висели невероятного вида шарфы. Не хватает только галстука бабочкой, лакированных штиблетов с гамашами и тросточки в руках. 0 валенках и меховых рукавицах и нечего говорить. Слово валенки как таковое в немецком языке отсутствует. И дословно на ихний язык не переводиться. А звучит вроде как фетровые сапоги. Мы иногда говорим – Валять дурака. Это им совершенно не понятно. Фетр и войлок у них вырабатывают машинами, а не ворочают с боку на бок вручную и не валяют, как это делают у нас. Мы вывели захваченных фрицев на снег, пересчитали их вместе с убитыми. Их оказалось всего шестнадцать человек. Несколько убитых висело на подоконниках, трое валялись на полу внутри дома. На снегу от окна я увидел свежие следы. Возможно, двоим удалось бежать из совхоза, хотя стоявшие снаружи у окон солдаты клялись и божились, что не упустили ни одного. Я ещё раз осмотрел следы на снегу. Они шли двойной дорожкой от окон прямо в лес. Ясно было, что двое немцев сбежало из дома. Солдат стремится сначала соврать, чтобы выяснить, какое за это будет наказание. Он хочет скрыть свою промашу. Но я не стал уличать их словами. Я лишь показал им следы на снегу.
– Из-за вас, двух разгильдяев, потом погибнут другие, которые станцию будут брать! Осмотрев еще раз дом внутри и снаружи, я пошел к Черняеву, который находился у сараев. Двойные двери сараев были закрыты. Снаружи под каждую из дверей были подперты наклонные брёвна. Откинув брёвна в сторону и отворив двухстворчатые двери, мы все внезапно отпрянули и попятились назад. Из темноты сарая на нас смотрел орудийный ствол немецкого танка. Было такое впечатление, что вот он сейчас заворчит [мотором], поведет стволом, лязгнет гусеницам и тронется на нас. У нас даже спёрло дыхание от неожиданности. Но вот минута нашего замешательства прошла. Из танковой пушки в нас не стреляли, из пулемёта тоже не полоснули, мы были по-прежнему живы, целы и стояли в оцепенении. Через минуту мы начали уже
– 34 – соображать. Что мы могли сделать против танков, если у нас в руках %%% винтовки? Мы воевали без всяких правил. У них солдаты и танки, сотни орудийных стволов. А у нас [стрелковые роты] солдаты стрелки с винтовкой и обоймой всего в пять патрон. Но вот наконец солдаты зашевелились и осмелели. На черной стальной обшивке четко вырисовывались черные с белым немецкие кресты. Танк был мертв и холоден как лёд. Немцы повидимому загнали их в сараи, законсервировали на зиму и оставили до весны. Полагая весной пустить их в дело. По внешнему виду танки были совершенно новыми. Краска [на боках] нигде [не слезла, на поверхности ни одной царапины] не поцарапана и не задета. Гусеницы и ходовые колеса блестели, они были новые и совсем не сработаны. [Видно, что в Калинин их привезли железной дорогой на платформах тягачами.] Бензина у них не хватило? Или масло в моторах застыло? Так решили мы. Настоящая война для нас только начинается, хотя в действующей армии мы числились уже четыре месяца. Для нас всё было ново, незнакомо и необычно. Немцы, которых мы теперь брали в плен, по-прежнему были для нас неразрешимой загадкой. Они нас гнали по полсотни километров в [сутки] день, теперь зимой они боязливо бежали как зайцы, бросали деревни и без сопротивления сдавались нам в плен. Как их понять? Где тут зарыта собака? Нас посылают вперёд. На солдата не больше десятка патрон. [Мы гоним немцев.] Вот вам стратегия и тактика! И главное что? Мы ротой берём деревню за деревней, а [генерал наш Березин] Карамушко и комбат наверное считают, что это заслуга исключительно их. Конечно! Сейчас удача и случай на нашей стороне. Но не будем обманывать себя. Нас ожидает расстрел в упор в самое ближайшее время. Потому, что никто не знает, где нас встретят немцы мощным и беспощадным огнем. Я вспомнил слова комбата на счёт нашей стрелковой роты. Командиру полка в дивизии сказали:
– Гони их вперёд! У них мало потерь! Возможно, что мы здесь ничего героического не сделали. Подумаешь, взяли несколько пленных и два танка в качестве трофеев! На всём пути мы шли без особых потерь, смотрели смерти в глаза, а это в счет не идет, когда [мало убитых] солдат не убивает. И здесь, когда в открыли в сарае дверь, от страха и от ужаса мурашки у нас побежали по спине. Вот если бы танки стреляли в нас, и мы их забрали, вот это было бы геройство. А это даже подвигом [не считается!] не назовёшь [слово не подберёшь, чтобы нас похвалить]. Совхоз нами взят. Теперь он в наших руках. Но все мы страшно устали, солдатам нужен отдых.
– Ты Сенин сегодня отличился!
– Разрешаю тебе завести своих солдат в дом! Пусть заделают окна и отдохнут до утра!
– А ты Черняев займёшь со своими оборону! Ты со своими при подходе к совхозу пятился где-то сзади! Танки тебе достались без боя. До утра будешь нести дежурство! Справедливо или нет?
– Согласен!
– 35 -
– Если застану кого из твоих [солдат] спящими [на постах], продлю боевое дежурство в снегу ещё на сутки!
– Справите службу по честному, пущу в дом, разрешу полежать на полу! [часа через два пойдёте спать!] [В тепле разрешу отдохнуть!] Перед рассветом 6-го декабря в роту прибежал связной, посланный из батальона.
– Мне нужно докладать! – сказал ему комбат.
– А из роты нет никаких донесений.
– Сбегай посмотри! Взяли они совхоз Морозово?
[- При тебе в роту телофонисты дотянут связь. Доложишь мне лично обо всём по возвращении!] Солдат прибежал в роту и слово в слово передал мне задание комбата.
– Хорош гусь! Сначала он орал и грозился, потом сбавил тон [и приказал от имени командира полка], теперь послал солдата в роту с проверкой! – подумал я и ничего не сказал [солдату].
– Беги доложи! [У нас есть пленные! Два танка в сараях стоят.]
– Пусть присылает людей и конвоирует пленных!
– А это какая деревня?
– Это не деревня, а совхоз Морозово! Солдат убежал, а я подумал:
– Мы берём одну деревню за другой, вторые сутки без сна, но на ногах, без горячей пищи, мёрзнем на холоде, а он сидит в натопленной избе [да ещё понукает] и не догадается послать в роту кормёжку. А кто он собственно есть? Что он [может] делает? Рота берёт деревни! А он [спешит только с докладом] докладает! "Разрешите доложить? Я взял совхоз Морозово!" Разница небольшая, кто собственно взял. [Важно, что он отбит у немцев.] Карамушко тоже доложит, что он в ночь на шестое взял совхоз Морозово. Но непонятно одно. Как он мог, сидя за печкой, перерезать Московское шоссе, захватить Губино и ворваться в совхоз Морозово? В батальоне две роты. Четвертая и пятая. По боевой расстановке, пятая сейчас идет впереди. Четвертая следует во втором эшелоне. Нам повезло! Мы с ходу взяли Горохово, Губино и совхоз Морозово. Мы вклинились в немецкую оборону и находимся у железной дороги. А наши соседи справа и слева отброшены за Волгу. 920 стрелковый полк, наступавший на Эммаус, разбит и отброшен назад. 250-ая дивизия понесла потери под Городнёй и откатилась обратно за Волгу. Справа от нас полки из-за Волги ни на шаг не продвинулись [вперёд]. По рассказам телефонистов, немцы на них пустили танки, и малая часть их вернулась на исходные позиции. Телефонисты трепаться не будут! Раз у них от таких известий трясутся руки, значит они о деле говорят. Приятели по линиям связи всё передают друг другу. Наше начальство темнит. Чтобы и мы не сбежали, а сидели на месте
– 36 – [до последнего патрона. Это мы должны отвлекать на себя немцев], потому что мы единственные находимся на острие главного удара и проникли глубоко в оборону противника. Связисты размотали провод до самого крыльца.
– Товарищ лейтенант! Куда аппарат [ставить]?
– На крыльцо! Отсюда лучше видать!
– Может в дом? Там удобнее!
– Сказал на крыльцо! Телефонисты смотрят на меня и ничего не понимают. Они тянутся в тепло и надеятся, что я передумаю. Им [хочется] охота забраться в дом, устроиться с аппаратом поближе к печке. У них, привыкших к теплу и к широким деревенским лавкам зады. Им на морозе работать никак нельзя. Но они видят мой решительный взгляд, подключают аппарат [тут же налаживают связь] и подают мне трубку. Там, на другом конце провода [дожидается комбат] я слышу голос комбата. Он весь в нетерпении [ему нужно докладать начальству] и в трубку орёт
– Алё!
– Слушаю! – говорю я.
– Почему не по форме докладываешь? – кричит он.
– А ты орёшь на меня по форме? [Кто ты такой? Тебя я спрашиваю?] – спрашиваю я.
– Хочешь разговаривать, говори спокойней!
– Ты взял Морозово?
– Да, взял! Совхоз Морозово мы взяли без потерь. Есть пленные и убитые немцы. Пришлёшь солдат, направлю их к тебе. Они у меня в сарае вместе с танками дожидаются.
– С какими танками?
– В сарае два танка захвачены. На консервации были. Остальное мелочь: мины, снаряды, бочки с бензином под снегом.
– Тебе передали приказ?
– Какой?
– Перерезать железную дорогу и занять оборону!
– Дождёшься Татаринова. Теперь он с ротой пойдет вперёд. А ты его прикроешь по полотну железной дороги со стороны Калинина.
– Он будет брать станцию Чуприяновку? А ты будешь железную дорогу держать.
– Тебе всё ясно?
– Ясно! Я закончил разговор и отдал трубку телефонисту.
– Товарищ лейтенант! Слышали новости? Мне дружок по телефону передал. Наших спихнули за Волгу. Драпали все, вместе со штабными из дивизии. Нас могут с минуты на минуту отрезать. Вы куда будете отходить?
– Нам приказано не отходить, а наступать на станцию и идти вперёд. Дело [конечно] прошлое! Командир полка доложил, что он перерезал шоссе Москва-Ленинград. А сам бежал обратно за Волгу. "Вот только командир роты огрызается!" – потом жаловался ему комбат.
– А в чем дело? Чего он хочет? – спрашивал он комбата по телефону.
– 37 -
– Он войной недоволен.
– Требует отдых!
– Какой [сейчас] теперь отдых? Мы сами не спим! [Армия сверху давит]. Березин требует деревень. А эти мерзавцы, ротные, спать захотели! Ты с ним не рассусоливайся! Гони его вперёд! Комбата снять легко. Он из кожи лезет, за место держится. А командира роты не снимешь. Солдаты сами вперёд не пойдут. Я посмотрел на дорогу. На опушке леса показалась рота Татаринова.
– Черняев! – позвал я младшего лейтенанта.
– Пойди разбуди сержанта Старикова. Пусть возьмет с собой двух солдат. И давай его сюда на крыльцо! Через некоторое время Стариков и два солдата вышли.
– Ты пойдёшь прямо через лес к полотну железной дороги, займёшь там позицию и будешь наблюдать. Жди на месте нашего подхода. Мы пойдём по твоим следам.
– Ты Черняев иди к сараям. Отправь сюда немцев, а двери закрой как был. Я жду тебя здесь! [Встреча с Татариновым.] К крыльцу подошёл Татаринов.
– Здорово, лейтенант! Ты ещё жив?
– Здорово! Как видишь! – отвечаю я. Татаринов подходит к крыльцу и садиться на ступеньку.
– Давай закурим! – бодро говорит он. По дороге медленно идут его солдаты. Солдаты останавливаются и садятся в снег.
– Это твои убитые на опушке леса лежат? – спрашивает Татаринов.
– Мои! – отвечаю я.
– А кто хоронить их будет?
– Не знаю! Мне комбат указал, что я не похоронная команда, а боевая единица! Моё дело [смотреть только] идти вперёд!
– Мне звонил комбат и передал приказ. [Ты переходишь] Четвертая рота переходит [полотно] железную дорогу, идёт лесом в обхват и берёт станцию. А со своей с пятой [ротой] прикрываю вас от Калинина.
– Железную дорогу оседлаешь ты! – говорит Татаринов.
– Потом я перехожу полотно! [На полотно я обгоню тебя!] Встретимся на полотне!
– На полотне, так на полотне! – соглашаюсь я. Четвертой роте придали двух полковых разведчиков. Они без маскхалатов, как простые солдаты, с винтовками наперевес стоят у крыльца. Они пойдут на станцию впереди четвертой роты. Татаринов это дело [быстро] сообразил.
– 38 – Он долго уговаривал комбата. И тот потребовал разведчиков из полка. Вот как надо уметь жить! Я до этого не додумался! Мне конечно везло. Я брал [одну деревню за другой] деревни без потерь. Посмотрим как теперь повезёт Татаринову? Дорога от совхоза Морозова круто поворачивает влево и идёт вдоль полотна железной дороги. Но мы на поворот не пошли. Мы около него сходим в снег и идём по следам сержанта Старикова. Он с двумя солдатами на полотне и ждут нашего подхода. Кругом укрытый снегом кустарник и ели. Нас трудно обнаружить даже с близкого расстояния. Впереди просветлело. Мы пробираемся сквозь ветки и выходим на полотно"
– Всё тихо! – докладывает сержант Стариков. Я оглядываюсь кругом. Стальные рельсы с полотна железной дороги сняты. Белый ровный снег устилает выемку полотна. Я велю своим солдатам перейти на другую сторону и подняться на опушку леса. По обоим сторонам железной дороги я кладу в снег своих солдат. Обзор вдоль полотна в сторону Калинина [был] отличный. Пехоту мы отбросим! – думаю я. А вот, если танки пойдут, их на полотне не остановишь! С ружьями на танки не полезешь [пойдёшь]! Придётся с солдатами отойти в лес [поглубже]. Ляжем поглубже где-либо в снег, и пусть себе стреляют. Танки в лес не пойдут! Четвертая тоже отвалиться в лес! – так я рассуждал, посматривая вдоль полотна в сторону Калинина. Но зря я фантазировал. Немецкие танки сюда [по глубокому снегу] не пошли. Полотно не чищено, снегу выше колен. Солдаты мои лежат по краю обрыва у выемки [полотна], а я усаживаюсь в мягкий сугроб, достаю кисет и закуриваю. Теперь я жду пока четвертая рота перейдёт полотно. Вот юбилей! Ровно девяносто лет назад 5-го декабря 1851 года здесь прошел первый поезд с бесплатными пассажирами. Оглядываюсь на полотно и вижу. Пригибаясь к земле, через полотно мелкими группами начинают перебегать солдаты четвертой роты. Встаю на ноги, бросаю папироску, затаптываю её в снег, выхожу к краю полотна и иду им навстречу.
– Можете идти не пригибаясь! – говорю я им. До станции далеко. Станционных построек отсюда не видно! Зимняя ночь на исходе. Первые проблески света уже заиграли на снежных верхушках деревьев.
– А мороз всё крепчает! – говорю я Татаринову проходящему мимо. Он как будто глухой.
– Дух перехватывает на ходу! – добавляю я ему в спину [и иду следом]. Он не реагирует. У солдат на бровях белый снег, пушистым инеем покрылись [у него меховой воротник полушубка и клапана шапки-ушанки] шапки-ушанки. А мы с себя Волжские льдышки ещё [отскребли] не все сбили.
– 39 – Прошла еще одна группа солдат четвертой роты, пыля ногами сыпучий снег по узкой тропе. А сзади, за ней показался комбат. Он шел в сопровождении двух связных и ординарца. Мне тоже нужно подобрать ординарца – подумал я. А! Потом! – решил я. Сейчас не до этого!
– Ну как тут дела лейтенант? – спрашивает меня.
– Тихо кругом! Немцев не видно!
– Вижу! По насыпи немцы не ходят! Следов никаких!
[- Я тоже предполагал, что у них здесь дорога!]
– Ты вот что лейтенант! Снимай роту. Пойдешь на станцию следом за Татариновым. Я передал командирам взводов распоряжение комбата и моя пятая двинулась следом за четвертой. Я взял с собой сержанта Старикова с двумя солдатами и пошел догонять Татаринова [впереди четвертой роты.] Впереди идут два разведчика из полка, в двадцати метрах сзади двигаемся мы, а за нами солдаты четвертой роты. За четвертой где-то сзади идут мои. Я должен дойти с Татариновым до исходного положения, до той самой черты, откуда он поднимет своих солдат и поведёт на станцию. Мы идём по глубокому снегу среди высоких заснеженных елей. [Наши где-то слева] Полотно железной дороги слева. Мы [несколько углубились в лес] идем %%%%% по опушке не углубляясь в лес. К станции мы подходим [, как говорят,] охватом.
В чем дело? – думаю я.
– Почему вдруг сюда явился комбат?
Когда мы шли через Волгу по вздыбленному льду и по открытому полю поднимались на Губино, в ротах его не было, он нам не показывался. В Губино, когда мы подошли к лесу, он ночью явился и выгнал меня с ротой вперёд. Он – сибиряк и видно без тайги жить не может! Немцы леса боятся, а ему чистое поле на нервы действует. В лесу, конечно, лёг за толстый ствол и ни одна пуля тебя не возьмёт! Два небольших бревенчатых дома, одна черная от копоти баня, обшитое досками здание станции, вот собственно, и всё, что увидели мы из-за деревьев, когда приблизились к краю леса.
Всего четыре постройки! – думаю я. Татаринов их заберёт без труда! Впереди за деревьями видны печные [кирпичные] трубы, укрытые снегом крыши, [с нависшими шапками вниз], темные рамы окон и замороженные стёкла. 7
– В этих двух первых домах живут! – говорю я, показывая их Татаринову %%%%% на крыльцо. Внизу у крыльца валяются дрова, и какие-то темные предметы. Наше внимание сосредоточилось на [крыльце] них. Татаринов махнул рукой назад и его солдаты повалились в снег. Мы стояли за двумя [мощными] стволами елей.
– Давай! – сказал он разведчикам. И разведчики тронулись с места. Впереди было открытое [пространство] место.
– 40 – Мне бы нужно было пойти назад в свою роту, но я, как в полусне, стоял и не мог оторвать глаз от домов. В этот момент оттуда прозвучали два винтовочных выстрела. До домов было метров сто, не больше. Я увидел, как оба разведчика стали припадать и валиться к земле. Ещё два выстрела последовали тут же за первыми. Тела разведчиков дернулись и безжизненно опустились в снег. Мы с Татариновым оказались за стволами елей и поэтому не попали под прямые выстрелы. Мы стояли неподвижно, пытаясь рассмотреть, откуда бьют немцы. Их ружейные выстрелы были очень точны. Разведчиков спасти уже было нельзя. Их тела ещё раз вскинулись над снегом, видно немцы для верности ударили в них еще [раз]. Солдаты Татаринова лежали сзади. Среди них появились раненые. Откуда стреляли немцы, мы никак не могли понять. Я оглянулся назад. Нужно было немедленно принимать какие-то меры. Мы с лейтенантом Татариновым оказались отрезанными от своих солдат. Я сделал перебежку и со стороны домов мне вдогонку ударили выстрелы. Но я оказался проворным, успел добежать до толстого дерева %%%%%нуть за него. Я [поднялся за елью и] посмотрел на Татаринова. Ему было теперь сложней уходить назад. Он мог запросто получить пулю вдогонку. Немцы видели откуда я выскочил и теперь могли караулить его. Но потом я подумал. За раздвоенной елью они нас не видели. И не предполагают, что там остался второй. Вот он кинулся назад, выскочил из-за снежного куста и побежал в мою сторону. Я смотрел на окна, крыльцо и углы дома, стараясь засечь дымки выстрелов, определить, откуда бьют немцы. Но ни движения фигур, ни вспышек выстрелов не было видно.
– Татаринов! Отведи свою роту назад! – услышал я голос комбата. Неужели, подумал я, он сюда в роту явился. Я обернулся. Комбат действительно стоял [в отдалении за елью] метрах в двадцати сзади.
– А ты лейтенант!
Он видно забыл, или не знал мою фамилию.
– Ты, бери свою роту и обходи станцию по той стороне железной дороги.
– Зайдёшь им в тыл! И ударишь им из-за насыпи с той стороны.
Вот это дело! – подумал я. Давно бы ему пора ходить вместе с ротами. Четвертая подобрала своих раненых, отошла [глубже в лес] и залегла в снегу. Теперь они будут ждать, пока я обойду с другой стороны станцию. Кто-то из солдат даже отважился стрелять. Со стороны четвертой роты послышались редкие выстрелы. Я со своими отошел назад, перешел полотно и, минуя дорогу, пошел по кустам. По высоким и густым кустам я стал обходить два домика и здание станции. В кустах покрытых белым [налетом] инеем на десять шагов впереди ничего не видно. Кругом бело и одно небо над головой. При такой видимости трудно определить своё место [на земле] по отношению к станции. В кустах нет ориентиров.
– 41 – Пушистым белым пеплом снег [слетает вниз] сыпется с веток вниз. По глазам хлещут ветки. [Нет складок местности!] Как держать направление? Но я нутром чувствую, что иду правильно и всё будет хорошо. Мы идём, поторапливаемся, высоко вскидываем ноги. Потому, что в кустарнике лежит рыхлый и глубокий снег. По моим расчетам станционное здание мы уже прошли. Рядом со мной идёт мой новый ординарец. Мой [верный] помощник и связной [советник и друг]. Перед выходом в кусты я сказал сержанту Старикову, что забираю у него одного солдата.
– Что поделаешь! Вам тоже нужен толковый солдат!
Мне нужен живой человек и надёжный помощник рядом. А то я с самой Волги один и один. %%%% за кем нужно послать. [Молоденький паренек из Москвы.] Пятая рота в основном была московская. В роте были [в основном] пожилые солдаты, и молодых [осталось всего ничего, один или два] десятка два. Мы были с ним одногодки. Нам было тогда по двадцати. Сказать по правде, пожилые солдаты до сих пор, называли меня иногда сынком! Мне они этого но говорили, а между собой иногда употребляли это словечко. Отчего бы это? – рассуждал я в свободные минуты. Нужно делать поворот! Вот и край кустов! Сквозь пушистые ветки я вижу здание станции и крутую заснеженную насыпь, уходящую в сторону Москвы. Деревянное здание и сейчас стоит в том же виде, как и тогда. Мы поднялись на насыпь. Перед нами открылась удивительная картина. Слева у %%%%, под обрывом, дымила немецкая кухня. От неё в нашу сторону шел приятный и сытный запах съестного и слабый дымок. Правее на крышах домов, покрытых толстым слоем снега, задом к нам, растопырив ноги, лежали и целились немцы. Их было по четыре на каждой из [этих двух] крыш. Это те самые, которые убили разведчиков, которые нанесли ранения солдатам четвертой роты. Это те, от которых я так прытко бежал. Сверху им было всё видно, как на ладони. Они целились деловито, стреляли наверняка, перезаряжали свои винтовки спокойно, не торопясь. Они и теперь, когда мы зашли им в тыл, лежали и постреливали в сторону четвертой роты, как на стенде по тарелочкам. Нам тогда даже в голову не пришло посмотреть на крыши домов. Немцы настолько увлеклись своей удачной охотой, что подпустили нас на два десятка шагов. Мы рассыпались цепью полудугой и охватили сразу эти два дома и кухню. Когда до домов оставалось всего ничего, кто-то из солдат не выдержал, нарушил мой приказ не стрелять и выстрелил. Хотя я предупредил всех, что немцев будем брать у самых домов. Они сами сползут к нам в руки с крыш. Каждый знал, что я стреляю первым. Одиночный винтовочный выстрел без времени сделал своё гнусное дело. Немцев со снежных крыш как ветром сдуло.
– 42 – Солдаты, увидев пустые крыши, открыли беспорядочную стрельбу. Теперь стреляли по упряжке лошадей с немецкой кухней. Хоть бы её удержать! Огромные "Першероны" с круглыми боками, лохматыми ногами, рыжими гривами, с короткими, как у собак, обрубленными хвостами, стояли в парной упряжке под обрывом. Они спокойно позвякивали стальными цепями и сбруей. Забегу несколько назад.
– Что это за порода немецких лошадей с короткими хвостами? – спросил я пленного немца, которого мы захватили в Губино. Я видел как удирала повозка из деревни запряженная такими лошадьми.
– Першерон! – ответил он. Это порода лошадей тяжеловозов из области Перш, что на западе Франции.
– Так это французские, и вовсе не ваши, не немецкие! – сказал я. Немец не ответил и промолчал. Но вернёмся к кухне. Два немца копошились возле неё, когда мы открыли беспорядочную стрельбу [в её направлении]. Один из них толстый, видно сам повар, стоял к нам спиной, заложив руки за спину. Другой ненец потоньше, дежурный солдат по кухне, клал в топку дрова. Когда эти двое услышали выстрелы, обернулись назад и увидели нас, они завертелись на месте. Повар схватил вожжи и кнут и стал нахлёстывать лошадей, но кованные колёса тяжелой кухни не сдвинулись с места. Лошади дёргали, приседали на месте, храпели, били ногами, а подложенные под колеса два толстые [бревна] полена примерзли к дороге и не давали кухне тронуться с места. Сами колёса, как выяснилось потом, были затянуты тормозными колодками, а поленья облиты водой. Беспорядочные выстрелы подхлестнули кухонных работяг. Толстый немец закричал на тощего. Тот схватил топор и перерубил постромки. Толстый прыгнул на хребет лошади, дёрнул их за поводья и лошади рывком рванулись вперёд. А тот с топором обезумел от страха, что его бросил толстый, остался стоять как истукан. Видя бегущих к нему русских, он бросил топор и пустился бегом по дороге. Впереди по дороге, набирая скорость, верхом на Першеронах, удирал галопом повар, а сзади, вскидывая высоко вверх коленками %%%%% вдогонку тощий немец. Когда каши солдаты подбежали к кухне, немцы уже были от нас далеко. Да и не убегающие немцы наших солдат интересовали. Повар нахлестывал лошадей, тощий, махая руками, что-то кричал вдогонку ему. Дорога, по которой драпали немцы, все время поднималась по склону вверх. Господствующая высота хорошо просматривалась вместе с дорогой до самой деревни. Деревня стояла высоко на бугре. По карте она значилась Чуприяново. Отсюда, наверное [собственно], и произошло название станции – Чуприяновка.
– 43 – Кухня, отбитая у немцев, была для [нас] солдат самым дорогим и ценным трофеем. Танки в сарае, снаряды в снегу, пленные немцы шли нашему полковому начальству для получения орденов и составления боевых отчетов. Как вы думаете? Перепадёт командиру полка, если он доложит в дивизию, что он взял два исправных танка и десяток немцев в придачу? Такой доклад чего-то стоит! Танки и пленные шли для отчёта в верха, а кухня, с мясным запахом, немецкой анисовой водкой и вишневым компотом без косточек, была, так сказать, божественной наградой для наших солдат за холод и голод, за нечеловеческие страдания и муки. Я велел ординарцу вынуть из кухни металлический бачок с тридцатиградусной анисовой и низкому сверх положенной нормы её не давать.
– Ни грамма, ни капли! Понял?
– Макароны с мясом и вишневым компотом пусть от живота едят! А к водке за сто шагов никого не подпускай! Вот дела! Потешились на кухне солдатики! Дай бог! Отведем душу теперь! Это видно сам Создатель сжалился над нами? В деревянном здании станции, где сейчас находиться касса, зал ожидания, служебная диспетчерская, и где сейчас живет Серафима Петровна Ефимова со своей семьёй, со времён войны мало что изменилось. При немцах в здании станции была конюшня. Когда мы взяли станцию, постоя лошадей здесь уже не было. На полу лежал застывший навоз. Окна и двери были сорваны. Ветер гулял в доме насквозь. Жилыми и теплыми оказались два дома, с крыш которых стреляли немцы. Они стояли ближе к переезду. Здесь, в этих рубленых домах располагалась немецкая санчасть, и стояли зубные кресла. В одном доме стояли два белых кресла, с бурмашинами и со стеклянными шкафами, с лекарствами и инструментом. В другом доме, повидимому, жил врач и санитар. В обоих домах было чисто, светло и жарко натоплено. Солдаты заходили с мороза погреться, и каждый своим долгом считал посидеть в зубном белом кресле перед сном. Солдат удобно садился, клал голову на подставки и руки на подлокотники и [вслух вспоминал] как однажды ему я молодости сверлили зуб. Он лез грязным пальцем к себе в рот, нащупывал, старую пломбу и тыкал в неё, показывая солдатам, при этом выл, скривив рожу, вроде от боли. Другой садился и [тыкал] показывал пальцем в пустое место в десне. Вот мол откуда ему вырвали [больной] зуб. Вот на таком кресле сидел тогда. – Хотел золотую коронку вот сюда на передний поставить, да война помешала!
– Завтра тебе немец свинцовую пломбу поставит!
– Ты нам зубы не заговаривай! Посидел и совесть надо иметь!
– Дай другому посидеть! Здесь портянки перевздеть удобно!
– Посидел в мягком кресле и давай слазь! Ты ещё вшей здесь начнёшь
– 44 – давить бурмашиной!
– Я никогда братцы зубы не сверлил. У нас этого безобразия не было!
– А как же быть, когда зуб болит?
– Привяжешь его суровой ниткой за дверную ручку и ждёшь, когда кто пойдет снаружи и за дверь дёрнет! Дёрнут за ручку и зуб на полу!
– Ну-ка подержи винтовку! Я сяду примеряюсь в кресле! А то убьют и никогда не сидел! Солдат садится в кресло, кладёт голову на подзатыльники, руки опускает на подлокотники и с грустью смотрит на замысловатую бурмашину. Ведь кто-то и доживет! Сядет вот так! Сверлить ему будут!
– Нам с тобой браток помечтать только можно маленько! Буровой станок с ножным приводом поблескивает перед ним [окном].
– У этих немцев всё не как у людей! У самой передовой и пожалуйте – зубной доктор ставит пломбы! Я вышел на воздух, а разговор в доме продолжался. Упустить такую пару лошадей! – вспомнил я перестрелку на кухне [без надобности]. В общем, шуму наделали много, а попаданий ни одного! Ни дохлой лошади, ни одного убитого немца! Когда я подошел к кухне, здесь крутились любители по третьему разу поесть. Кухня стояла у поворота дороги, у песчаного обрыва. Сюда из [глубины местности] небольшого овражка вела узкая снежная тропинка. По тропинке, из покосившейся тёмной баньки навстречу мне шла пожилая женщина, малец лет двенадцати и маленькая светловолосая девочка.
– Милые, родные! – сказала женщина, подойдя ближе.
– Наши пришли! – обратилась она к детям. Дети стояли, смотрели на нас и молчали. Женщина подошла ко мне, обняла меня и заплакала. Потом она долго стояла, смотрела на наших солдат [и молчала]. А солдаты взглянули раз на нее и опять стали толкаться у кухни.
– Вы откуда будете? – спросил я её.
– Девочка местная. А я с мальцом из Калинина, Есть нечего. Вот я и прислуживала здесь у врача. Полы мыла. А жили мы с мальчиком вон в той бане. Девочка приходила к нам, вот как сейчас.
– Накорми женщину и детей! – сказал я Сенину и пошел к домам, где сидел Черняев. Когда пятая рота выбила немцев со станции, четвертую отвели на тропу, по которой мы пересекали полотно железной дороги. Один взвод оставили на полотне лицом к Калинину, а с другим Татаринов ушёл охранять совхоз Морозово, где находился комбат. В общем, всё осталось по-прежнему. Мы сидели впереди, а четвертая нас прикрывала сзади.
– 45 – На войне часто зад оборачивается передом и всему приходит свой черёд и конец! Я вспомнил слова Татаринова
– "Как ты думаешь? Дойдем мы до шоссе?" Если он всё время будет идти позади, он дойдет не только до Ржева.
Я разогнал солдат от кухни. Велел Сенину поставить всех на свои места. Не успели солдаты разобраться по своим местам в обороне, как мы увидели, что со стороны деревни Чуприяново, что стоит вдалеке, на господствующей высоте, вниз по дороге в нашу сторону спускается группа немцев человек двадцать.
– Всем лежать и рожи не высовывать! – крикнул я громко и велел Сенину приготовить ручной пулемёт.
– Пусть думают, что на станции нет никого! – сказал я громко, чтобы все слышали. Пулемёт поставь над обрывом около кухни! Там место повыше! Оттуда все хорошо видать! Всем взять дорогу на прицел и без моей команды не стрелять!
– К самым кустам будем подпускать!
– Стрелков предупреждаю! А то опять найдутся небесные олухи! – И я им погрозил кулаком. Немцы были ещё далеко. Солдаты лежали и посматривали на меня.
– Немцы с дороги не сойдут! Снег по обочинам дороги глубокий!
– У них голенища на сапогах короткие! Они народ цивилизованный! Простуды бояться!
– Целиться всем по дороге, где начинаются кусты!
– Прицельную планку поставить на двести метров!
– Сейчас расстояние до немцев пятьсот!
– Можете наблюдать! Но никому не стрелять! Откроете огонь, когда я громко подам команду – Рота к бою! Вниз по расчищенной и укатанной дороге идти было легко. Немцы даже кое-где подпрыгивали, когда по снегу скользили у них сапоги. Я лежал, смотрел и ждал, когда они подойдут поближе. Через каждую сотню метров я объявляю дистанцию до них. Прицел, прицелом – думаю я. Но нужно уметь стрелять и попадать в подвижную цель. А сейчас у солдат мурашки и мондраже от непривычки и волнения. Откроют пальбу, а пули уйдут в молоко. Как пить дать! Я уже их проверил! Я поворачиваю голову направо и зову к себе солдата.
– [Подползи сюда!] Быстро ползком ко мне!
– Ты так лежи! Смотреть будешь! А винтовочку со штыком дай на время мне!
– Ладно, товарищ лейтенант, берите! Она у меня прилично бьёт! Я лёг поудобней, прикрыл один глаз, выбрал условную точку на дороге и посмотрел на линию прицела.
– 46 – Ещё полсотни шагов! Пусть подойдут! Я дам один точный выстрел. Немцы ничего не поймут.
– Никому не рыпаться [стрелять]! Пулемётчикам тоже! Я буду один стрелять!
– Буду стрелять одиночными! – крикнул я и посмотрел на солдат.
– Все слышали? Солдаты молчали. Двести метров обычный огневой рубеж. Мишень в полный рост, как на стрельбище из положения лёжа. Разница только в одном. Там мишень из фанеры, а здесь она живая. Пуля войдет в мягкое податливое тело без единого звука и щелчка. Свист ее слышен, когда она пролетает мимо [тебя]. Остальные, что идут рядом, даже не дрогнут. Делаю глубокий вздох и медленный выдох. Успокаиваю своё дыхание и расслабляю мышцы. Бедра и ноги чуть подаю вперёд, чуть влево. Закрываю глаза и считаю до пяти, смотрю на прорезь и мушку. Винтовка осталась на месте. Это моя точка прицела. Сейчас на неё подойдёт живая мишень. Сейчас к этой точке шагнут сверху немцы. Кто из двадцати перекроет [грудью] её? В этого одного я спокойно и выстрелю. Это ничего, что он живой. После моего выстрела он станет фанерным. На уровне груди я ударю ему только один раз. Этого будет достаточно, потому что я [бью точно] на двести метров из яблочка не выхожу. Патрон в патроннике, палец на спусковом крючке. Крючок нужно легко потянуть на себя, освободить собачку бойка. Всё это говорю я себе, чтобы не торопиться, в этом деле первое – спокойствие! Вот над прорезью показались сапоги и коленки, затем появилась ширинка и наконец поясной ремень. Еще два шага и мушка уперлась в грудную клетку.
– Не торопись! – говорю я сам себе. Солдаты смотрят на меня. Ищут глазами, с кем я разговариваю. Я медленно и не дыша подтягиваю на себя спусковую скобу, чем медленней её ведешь, тем лучше! И вот раздается выстрел. Собственно, самого выстрела я не слышу. Я ощущаю только резкий удар приклада в плечо. Винтовка чуть прыгнула и встала на место. Я смотрю на линию прицела и вижу на мушке немецкую грудь. И вот немец взмахнул руками, поскользнулся на укатанной дороге и нагнулся вперёд. Потом он, как пьяный, широко расставил ноги и [неожиданно] ткнулся головою вперёд. Совершенно не думая, что я убил человека, я легким движением кисти, не отрывая локтей от опоры, перезаряжаю затвор. Смотрю на прицел и вижу, у меня на мушке новая мишень во весь рост. Снова удар в плечо и снова споткнулся немец. Никаких сомнений. Этому я точно угодил в живот. Немец делает всплеск руками, как жест сожаления, падает на колени, поднимает руки к небу и, как мне кажется, движением губ
– 47 – произносит – "О майн Готт!" Вот и второй предстал перед всевышним с молитвою на устах! Говорят, что немцы не православные, а евангелисты, протестанты и католики. Все равно не нашей веры! То, что я убил двух рабов божьих, это не грешно! Я делаю еще один выстрел на набежавшего немца. Вот когда вся группа сразу остановилась. Они думали, что первые двое просто споткнулись. Хочу ещё раз уточнить. Передо мной был кустарник. Я стрелял между тонких белых веточек, покрытых пушистым налётом снега. Мои встречные выстрелы были приглушены. Немцы их почти не слышали, дело в том, что когда пуля летит на тебя, подлёт и удар её происходит без звука. Свистят и жужжат только те из них, которые пролетают где-то в стороне или выше. Полет пули слышно, когда она уже пролетела мимо. Свою пулю солдат никогда не услышит! А эти три свинцовые вошли в немцев беззвучно, мягко и гладко. Когда первый немец вдруг ткнулся в снег, о нём наверно подумали, что он споткнулся. Убитый пулей в грудь от паралича дыхания не успевает даже пикнуть. Второй, которому она попала в живот, вероятно вскрикнул. А я в это время на мушку поймал третьего.
– Вот и пришла расплата за наших разведчиков! Два на два! И одного им впридачу на будущее!
– Око за око, глаз за глаз! – сказал я и посмотрел на своих солдат.
– Все видели, как надо стрелять! Теперь я посмотрю, на что вы способны?
Я посмотрел на дорогу, на немцев. Они пятились задом, ожидая новых выстрелов. Они пятились по дороге, как от гремучей змеи, которая жалила насмерть, выбирая себе новую жертву.
А что они собственно могли? Они были на открытом месте. Если они разбегутся и попадают в снег, то это будет их роковая ошибка. Нас не видно. Мы за пушистыми кустами. Посмотреть на причудливый иней – неописуемая красота! Если они будут спокойно лежать, я перебью их всех по одиночке. Прицеливаюсь я точно. Стреляю не торопясь. Но по бегущей назад мишени точно не выстрелишь, торопиться начнёшь.
– Рота! Приготовиться к бою! Прицел двести метров! Целиться под пояс! Стрелять не торопясь! Внимание! Огонь!
Затрещали выстрелы. Полоснул пулемет. Немцы мгновенно развернулись и бросились бежать, оставив на дороге троих убитых. Пулеметчики били, солдаты стреляли и ни одного из бегущих никому не удалось подстрелить. Немцы рысью добежали до деревни и скрылись между домами.
– Дело плохо! – сказал я сам себе. Полсотни стрелков, ручной пулемет, и ни одного попадания. Страшно то, что это уже не первый раз.
– 48 – Потерять уверенность в себе можно с первого раза. Солдаты чувствуют свою неуверенность и отводят глаза. А на ходу этому не научишь!
– Противно смотреть! – говорю я громко, отворачиваюсь, качаю головой и театрально сплевываю в снег.
– Простого солдатского дела сделать не могут!
– С котелками около кухни горазды. Куда! Вот бог послал солдатиков! – не унимался я. Но ругал я их беззлобно, так для порядку, проводя воспитательную работу. Когда меняется обстановка, время летит быстро. Не успели мы с рассветом на станцию войти, посидеть с котелками около кухни и пострелять с полчасика, как уже и вечер навалился. Небо стало [быстро] темнеть. Я расставил солдат роты по круговой обороне и приказал в оба смотреть.
– Не исключено, что немцы могут нас ночью попробовать. Насчёт захвата кухни я начальству умышленно не доложил. Кухня, это чистый наш трофей, и раззванивать о ней нет никакого смысла. Они и так едят за счет стрелковых рот [по горло и всегда сыты]. Едят в три горла! И совести нет %%! И всё же солдаты четвертой роты разнюхали, что наши едят немецкие макароны с мясом и запивают вишневым компотом. Семья не без урода! Нашлась двое трепачей, они решили похвастаться и почесать язык. "Вот мол какие мы сытые!" Солдаты четвертой роты, оставленные в обороне на насыпи выделили инициативную группу и послали к нам на переговоры насчет кухни узнать. "Узнаете что и как! Нельзя ли съестным разжиться?" Послание взяли с собой котелки и напрямую было подались к кухне. Но часовые, стоявшие в круговой обороне, вздёрнули затворы и приказали стоять. Что, что, а насчёт этого солдаты сразу сообразят.
– Дальше ни шагу!
– Чего надо?
– Куда толпой прёте?
– Поворачивай и дуй к себе в лесок. Свежий воздух нюхать!
– Тут вам делать нечего!
– Не нужно было на боку лежать. А в атаку надо было идти и станцию брать! %%%%
– При первых выстрелах от станции попятились раком?
– Пятая за вас должна воевать?
– Налейте хоть супу! – просит один из пришедших солдат.
– Иди, иди! Пятая рисковала своей шкурой. Вот и набивает её как следует изнутри!
– Катись отсель, и так обойдёшься!
– Ну зачем солдата обижаешь? – сказал подошедший из ельника солдат.
– Давай браток котелок и крышку давай!
– 49 – Сейчас всем взводом %%%%%%% тебе набуровим. Не беспокойся! До крышки нальём! Солдат, вышедший из ельника, забрал котелок, ушел. Стрелок из четвертой роты говорит часовому:
– Ты вот орал на меня, а он сразу видать человек душевный! Там в ельнике у душевного парня сидят дружки. Они свободны от вахты, разговаривают, курят и сплёвывают в снег. Теперь из ельника слышится их дружный хохот. Вскоре оттуда выходит душевный человек. Он протягивает солдату наполненный котелок и скороговоркой добавляет
– Смотри, только крышку не открывай, а то прольёшь всё. Солдат четвертое роты потирает руки.
– Неси осторожно! Смотри, не пролей!
– Теплый ещё! – замечает солдат, ощупывая котелок голой рукою.
– А ты как думал! Всем взводом старались!
– Ну ступай, ступай!
– Спасибо браток!
– Хлябай на здоровье! Солдат четвертой роты уходит.
– Что-то я не пойму тебя! – говорит часовой душевному человеку.
– Кухня там, а вы ему из ельника вынесли. Душевный человек вытягивает шею, наклоняется к часовому и что-то шепчет ему на ухо.
– Ну это вы зря! – говорит пожилой солдат, часовой.
– А, если наш ротный узнает?
– А кто ему скажет?
– Найдётся, кому сказать! [А если те в батальон пожалуются?] И действительно. К вечеру я узнал эту историю. Но рассказал мне её не кто-нибудь, а сам душевный солдат.
– Не хочу, товарищ лейтенант, чтобы про меня вам другие докладывали.
– Я догнал его сам тогда. Остановил и сказал:
– Дай-ка сюда! Открыл крышку и вылил.
[- На вот, этот получи! А то мы котелки перепутали. Я отдал ему свой. Со своей [порцией макарон с мясом] хлебова, что старшина нам принес. Вроде я как сам с собой пошутил! Он так и не узнал, почему я догнал его и сменил котелки!]
– Я другого, товарищ лейтенант, боялся. У нас у солдат после сытной еды озорство и разные шуточки! А на деле коснись? Потому как, если в полку узнают, опять припишут нашей пятой роте моральное разложение. У вас неприятности будут. А нам то что? Нам солдатам ничего! С нас солдат взятки гладки!
– Ладно, забудем про это! – сказал я.
– Хорошо, что ты сам всё осознал! Я отпустил солдата и позвал ординарца.
– Беги по взводам, передай Черяневу и Сенину, пусть заберут с кухни все продукты и раздадут солдатам на руки. И скажи, что я лягу спать! Я [мы]третьи сутки не сплю [с тобой не спали]! Вернёшься, тоже ложись!
– 50 – Ординарец убежал. По дороге он тоже решил пополнить свои запасы. Забежал на кухню, сказал [о распоряжении ротного часовому] часовому, что ротный велел продукты раздать, сунул ему и себе по банке компота и побежал по взводам. Он мог бы взять и ещё. Но он ко хотел таскать в мешке лишнего груза. Хватит нам по банке с ротным. Наступила ночь. С кухней было покончено! Как и нужно было ожидать, с наступлением ночи меня вызвали на КП батальона. Комбату не спалось, он ещё до ночи выспался. От железнодорожного переезда до пруда, где стояли постройки совхоза Морозово, идти не далеко.
– Вот! – сказал комбат, когда я к нему явился.
– Из полка посыльный прибежал, приказали вызвать тебя. Там, говорят, у вас есть грамотный москвич, ночью по карте ходить умеет.
– Откуда они знают, чего я умею?
– Это не важно! Я докладлал!
– С этого и начинай! – сказал я.
– Тебе с ротой приказано выйти на лесную дорогу!
– Когда и куда я должен идти? Карту района я буду иметь?
– Дадим, дадим! Не беспокойся! Карту получишь!
– Есть данные! – перебил меня комбат, – Немцы покинули высоту 219.
– Оголили оборону и отошли куда-то назад. Понял, какие дела?
– А откуда у полка такие данные?
– Как откуда? Пленные показали!
– К вашему сведению, всего час тому назад по дороге из деревни Чуприяново немцы до взвода солдат подходили к станции. Двоих я сам уложил. Думаю, что завтра утром они пошлют сюда не меньше пехотной роты. Что будешь делать, когда мы уйдём [когда я уйду с солдатами вглубь леса]? Одному взводу Татаринова станцию не удержать.
– Ты за это не беспокойся! Станцию и совхоз мы ночью сдадим 634-му полку. Им приказано занять здесь оборону. Пусть они здесь и стоят [%%%%%].
– У нас задача другая! – продолжал комбат.
– Мы батальоном идём на высоту 219 и ноль. Высота находиться правее деревни Обухово. Ты с ротой идёшь впереди. За тобой следую я, а за мной без разрыва четвертая рота Татаринова.
Дружки чтоль они? – подумал я. Опять меня вперёд, а Татаринова сзади. Это в принципе не важно, но хотелось просто узнать.
– Всё понял? Иди, снимай своих солдат, отводи их сюда [и организуй отдых для людей]. Выход через четыре часа! Пусть пока отдыхают!
– Сейчас возьми с собой роту солдат из 634 полка и сдай им станцию. [Они встанут на охрану. Сделаешь роте подьём, когда пришлю связного!]
– 51 – Я вернулся в роту, поставил в оборону солдат 634-го полка и велел своим солдатам идти на Морозово. У нас валенки от мороза не гнуться, а нам до высоты не меньше суток идти. [В морозную ночь немцы на станцию не пойдут. Они сейчас залезли в натопленные избы.] Высоту 219 немцы нам просто так не отдадут. Высота имеет [для них особо важное] господствующее значение. Это не Губино у самого леса. Это и не станция Чуприяновка с двумя зубными креслами. Я вошел в дом, ногу поставить [было] негде. Но ординарец предусмотрительно лавку освободил [оставил свободной]. Я переступил через лежащих солдат, лёг на лавку и тут же уснул. Перед рассветом меня разбудил батальонный связной.
– Комбат приказал вам [вести роту в Морозово] вести роту на лесную дорогу. Я построил солдат и походной колонной двинулся в лес.
– Ладно! – сказал комбат, когда мы встретились [когда я доложил ему о прибытии роты].
– Теперь слушай меня!
– Из дивизии получен приказ. Нашему полку одним батальоном приказано перейти в наступление!
– А что мы делали до сих пор? – [подумал] спросил я.
– Ты слушай, когда я говорю! А не смотри куда-то в сторону! Всё равно там ничего не [видно] увидишь!
– Дивизия имеет задачу перерезать пути отхода немцам. Из частей 31-ой армии только нам удалось вырваться вперёд. Остальные пока застряли у Волги. 250-ая дивизия, наш левый сосед лежит под Городнёй. Наш 920-ый полк из-за Волги наступает на Эммаус. А ты знаешь этот Эммаус? Двести метров от Волги. 634-ый полк двумя батальонами отбивается от немцев под Губино. Одна рота этого полка будет оборонять совхоз [Морозово] и станцию Чуприяновку. Нашему батальону приказано идти головной походной заставой вперед. Общее направление движения полка на деревню Микулино. На лесную дорогу ты выходишь сейчас! Четвертая рота следует во втором эшелоне за тобой. Мое место в четвертой роте! Я раскрыл карту и стал рассматривать свой маршрут. Карта тридцать восьмого года. Она перепечатана с карты 19%%%%7 года. (Это вроде того: Ваша фамилия как? – Сахаров! А раньше? – Сахарович! А ещё раньше? – Цукерман!) Вот так и с картами было в то время. При укрупнении деревень в период коллективизации многие хутора, деревни и поселки, дороги и очертания лесов бесследно исчезли с лика земли, а на картах они остались. Торчит из снега засохший бурьян, да колючий кустарник, попробуй определи, где тут была деревня и где проходила дорога? Ночью с хорошей картой идёшь как слепой. А тут, когда в лицо хлещет встречный ветер, глазом зацепиться не за что. И если ты упустил дорогу, задумался на ходу, не сделал в своей голове соответствующую коррекцию, то можешь [быть уверен, что] увести своих солдат совсем не туда.
– 52 – Местность, она везде на местность похожа, если однообразно лесистая или [кругом] открытая в виде снежного поля кругом. И сложность ещё в том, что земля, укрытая слоем снега, скрадывает рельеф, сличая который можно идти по карте. Не все офицеры полка хорошо читали и владели картой. Многие с шестью классами самоуверенно плутали и путали других. Пустив пятую роту по неизвестной %%%% дороге, комбат был уверен, что я не собьюсь с нужного пути. А потом. Что собственно жалеть пятую роту. Она не сибирская и в ней меньше всего потерь. В четвёртой солдаты почти все земляки, коренные чалдоны. А эти москали в дивизии чужаки. Всё было расставлено по своим местам [как надо]. 634-ый полк [принял] занял оборону, а пятая тронулась и пошла вперед. Посмотрим, что будет дальше! До выхода роты оставались минуты. Мы сидели в снегу, курили и поплёвывали. Батальон собирался в одно место, в Морозово. Было немного свободного времени, можно было подвести итоги пройденного. При переходе Волги мы потеряли пять человек. Шесть погибли на опушке леса от своей артиллерии. Похоронили их или нет, трудно сказать. Я спросил комбата об этом. "
– Какие тут похороны! Нам наступать на немцев нужно! " – ответил он мне на ходу. Как выяснилось потом, солдат бросили на снегу. Их припорошило сверху снегом. Так они и остались лежать до весны. Во время нашего пребывания на станции мирные жители, в основном женщины к дети, прятались где-то в землянке на той стороне железной дороги [за насыпью]. Пожилая женщина, которая вышла с детьми из бани, сказала мне, что ей иногда говорил офицер, тыча пальцем в лицо.
– Матка! Русь Иван цвай километр! Форзихтиг! – и показывал рукой в сторону Волги. Мирные жители, которые скрывались, на станцию не приходили. Где находился их бункер, сколько было там местных жителей, мы не знали. Я вспомнил, как Татаринов сомневался. Дойдём мы до шоссе или нет. Я почему-то о смерти не думал. Мне казалось, что стрельба – стрельбой, воина – войной, а жизнь впереди, а что смерть? [Когда-нибудь и наступит] Смерть у каждого когда-то и [придёт] грянет. Мы каждый день ходили по грани жизни и смерти!
Сегодня 8-ое декабря 1941 года. Всего три дня, как нас послали в дело, а сколько пережито [нами и передумано], сколько мы наворотили! И сколько впереди нам ещё предстоит сотворить?
* * *
– – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
Лесная дорога. Деревня Игнатово. Немец на крыльце. Захват обоза. Нем-
цы удирают как зайцы – Приятно смотреть! Разведка деревни. Немцы на
легковой машине въезжают в д. Алексеевское. Допрос майора. За допрос
майора я получаю втык. Командир 421 стр. полка майор Карамушко про-
водит рекогносцировку. Выход на исходное положение. Кровавый четверг
11-го декабря. Расстрел зенитками. Двое из восьмисот убитых. Санвзвод.
- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -

Ночь 8-го декабря сорок первого года подходила к концу. Восток озарился бледной полосой рассвета, по макушкам деревьев скользнул неяркий луч света, а в лесу было по-прежнему сумрачно и темно. Я подал команду солдатам, чтобы они заткнули полы шинелей под ремень на животе. По глубокому снегу, который повсюду лежал сугробами, полы шинелей мешали идти. Подождав немного, я тронулся с места, и мы медленно стали продвигаться вперед. Вначале часто останавливались, прислушивались, осматривались кругом, полагая, что немец мог заминировать подходы к лесной дороге. Саперов сопровождения пехоты у нас в роте не было и первый момент мы боялись подорваться на мине. Но потом, шаг за шагом, видя, что никто не взрывается, мы осмелели. По глубокому снегу идти трудно. Узкую снежную тропу в снегу пробиваем по очереди. Старшина Сенин с тремя солдатами идет впереди, я и мой ординарец шагаем чуть сзади. За нами следом извилистой змейкой тянется рота. Прокладывая путь, старшина и солдаты обходят завалы, занесенные снегом бугры и овраги. Часа через два мы останавливаемся. Впереди сквозь ели виден узкий просвет. Осторожно подви гаясь вперед, мы выходим на укрытую снегом дорогу. Дорога ни разу не чищена, занесена, как и все кругом, глубоким снегом. Снег лежит толстым и нетронутым слоем. Никаких следов на дороге не видно. Дорога заброшена, по ней не ездили даже в начале зимы. Открываю планшет, на внутренней стороне его вшиты прозрачные листы из целлулоида с сеткой в виде квадратов. В планшете лежит карта местности, по которой я иду. Проверяю по компасу взятое направление, прикидываю пройденное расстояние от железной дороги.

– Сворачивай на эту дорогу вправо! – говорю я старшине.
– Теперь пойдем по дороге до самой опушки леса! Меняю передних солдат у Сенина. Старшина отходит с ними в сторону и ждет, пока Черняев с тремя солдатами обойдет его. Мы снова пускаемся в путь. Я иду за Черняевым, который теперь в глубоком снегу протаптывает тропу. (смотрю по сторонам и оглядываюсь назад, чтобы не оторваться от роты). Мне снова в голову приходит мысль, что немцы и здесь на дороге могут выс тавить мины, чтобы огратить свои тылы от непрошеных гостей. (На дороге можно сделать засаду, встретить нас прицельным огнем, как это случилось у всех на глазах с полковыми разведчиками при подходе к станции). Щемящее чувство опасности всегда бывает острее в начале пути. Главное не попасть врасплох, когда идешь впереди. (Но все это бывает только в начале пути). Но потом, когда разойдется, привыкнешь к дороге, забудешь о минах, немцах, о пулях и о засадах, грянут первые выстрелы, тогда разберешься, что тут к чему! Высокий лес снова сомкнулся над заснеженной дорогой. Мы По-прежнему медленно вскидываем вверх коленки и, пошатываясь, месим ногами снежную крупу. Потом медленно привыкаешь к пути, идешь, и ни о чем не думаешь. Никто не удивился и не замедлил шаг, когда впереди показался просвет, где кончался лес, когда из-за снежного бугра показались крыши деревни. Названия деревни я знал и по карте не стал уточнять. Дороги и деревню я узнал по памяти безошибочно. Какая разница, как она называется? Они здесь все похожи друг на друга. Впереди эта, за ней еще (небольшая) одна. А там, дальше, еще и еще. Разве знаешь заранее, где тебе придется замертво ткнуться в снег и хлебнуть своей собственной крови? Маршрут по компасу я выдержал точно, и открывать планшет просто не захотел. Лес кончился. Лесная, засыпанная снегом дорога слилась с другой, расчищенной на всем пути. Здесь ездили немцы. Тут были следы солдатских сапог и саней, тяжелых колес и копыт лошадей. Видно, у немцев она была ходовая. Идти по ней легко и приятно. Мы прошли со старшиной несколько вперед, подождали, пока рота выбралась из леса и стали подниматься медленно в гору. Поднимаемся выше, на бугре уже видны и крыши, и трубы, и стены домов, но ни встречных выстрелов, ни криков, ни людских голосов в деревне. Справа, не доходя до деревни метров ста, стоят две брошенные в снегу молотилки. Всё это мелочи, и для описания войны они не так уж важны, хотя у меня они остались в памяти как вехи, по ним я и вспоминаю эту деревню. Каждому запоминается что-то свое. Солдаты роты растянулись вдоль дороги. Мы, голова роты, уже в двадцати шагах от крайних домов, а хвост роты где-то там внизу за поворотом дороги. Смотрю по сторонам и поглядываю вперед. То видны только белые крыши да трубы, а теперь показались стены и окна домов. Низкие, приземистые, утопшие в глубоком снегу, избы торчат на бугре. Я, старшина и трое солдат подходим к крайней избе. На деревенской улице тихо и никакого движения. Здесь наверху, на бугре, под открытым небом, где утонула в снежных сугробах деревня, полное безветрие и морозный воздух совсем недвижим. Кое-где, в трёх-четырех избах топятся печи. Дым их труб поднимается вертикально вверх и стоит над трубами неподвижными столбами. Интересно смотреть! Дым забрался к небу и стоит, не шелохнется. Смотрю вдоль деревни – у домов никого. Время не раннее, утро на день перевалило, а на улице ни немцев, ни мирных жителей не видать. Обычно, когда немцы занимают деревню, у домов торчат часовые, Вдоль улицы ходят парами патрули, на въезде в деревню стоят пулеметы. А тут тишина, полное безлюдье и сонный покой. Сворачиваю к дороге, направляюсь к первой избе и подхожу к невысокому заснеженному крыльцу. До крыльца мне осталось сделать шагов десять, не более. Наружная дверь тихо скрипнула и открылась. На пороге, в тёмном пространстве двери появился немец с заспанным лицом. Всё случилось так быстро и неожиданно, что я замер на месте и как будто остолбенел. Немец вывалил из душной избы на свежий воздух и по всему было видно, что он только поднялся со сна. Он не успел даже раскрыть глаза, когда оказался на крыльце перед дверью. Ничего не видя перед собой, он явился из темноты и от яркого света еще больше зажмурился. Вот он широко расставил ноги на крыльце, нашел для тела устойчивое положение, сжал кулаки, оттопырил большие пальцы и ловко поддел ими свои подтяжки. Растянув резинки в стороны, и не открывая глаз, он аппетитно зевнул и даже поморщился. Он с удовольствием покрутил головой вокруг шеи, широко раскрытой пастью втянул в себя воздух, растопырил пальцы рук и стал растягивать подтяжки в разные стороны. Неподвижно постояв несколько секунд, он улыбнулся сам себе (довольный собственной улыбкой), тряхнул головой и резко отпустил натянутые резинки. Подтяжки с силой и громко хлестнули его по бокам. Широко позёвывая и прикрывая рот ладонью, как бы боясь, что в рот может влететь сонная муха, он как бы нехотя и с боль шим усилием приоткрыл один глаз. Улыбка мгновенно исчезла с его лица, лицо и тело дёрнулись судорогой. Перед ним в десят ке шагов, как непостижимое явление, стояли живые вооруженные русские. В тот же миг лицо его исказилось страшной гримасой, подернулись рот и глаза, к горлу подкатил комок страха и ужаса. Через секун ду он всё же сумел сделать над собой усилие, последовал глубокий вздох и он неистово завопил. Подпрыгнув сразу двумя ногами на месте, он в один мах перевернулся к двери лицом, нырнул в темноту и исчез внутри избы на наших глазах. Трое солдат, я, старшина и мой ординарец стояли перед крыльцом и не шевелились. Мы не ожидали ничего подобного увидеть (здесь на крыльце) и, как завороженные, оцепенело смотрели в пустое тёмное пространство открытой двери. И только когда он исчез, когда его крик послышался снова внутри (снаружи, с той стороны дома), мы очнулись и огляделись кругом. Картина явления немца была поразительна! Я глубоко вздохнул, что-то буркнул себе под нос и услышал, как вдоль деревни захлопали выстрелы. Стреляли немцы, наши молчали. Немцы в деревне занимали всего несколько домов. Услышав отчаян ный крик своего собрата, они подбросали всё в панике и бежали из домов. Они бежали, кто в чем был. Они бежали огородами и задними дворами. Через некоторое время они собрались на конце деревни у крайней избы. Страх одолел их. Что они могли сделать? В последнем доме у них находился 50-мм миномет. Они быстро установили его и пытались огнем отсечь половину деревни. Казалось, что на какое-то время они сумели нам остановить и прийти в себя, (что они вот-вот забросают нас минами). Но мин у них оказалось немного. Один зарядный ящик, неполный с двух сторон. С перепугу они выпустили его сразу и через минуту мы почувствовали, что им нечем стрелять. Несколько мин все же рванули около нам. Старшине вырвало клок на боку полушубка. Осколок чиркнул по поверхности, но тело не задел. А солдату осколок рикошетом ударил по каске. Удар был сильный, так что тот замотал головой.
– Давай вперед! – крикнул я.
– Они будут бить по краю деревни! К нам подоспели еще несколько солдат, и мы, обходя дома и заборы, броском подошли к середине деревни. Здесь по середине дороги стояло несколько фур, набитых почтовым багажом. Не задерживаясь, мы стали подбираться к крайнему дому. Что собственно толкнуло нас податься на немцев вперед? Страсть? Драчливый характер русского человека? Самоуверенность или огневой перевес? У нас кроме винтовок с собой ничего не было. Когда противник дрогнул, и ты видишь, что он пятится задом, у тебя появляется смелость, и даже азарт. На войне, как на чашах весов, если грузы на них лежат даже равные, кто качнул свою чашу вперед первым, тот и перевесил! Чуть замешкался, чуть подался назад – можешь считать, что на тебя противник навалится. Комбат и Карамушко по телефону не выбирают выражений. У них разго вор короткий:
– Не взял деревню? Струсил?
А тут немец сам пятится на глазах у солдат, в панике бежит от винтовочных выстрелов. (услышав вопли своего собрата). Бежавшие немцы не знали, от чего он так неистово заорал. Вероятно, что-то неотвратимое и грозное надвигается на эту деревню. Огонь прекратился. Немцы на время притихли. Вероятно, решили бежать. Для того, чтобы удрать из деревни, им нужно было перебежать от последнего дома к одиноко стоявшему в поле сараю. Сарай находился у ската дороги и на краю неглубокого оврага. Овраг и дорога, уходящая вниз, за бугор, были для немцев единственным путем спасения. По оврагу они могли незаметно и быстро удрать. Удирать всегда легче, чем догонять. У бегущего преимущество в ногах и скорости бега. Его сзади подхлесты вают пули, у него за спиной костлявая рука смерти, ужас и страх. А наши солдаты, браться славяне – народ неторопливый, и можно сказать ленивый. Занимать деревню и догонять из последних сил бегущих немцев им неохота. Пробежали две-три первых избы, заскочили внутрь и шарят по углам, рыскают, чего бы пожрать. Солдату первым делом следует разговеться. Всю ночь не ели! По глубокому снегу километров десять, считай, прошли. Солдату нужно сперва добыть что-то съестное, чего-нибудь пожевать (трофей или немецкую безделушку). А то ведь и смысла рисковать своей жизнью нет. После станции Чуприяновки, теперь им в каждой деревне будет мерещиться немецкая кухня с горячей похлёбкой, мясными макаронами на пару и вишневым компотом без косточек. Солдату, как голодной курице, во сне видится просо. Продвигаясь за немцами, мы прошли половину деревни, обогнули брошенный на дороге почтовый обоз. Колёса немецких почтовых фур поблёскивали на морозе стальными ободами. Лошадей в упряжках не было, их, видно, с ночи, упрятали в сарай. Короткохвостые немецкие лошади, как и немцы, боятся холода нашего и русского мороза. Повозок было две или три, я мимо прошел, только мигом на них взглянул. Мое внимание было сосредоточено на немцах. Мы продвигались к последнему дому, туда со всех сторон по одиночке сбежались немцы. Я обернулся назад, хотел посмотреть, не отстал ли взвод Черняева. Мы подходили с Сениным к последнему дому, а солдаты Черняева уже восседали на фурах и пороли мешки. Черняев стоял у передней повозки и спокойно смотрел снизу на своих, восседавших на фурах, солдат. Вот он что-то сказал им, и они покатились со смеха. Что это – ребячество или просто глупость с его стороны, непонимание своего места в роте? Вместо того, чтобы занять оборону и навести порядок во взводе, он стоит около почтового обоза и смотрит, как солдаты вспарывают ножами обшивки посылок. Вечно молчит, сопит себе под нос. Живого слова от него не добьешься. Встал у телеги, разинул рот и смотрит на своих солдат. Видно, во взводе сейчас у него кто-то другой хороводит. Пока я оглядывался назад и ругал в душе Черняева, рассуждал, что втыки и ругань за роту достанутся мне одному, солдаты Сенина обложили огнем крайнюю избу и выгнали немцев за заднюю стенку. На таком морозе немцы долго не выдержат, сейчас они кинутся к сараю и побегут по открытому месту. Сейчас нет времени заниматься Черняевым. Минута-другая, и у наших солдат иссякнет запал. За минуту и немцы могут одуматься. Все может вдруг измениться и неизвестно чем кончиться. Сейчас самое главное – не дать немцам прийти в себя. Паника – великая вещь! – подумал я и побежал догонять Сенина. Мы думали, что немцы из-за дома выбегут сразу и все толпой побегут к сараю. В толкотне мы их перестреляем запросто. Солдаты наши перебрали затворами, приготовились и стали ждать. Но все случилось иначе. Из-за угла побежала не толпа, как мы предполагали, а выскочил одинокий немец. Появился он неожиданно. В первый момент, несколько первых секунд, нами было потеряно. И когда раздались нестройные выстрелы, немец уже был в трёх шагах от сарая. В общем, немцу живому и невредимому удалось перебежать через дорогу. Это первый бежал с Божьим страхом. Он, конечно, не знал, под каким огнем ему придется бежать. И вообще, добежит ли он? Он бежал во всю прыть, как загнанный заяц. Но вот результат. Оказалось, что из всех, оставшихся за стеной, именно он меньше всех рисковал. Теперь и тем, и нам стало ясно, что немцы будут бежать от дома до сарая по одному. И вот из-за угла в какой-то минутой позже выскочил еще один и побежал к сараю. Он даже не бежал, а прыгал, как козел. Он не чувствовал земли под ногами. Он метался из стороны в сторону и дергался весь на ходу, приближаясь к сараю. Приятно было смотреть, как драпают немцы! Перед самым сараем он вдруг запнулся, перелетел через себя, вспахал целый сугроб перед собой, снова вскочил и, как одержимый, помчался дальше. Стрельба прекратилась, как только он скрылся за выступом сарая. Прошло еще несколько минут. И снова из-за стены дома выскочил немец. В тот же момент раздался нестройный залп, застучали затворы, затрещали одиночные выстрелы. Несколько секунд нужно на то, чтобы передернуть затвор. А немец за это время успевает отмахать несколько метров. Этот ногами работал быстро, бежал, как-то подавшись всем телом вперед. Голову он опустил и ничего перед собой не видел. Он добежал до сарая, но промахнулся мимо угла. Перед ним оказалась бревенчатая стена. Всё, что он мог – выкинуть руки вперед, но скорость была большая, и он по инерции припал к стене сарая грудью. У стены он задержался на миг, и этого было достаточно. Одной, двух секунд хватило первой пуле прижать его к бревенчатой стене. Он с усилием хотел от нее оторваться, но еще несколько пуль прошили его. И мы увидели, как он дёрнулся, навалился на стену и стал медленно, без возгласа, валиться к земле. Движением руки он сорвал с себя каску, чуть откинул голову назад и опустился на колени. Он хотел перед смертью увидеть небо. Но бревенчатая стена и нависшая снежная крыша закрыли небо от него. А ему в последний раз хотелось взглянуть на светило, и как нелепо всё вышло! Немец сделал несколько коротких взмахов руками и повалился в сугроб. Следующий немец не заставил себя долго ждать. Он не выбежал из-за дома. Он выглянул из-за угла и посмотрел в нашу сторону. Мы увидели его полную страха и смертельного ужаса физиономию. Все наши смотрели на угол дома и держали винтовки наготове, никто не стрелял.
– Может, сдаваться будут? – сказал старшина. Мы ждали, что будет делать немец. Но он повертел головой, спрятался за угол и не сразу пустился бежать. Его, вероятно, там, за стеной, разогнали за руки, потому что он вылетел оттуда, как пробка, но через несколько шагов потерял свою скорость. Бежал он трусцой, как бы придавливая снег (на ходу). Солдаты заорали, заулюлюкали, засунули грязные пальцы в рот и засвистели, как голубятники. А голубь, тяжело дыша, перебирая быстро короткими ножками, за пять шагов продвигался вперед всего на метр. Белый пар вырывался у него изо рта. Не добежав до сарая, он упал и застрял в снегу, как тот паровоз, который когда-то топили дровами. Во время бега его можно было хорошо рассмотреть. Когда немец упал, ординарец мой крикнул: Есть еще один! Но немец был цел и невредим. У него просто не было сил снова подняться на ноги. И он, как жирная вша, вращая суставами, не отрывая своего обвисшего живота от снега, быстро и неожиданно уполз за сарай.
– Жирный, как боров! – шутили солдаты, и грязными пальцами под глазами тёрли слезу. Наступила вновь тишина. Ждали перебежку очередного. Это тоже выглянул из-за угла. Его, видимо, торопили и дёргали за рукав, потому что он огрызнулся на кого-то сзади и отмахнулся рукой. И в этот момент грохнули выстрелы, щепа полетела от угла. Немец попятился назад и скрылся надолго. Но вот, наконец, немец выбежал и, вихляя ногами и руками, полетел к сараю, вздымая снежную пыль. У наших винтовок бой был верный и точный. Стреляя из них, нужно было спокойно и точно целиться. А наши солдаты стреляли наугад с живота, поэтому и этот немец добежал до сарая и скрылся. Пробежал мимо пятый, а убит только один. Даже жирного борова ползком упустили. Теперь на краю деревни собралось много солдат. Они стояли во весь рост. Всем хотелось взглянуть на бегущих к сараю немцев и, при случае, пальнуть им вдогонку. При появлении шестого раздалась сплошная трескотня. Немцы почувствовали усиление огня. И, обезумев от страха, в проулок бросилось сразу четверо. Они остервенело били по снегу ногами, из-под них летели вихри и комья снега, как из-под карамушкинского жеребца. Но не успели они сделать и трёх прыжков, как стая свинцовых ос стала их жалить и рвать на них шинели. Двое упали и продолжали корчиться, а двое остались неподвижно лежать на снегу. Для нас важно было и это. Солдаты своими глазами видели, как перепуганные немцы бегут быстрее зайца. Главное на немцев нагнать настоящего страха. Впереди еще много деревень. Вот в чём задача! За четверкой из-за угла выскочил еще один. Он был в исподнем и без сапог. Что у него было на ногах, рассмотреть было невозможно. Во всяком случае, в каждой руке он держал по сапогу и балансировал ими в воздухе.
– Учитесь у немцев драпать под пулями! – сказал я солдатам вслух. Солдаты посмотрели на меня, удивились и, наверное, подумали: «Только что был приказ «Ни шагу назад!», и вдруг сам ротный учить их драпать. После немца в носках стрельба оборвалась и надолго затихла. Немцы больше не показывались из-за угла и не бежали. Стало ясно, что за стеной последнего дома нет никого. Сколько их было точно, я не считал. Но одно было ясно, что пятерых немцев мои солдаты уложили. Но что ж, подумал я – и это хорошо, теперь мы квиты. Мы положили еще пятерых. Мы подошли к крайней избе и у стены за домом увидели еще одного немца, они сидел на снегу, опираясь спиной о стену. Я подошел ближе, нагнулся и оглядел его. Немец был ранен в живот, из него вытекла тёмная лужа крови, но он был еще живой. На лице и в глазах – печаль, мольба о пощаде.
– Этот не жилец! – сказал я солдатам.
– Пусть посидит, он скоро умрет! Не трогайте его!
Ну вот и итог. Деревня от немцев отбита. Шестеро немцев остались лежать на русской земле. Солдаты разошлись по деревне, ходили довольные, и даже веселые. Каждому стало ясно, что с немцами можно воевать вполне. Не так уж страшен наш враг, как мы его раньше себе представляли. У стены, где лежал раненый, в снегу торчал миномет. Около него валялся пустой зарядный ящик, несколько винтовок и куча немецких противогазов. Вот собственно и все взятые нами трофеи. Но самое главное, в моих солдат вселилась уверенность и появился воинственный дух. Даже заняв оборону, они перестали смотреть на дорогу. Они похаживали, посматривали на убитых и о чем-то вполголоса между собой говорили. Русский Иван в отличие от немецкого Фрица, отступает обычно с оглядкой, не торопясь. Он не бежит, как немцы, галопом. Он делает всё с ленцою и кое-как. Это у немцев европейская прыть. Солдаты, свободные от наряда, подались к обозу. Каждый хочет найти чего-нибудь съестного. А на повозках мешки с байкой, сатином и всякой другой материей. То, что нужно солдату, в повозках отсутствует, лежит одно бабское барахло. Но все эти куски и обрезки цветного ситца и всякого там медеполаму достанутся нашим обозникам и тыловикам. Всё это потом пойдет в обмен на сало, хлеб и самогонку. Солдаты в роте в большинстве были люди городские, им в голову не пришло, что перед ними лежат несметные по тому времени богатства. Набей они сейчас свои мешки, пусти тряпье в обмен, когда в деревнях будут попадаться мирные жители, и они будут с хлебом и салом. Но у солдат в голове другое, им всё нужно сейчас, а не когда-нибудь потом, через неделю. Они были голодны и искали съестное. Хорошо, что они не набрали этого товара! – подумал я. Наберут, почешут языками в присутствии телефонистов и в полку через пять минут будет известно об этом. Тут же вызовут к телефону меня и начнется допрос: почему в роте солдаты занимаются мародерством? Солдату положено воевать, стрелять, торчать день и ночь в снегу, получать раз в сутки черпак жидкой баланды и пайку хлеба. Раскармливать солдата особенно нельзя. Отобранные тряпки полковые пустят в оборот. Таковы законы войны и, так сказать, субординации. Мне сделают втык, а потом будут встречать ухмылками и косыми взглядами. Пока на нашем пути попадаются деревни без местного населения. Немцы выслали их из фронтовой полосы. И пока с иконами, с хлебом и солью нас здесь никто не встречает. А сейчас – поставь роту в шеренгу, вытряхни солдатские мешки на снег, и начальство будет довольно. Никаких тебе тряпок – пустой котелок, пара грязных портянок и две пригоршни мёрзлой картошки. Комбат расплывется в довольной улыбке. А солдату что! Ковыляя вдоль отбитой деревни, зачерпнул пару пригоршней мороженой картошки, затянул свой мешок на ходу веревочкой и опять на холод, на трескучий мороз. Потом улучу нужный момент! – соображает. Забегу в избу, суну где в горящую печку свой котелок, картошки сварю. Но ни избы, ни горячей печки он, может, и не дождаться. Вторые сутки торчим в снегу без варева и без хлеба, махорка на исходе. Хорошо было на станции. Вот где была благодать! Стоит солдат на посту, подёргивает носом, трет рукавом шинели холодную жидкость, бегущую из носа на губу, постукивает замерзшими валенками, картошка в мешке стучит, как куча камней. Этот на дружка поглядывает, а тот за углом приседает, колотит себя по бокам руками, ежится от холода, прячется от ветра за угол. А там не теплей. Напрасно он жмется к избе. Холод и снег режут глаза. Ни дышать, ни думать! Смотришь вперед – ничего не видать! А ротный требует – «смотри в оба!». Согнешься за углом, присядешь на корточки, закроешь глаза и в висках перестанет стучать, и вроде станет не так зябко. Спина и бока, кажись, согрелись, можно и заснуть, да ротный через каждые два часа посты проверяет. Главное, не прозевать, крикнуть вовремя: «Кто идет?». Ротный твою службу сразу оценит: скажем, этого заменить и отправить в избу. Двое в четвертой роте насмерть заснули. Заснуть немудрено! Мучениям конец! Лучше не подгибать под себя колени. Нужно ходить. На ходу не заснешь. Терпи солдат, греми котелком и мерзлой картошкой. Лютый мороз тебе нипочем. Ты – русский солдат и ко всему с пеленок привычен. Когда я в сопровождении ординарца, обходя деревню, показывался в пролете домов, часовые сразу преображались и начинали двигаться. Не то, чтобы они меня боялись, а так, из самолюбия, для порядка, для собственного авторитета. Мы тоже не лыком шитые, хотя жизнь солдатская – хуже не придумаешь! Я прошел вдоль деревни, перебросился фразами с часовыми и, свернув за угол одного из домов, решил осмотреть деревню со стороны огородов. Сюда за дом вдоль изгороди вела присыпанная снегом тропа. Здесь, на краю огородов, на открытой ровной площадке стояли два немецких орудия. Две 105-мм дальнобойные пушки, задрав стволы, смотрели в небо. Тонким снегом запорошило пустые зарядные ящики. По всему было видно, что немцы бросили свои позиции несколько дней назад. Вот откуда немцы били по руслу Волги, когда мы под рёв снарядов проходили по льду. Колеса у пушек были из толстой литой резины. Они осели в землю и были запорошены снегом. У немцев кончились снаряды, а подвоза по зимним дорогам нет.
– Колёса на гусматике! – сказал я ординарцу. Ординарец подошел и постучал по ним прикладом.
– Как их считать? Как взятые в бою трофеи? – спросил я ординарца.
– Конечно, товарищ лейтенант!
– Сам, наверное, видишь, что достались нам они даром. Немцы их сами бросили. А ты говоришь «конечно!». Я услышал сзади, в деревне, незнакомые голоса и обернулся туда. В проулке между домами стояли солдаты не нашей роты. Опять нас из деревни сейчас выставят и сунут вперед! – подумал я. Сменщики пришли! Мы пошли с ординарцем назад по снежной тропе, и когда вышли на дорогу к середине деревни, то я увидел, что в деревню уже въезжали кавалеристы. Час назад в деревню провели телефонную связь и меня по телефону предупредили, что я держу деревню, и что через нее должна пройти бригада конников. Какой именно полк или какая кавдивизия шли мимо меня рысью, я точно не знал. Что мне номер их части! Всадники шли парами, лошади ногами бросали комки и поднимали снежную пыль, позвякивали удилами и фыркали на морозе. Не прошло и часа, как кавполк показал нам хвост. Через некоторое время в деревню явился капитан, представитель нашего штаба.
– Это деревня Игнатово? – спросил он.
– Так точно! – ответил я (козырнув под шапку).
– Откуда ты знаешь и почему так в этом уверен?
– По карте и по компасу всё сходится. – ответил я, прикуривая. Капитан прошелся по деревне, вернулся назад и сказал: «Забирай своих солдат, строй роту и выводи ее на (лесную) дорогу. По дороге, не доходя до леса, свернешь налево, пройдешь с километр и увидишь два домика, там ждет тебя твой комбат.
– Всё понял? Освобождай деревню и поскорей выводи отсюда своих солдат! Через некоторое время рота построилась у крайней избы, где сидели связисты. Мы шагнули с места, и, растянувшись, пошли. Зимний короткий день подходил к концу. Погода портилась. Теперь сильный ветер хлестал по лицу, гнал из-под ног снежную пыль. Мы шли по дороге, солдаты горбились, клонились к земле. Полы их шинелей мотались в воздухе как крылья. Без сна, без отдыха, всё время на ногах. Идешь как в полусне, однообразия дороги не замечаешь. Мы долго шли, и вот у дороги показались два домика полу заброшенного хутора или бывшей деревни. Я солдатам велел лечь вдоль дороги в канаву, смахнул с шапки и с плеч снежную порошу, обстучал валенки о порог крыльца и вошел в избу, где расположился комбат. Комбат увидел меня и махнул рукой, мол, подожди там, на улице, я тебя вызову. Я не понял его, вошел в избу и присел у стены на лавку. До меня не дошло, что я должен вернуться на улицу и ждать там вызова. Я сидел на лавке за спиной комбата, а он за столом вел деловой разговор со штабным Максимовым. Максимова я видел несколько раз в тылах полка за Волгой. Максимов был небольшого роста, с узким лицом и серыми, бесцветными глазами. Он сидел за столом без полушубка. На нем была надета меховая безрукавка. В избе было жарко и сильно накурено.
– Дивизия наступает… – услышал я его голос.
– Мы продвинулись вперед только тут, слева и справа дела неважные. Наше продвижение на этом участке не встречает сопротивления противника. Но немцы по-прежнему удерживают на Волге свои рубежи. 920 полк понес большие потери под Эммаусом. 250 дивизия завязла у Городни. Два батальона 634 пока стоят под деревней Чуприяново. Наша задача развить наступление и к исходу завтрашнего дня овладеть деревней Алексеевское… На меня начал наваливаться тяжелый сон, и я мгновенно заснул. Я не слышал, о чем дальше шел разговор Максимова с нашим комбатом. Через некоторое время комбат, не оборачиваясь, сказал связному, чтобы тот шел на улицу, разыскал и вызвал меня в избу.
– Да шевелись, давай его сюда побыстрее! Связной вышел на улицу, обежал вокруг двух домов и сарая, и вернулся ни с чем.
– Ищите вдвоем! – повысил голос комбат.
– Где его рота?
– Рота здесь, товарищ комбат, Солдаты говорят, командира роты на улице нету.
– А где ж ему быть? Ищите как следует! Побегав вдвоем, связные вернулись опять.
– Товарищ старший лейтенант! Вот личный ординарец командира роты.
– Где ваш командир роты?
– Лейтенант зашел к вам в избу, я сам видел. Обратно от вас он не выходил. Прошло еще полчаса. Я сидел на лавке в заднем углу и отсыпался за всё. Правда, спать мне долго не пришлось. Кто-то меня тряс за плечо. Я открыл глаза и посмотрел на будившего тяжелым взглядом. Это был комбат.
– Мы его обыскались, а он здесь на лавке прохлаждается.
– Доставай свою карту и иди сюда к столу! Мне показали по карте маршрут и поставили задачу.

– На рассвете следующего дня ты должен взять деревню Алексеевское. Застегнув планшет, я вышел на крыльцо, посмотрел на свое засыпанное белым снегом войско, глубоко вздохнул, достал из-за пазухи меховые рукавицы, привычным движением руки поправил поясной ремень и сошел по ступенькам крыльца. Ну вот, все теперь на месте. Теперь можно подать команду на выход. Помалу, не торопясь, мы спустились в низину, к опушке леса, дошли до развилки дорог, свернули на ухабистую, очищенную от снега дорогу и поплелись неизвестно куда. (вперед). В ночь на 10-е декабря пятая стрелковая рота подошла к деревне (Гусьино). На дороге, не выходя из леса, я остановил роту и велел солдатам ждать нашего возвращения. С командирами взводов и небольшой группой солдат мы вышли на опушку леса, чтобы осмотреть впереди лежащую местность. От опушки леса до деревни оставалось метров пятьсот. Деревня лежала в низине на фоне снежной высоты, которая уходила круто вверх, закрывая собой полнеба. Из-за стволов деревьев видны были деревенские избы, сараи и огороды, глубоко торчащие в снегу. В деревне не было видно огней, дыма из печных труб, ни заметного на глаз движения. Мы долго смотрели туда, и потом я сказал: «Ну вот что, Черняев! На опушке леса, вот здесь и здесь поставишь часовых. Будете смотреть за деревней. Ты лично останешься здесь и будешь проверять дежурных. Мы с Сениным вчера были в деле, брали деревню, нам нужно отдохнуть. Теперь твоя очередь! Выводи сюда свой взвод и готовь к утру своих солдат, пойдете на деревню! Мы Сениным вернемся в лес. Стариков на ночь в наряд не ставь! Они и так на пределе. На дежурство подбери молодых. Считай, что я ушел! С деревни глаз не спускать!». Черняев остался, а мы с Сениным вернулись в роту.
– Солдаты Черняева идут на опушку леса! Взводу Сенины объявляю привал до утра!
– Сойти всем с дороги! Углубиться в лес метров на пятьдесят! Лапник ломать руками, лопатами и топорами не стучать! Костров не разводить, курить только в кулак! Приказ ложиться спать, и побыстрее! Солдаты не спрашивали, далеко ли до деревни, и есть ли там немцы. Солдату важнее привал, короткая пауза от войны. Немцы их в такие моменты не интересуют. Из моего приказа и было ясно одно: поскорей ложись, пока тебя среди ночи на ноги не подняли. А случиться это может в любой момент. Долго не думая, они набросали в снег зеленого лапника и завалились спать. Нужно бы послать связных в батальон, доложить комбату, что пятая рота вышла на исходное положение. Но у нас было принято, что связь со стрелковой ротой должен был обеспечивать батальон. Пусть сами позаботятся о связи – решил я. Не дело солдатам стрелковой роты бегать к комбату, а потом воевать. Все дела были закончены. Я велел ординарцу Ване выбрать место для ночлега и набросать лапника.
– Выбери место поближе к дороге! Я пойду, обойду солдат для порядка. Я обошел солдат, велел Сенину выставить на дорогу часовых и вернулся к ординарцу. У успел набросать на снег подстилку из хвои, укрыл ее сверху куском палаточной ткани (сидел курил) и ждал моего возвращения, сидел и курил. Мы легли, укрылись куском палаточной ткани, в голове у меня бродили какие-то мысли о завтрашнем дне. Но как только я закрыл глаза, то тут же уснул. Ночью меня никто не будил. Ночь прошла спокойно. Я проспал до утра. Перед рассветом я проснулся сам, услышав негромкие голоса солдат и глухое постукивание котелков. От этого звука, кажется, не только голодные, но и мертвые встанут на ноги. Старшина по снабжению уже явился в роту и развязал свои мешки. Повозочный отсчитывал мерзлые буханки хлеба и раскладывал их отдельными кучками прямо на снег. Старшина стоял, растопырив ноги, у него между ног стоял термос с хлёбовом. Старшина вынимал изо рта карандаш, ставил галочку на листке бумаги, опускал в термос черпак и привычным движением два раза подряд плескал в подставленный котелок.
– Следующий! Отходи! – хрипел он. Старшину роты звали не то Вася, не то Федя, а фамилия у него тоже не то Сватов, не то Ухватов. В роте он был новый человек. Я фамилию его точно не знал. В роте он бывал редко. (Самое частое раз в сутки). Появлялся он в сопровождении своего повозочного на лошаденке, запряженной в деревенские сани (розвальни). Бывали дни, когда он отсутствовал по трое суток. Но от него это не зависело. Путь из-за Волги, где стояли тылы и кухни, был не близок, и даже не прост. Два дня подряд немцы бросали своих солдат и танки на деревню Губино. Старшине однажды пришлось завести свою кобылу с санями в лес и вместе с полковыми штабными и прочими бежать километров пять по снежной целине, пока они не добрались на последнем дыхании до левого берега Волги. Бежала не только мелкая сошка, побросав всё на ходу. Из Горохово за Волгу бежал сам Березин со своим штабом дивизии. От нас этот факт и немецкую контратаку скрывали (старались скрыть). Но старшина через два дня вернулся обратно, разыскал в лесу свою кобылу, получил продукты, приехал в роту и подробно обо всем рассказал. Шила в мешке не утаишь! Выходит, что мы все это время шли вперед и брали деревни будучи отрезанными от своих штабов и тылов. Я не стал расспрашивать старшину, где теперь стоят наши штабы и тыла, когда он явился. По остывшему холодному термосу было ясно, что он проделал неблизкий путь. Пока термос плескался у него в повозке, пока он тащился на своей кобыленке, горячая жидкость превратилась в холодное пойло. Хорошо, что в ней еще не плавал лед. От подсоленной полковой жижи недолго будешь сыт. Опрокинул через край котелок, процедил содержимое через зубы, вылил его в желудок, а на зубах, можно сказать, ничего. Даже комок муки на язык не попадет. В желудке что-то плещется, голод вроде перебил. Всю порцию разом проглотил, а сытости никакой. Наполнил желудок, мочевой пузырь опростал и опять, как бездомный кобель, голоден. После немецкой кухни с макаронами и вишневым компотом, полковая еда, замешанная на воде и муке, казалось, была похожа на бульон из кирзового сапога. Но для промерзшего и усталого солдата эта суточная порция варева имела немалое значение. Ложку он не вынимал, опрокидывая котелок через край, и выливал в рот всё сразу, даже булькало что-то в животе. Солдатская норма в тылах полка разбазаривалась и таяла незаметно. Самому дай, замов и помов досыта накорми, сам себя не обидь, мимо рта не промажь. А откуда всё это взять? Где всё лишнее и съестное добыть? Вот и доливает повар в солдатский котел побольше водицы. Поди, добейся правды, когда у тебя в котелке подсоленная вода. Но вот с раздачей варева, хлеба и махорки старшина дело закончил. Солдаты стали затягивать веревочки на своих мешках. Я посмотрел на небо. Вершины деревьев уже чуть просветлели, я вспомнил немца, убитого у стены сарая и подумал, что собственно искал он там перед смертью? И зачем кормит солдат до отвала? С набитым животом в атаку не пойдешь, с ним только в жаркой избе на соломе валяться (на широкой лавке сидеть). Опять же, пуля или осколок попадет солдату в живот, и всё добро, считай, напрасно пропало (вытекло наружу). А полуголодный солдат в деревню сам бежит, (он мчит), полагая, найти там себе съестное. Ну хватит философии! – сказал я сам себе. Нужно идти! Я подал команду солдатам выходить и строиться на дороге. Пока солдаты вылезали из-под елей и собирались на дороге, мы с Сениным стояли и курили.
– Ты со своими останешься на опушке леса!
– Сегодня Черняев пойдет на деревню! Ему тоже нужно дать попробовать пуль свинцовых хлебнуть. А то он у нам за спиной от самой Волги плетется.
– Как скажете! – пробасил старшина. Я посмотрел назад, солдаты уже собрались.
– Я пошел вперед! Давай, выводи своих на опушку леса. Сквозь заснеженные лапы елей впереди проглядывало открытое заснеженное поле. Небо чуть озарилось серым рассветом, дорога и деревня просматривались хорошо. Дорога, едва заметно петляя, чуть поднималась по снежному склону вверх. Она подходила к сараю, которых стоял метрах в ста до деревни.
– видишь сарай? – говорю я Черняеву
– Вы наблюдали за ним?
– Есть там немцы, или он пустой? Я стоял на опушке леса, смотрел на сарай и не знал, куда надо было смотреть (что собственно предпринять).
– Ты наблюдал сарай?
– Наблюдал!
– Ну и что там заметил?
– Ничего!
– Ну и что думаешь?
– А что мне думать? Как прикажете, так и будет! Черняев стоял, смотрел себе под ноги и ковырял ногой снег. Я стоял молча, смотрел на сарай, а сам искал решение и перебирал в памяти различные варианты. Как его взять без потерь? Сидят ли в сарае немцы или не сидят? Если там нет никого, то можно идти в открытую! Если там немцы находятся, то будут потери. Послать двух солдат на пробу – проще всего! Солдат убьют у всех на глазах, как это было с разведчиками. Как я буду выглядеть после этого? Потерять солдат для того, чтобы узнать, сидят ли в сарае немцы!
– Ты давно смотришь за ним? – спрашиваю снова Черняева.
– За кем, за ним?
– За сараем! Ты что, не понимаешь, о чём мы говорим?
– Смотрел, а что?
– Слушай, Черняев, что ты мне как еврей, на вопросы вопросами отвечаешь?
– Ты долго смотрел на сарай или нет? Немцы в сарае есть?
– Нет! Вроде пустой!
– Я тебе приказал глаз не спускать, а ты мне – пустой!
– Раз он пустой, и ты в этом уверен, бери двух солдат и лично отправляйся туда, а я буду наблюдать за тобой отсюда, с опушки леса!
– Нужно бы, лейтенант, сначала солдат пустить туда для разведки!
– Вот ты с ними и ступай!
– Тебе было приказано наблюдать, а ты, видно, всю ночь сны смотрел про любовь. Вот теперь сам это дело и расхлебывай! Послать вперед двух солдат – дело не мудреное, тут нужно придумать что-то другое. Поле открытое, кустиков никаких. Обойти сарай скрытно негде.
– Ну что, Черняев?
– Не знаю! Соображать надо, Черняев. При таком холоде немцы не выдержат и двух часов. Если бы ты следил за сараем, что что-либо заметил, может, смена у них произошла.
– Не знаю! Сказать легче всего!
– Вот смотри! Дорога до самой деревни очищена, с двух сторон по обочине немцы нагребли сугробы. Сарай от дороги находится чуть в стороне. Ложе дороги из сарая не видно. Надевайте чистые маскхалаты и ползком, не поднимая головы, двигайте за бровкой снега к сараю. Если при подходе к сараю немцы откроют огонь, мы с Сениным поддержим вас ружейным огнем. Под прикрытием огня можно будет вплотную подобраться к сараю. Двумя группами обойдешь его с двух сторон. Возьмешь сарай, будем думать, как без потерь ворваться в деревню. Пойдешь двумя группами. Первая группа – два солдата и ты. Вторая группа – во главе сержант и шесть человек солдат. Остальные пока будут при мне находиться, здесь, на опушке леса.
– Вопросы есть?
– Нет!
– Чего нет?
– Вопросов нет!
– Добавлю еще. Думаю, что сарай пустой. Но на рожон не лезь, будь осторожен!
– Давай помаленьку, выбирайся вперед! Вторую группу я пущу следом за тобой. Черняев некоторое время скрытно полз по дороге. Но вот он поднялся на ноги и показался на фоне темной стены, подал условный знак, помахав руками над головой. Стало ясно, что сарай пустой. Я приказал Сенину скрытно подойти со взводом к сараю, а мы с ординарцем, пригнувшись, побежали по дороге вперед. Черняев был уже в сарае. Через щель из сарая хорошо была видна вся деревня. Сомнений не было. Перед нами была та самая деревня (Гусьино), которую нужно было брать. Короткая сторона деревни в виде буквы «Т» располагалась на перекрестке дорог. Длинная улица под прямым углом уходила на север вправо вдоль подножья. Деревня стояла у подножья высоты 219 и ноль. Отсюда, из щели сарая, хорошо были видны обе улицы, отдельные дома и сараи. Я взглянул через просветы на небо. Светлые пятна на небе исчезли, небо заметно потемнело. В воздухе появились снежинки. Сначала медленно и редко, а потом все быстрее они стали падать к земле. И вот перед щелью сарая поплыла сплошная белая пелена. Деревня сразу из вида исчезла.
– Ну, Черняев, тебе колоссально везет!
– Кровь из носа, через пару минут крайний дом должен быть твой!
– Бегом вдоль забора и в огород! Мы следом за тобой! Когда солдаты Черняева зашли в огород, я не стал дожидаться, пока они доберутся до первого дома.
– Давай быстро вперед! – крикнул я Сенину и мы побежали в деревню. В деревне не было никого. Вскоре вся рота собралась на перекрестке. Нужно было занимать оборону. Черняева я послал занять длинный, уходящий вправо прогон, а взвод Сенина занял оборону на перекрестке. Дело сделано! Деревня взята без потерь! Я достал из планшета карту, раскинул ее и стал рассматривать местность, окружавшую деревню. Калининский большак на Цветково был здесь совсем недалеко. С левой стороны от нас в двух километрах проходила улучшенная грунтовая дорога на Щербинино. В Калинине немцы пока сидели прочно. Эммаус и Городня тоже были в немецких руках. И только двухкилометровый перешеек у деревни Горохово и Губино позволил нам углубиться в немецкую оборону далеко вперед. Сейчас от немцев всего можно было ожидать. Мы находились в пятикилометровом пространстве между двух ходовых немецких дорог. Солдаты мои, вероятно, не знают, что мы действуем почти в окружении. Очередная деревня, как деревня. Им хорошо, что немец из артиллерии не бьет. В Игнатово мы налетели на почтовый обоз. По сути дела, от нас там драпали тыловики и обозники. А здесь со стороны любого большака могут подойти обученные и способные вести войну боевые части и подразделения. Фортуна в одинаковом лике два раза никогда не является.
– Пройдем по деревне! Проверим оборону и несение службы. – сказал я ординарцу. – Тут можно всякого ожидать! Вскоре по дороге из нашего тыла явились связисты. Они размотали провод и установили аппарат. И вслед за ними, к нашему великому удивлению, в деревню въехала упряжка, волоча за собой сорокапятку. Первый раз за всю войну мы увидели в стрелковой цепи нашей роты наших полковых артиллеристов.
– Пушку поставите на перекрестке – сказал я им.
– Сектор обстрела прямо по дороге, в направлении высоты. Я доложил комбату обстановку по телефону и получил от него категорический приказ. Деревню удерживать, пока не перебьют всю роту. Ты должен удерживать деревню до самой ночи! Ночью придет смена. Тебя будет менять стрелковый батальон 247 с.д. Что-то произошло, подумал я. Видно, в прорыв вводят свежие дивизии. Я сидел на крыльце и смотрел вдоль дороги. Казалось, что белые скаты высоты, укрытые снегом, сливаются с небом где-то там наверху. И вдруг на самом гребне я увидел подвижную тёмную точку. Она то оставалась на месте, то вдруг оживала и бежала по склону вниз. Вот она исчезла совсем, как бы провалилась в снежные сугробы. И вот она снова вынырнула и побежала вниз под откосу. Теперь ее можно было рассмотреть. Это была легковая машина.
– Никому не высовываться! – крикнул я.
– Без моей команды не стрелять! – добавил я и повернулся к артиллеристам.
– Вы из своего пугала не вздумайте пустить снаряд!
– Пусть въедут в деревню сами.
– Всем сидеть на своих местах и не рыпаться! Мы с ординарцем стояли на дороге и ждали, пока подъедут немцы. И когда легковая машина въехала в проулок и сбавила ход, у артиллеристов вдруг зачесались руки. Ничего не говоря, они лязгнули затвором сорокапятки, вогнали снаряд и стали наводить. Я подумал, что они сделали это на всякий случай, если машина вдруг круто развернется и даст хода назад. Я обернулся, пригрозил им кулаком и сказал: «Не стрелять! Будем брать живьем!». Но до них мои слова не дошли. Не сделать выстрела по бегущей навстречу беззащитной цели они никак не могли. Мало того, что мы с ординарцем стояли на линии огня. Не успел я вновь взглянуть на машину, как у меня за спиной раздался пушечный выстрел и снаряд пошел над плечом. То ли машина в этот момент вильнула, то ли эти тыловые крысы поторопились, снаряд пролетел, не задев машину. Машина резко вильнула в сторону и тут же уткнулась в сугроб. Я выхватил у ординарца автомат и короткой очередью полоснул по щиту сорокапятки. Я мог за невыполнение приказа расстрелять их всех.
– Ты знаешь, что за это бывает в боевой обстановке? – накинулся я на командира орудия.
– Я не виноват! Они сами!
– Я пригрозил наводчику кулаком, обругал его для порядка скотиной и вернул автомат ординарцу назад.
– Смотри, чтоб немцы не разбежались из машины! Пойдем высаживать гостей. Мы подошли к машине. Дверцы на заднем сидении были чуть приоткрыты. В машине сидели четверо немцев. Два офицера, солдат-шофер и небольшого роста усатый фельдфебель. Я подошел, открыл во всю ширь заднюю дверь и сказал им: «Битте штеен зи аус!». Из машины начали вылезать офицеры. Первым на снег ноги поставил майор. Он поднял вверх одну руку. В другой руке он держал набитый портфель. За майором из машины вышел обер-лейтенант, он поднял обе руки. Шофер и фельдфебель вылезли из передней дверки. К машине бежали Сенин и небольшая группа его солдат. Я кивнул ординарцу на сиденья машины и велел ему забрать автоматы, брошенные при выходе немцами. Показав шоферу на руль, я велел ему сесть в машину и подъехать к крыльцу. Садись и ты! С ним поедешь! – сказал я ординарцу.
– Разрешите и нам? Товарищ лейтенант! – попросили солдаты.
– Разрешаю! Садитесь!
– В жизни не ездил на легковой машине! Убьют, и не попробуешь! – сказал один.
– Теперь попробуешь! – сказал другой и полез в машину. Офицеры и фельдфебель к крыльцу отправились пешком. Когда я с ними подошел к дому, телефонисты уже доложили по линии связи о захвате машины и пленных офицеров. Они сидели довольные, посматривая на меня.
– У артиллеристов руки зачесались! Пустили в машину снаряд!
– А у этих зуд на языке! Доложить хотели!
– Кто вас просил соваться не в свои дела?
– А ну-ка забирайте свой аппарат и валите отсюда вон туда, в дырявый сарай!
– Расселись тут на крыльце!
– Проводи их, Дёмин!
– А тебе, старшина, особое задание! Обыскать немцев! Культурно забрать у них документы, портфель тоже поставишь сюда. Я сел на край крыльца, вроде как на письменный стол. Старшина стряхнул с половиц варежкой снег и стал раскладывать передо мной немецкие аусвайсы. Старшине помогали солдаты. У офицеров с ремней сняли черные блестящие кобуры с пистолетами «Вальтер». Фамилию лейтенанта я не записал, в фамилию майора я запомнил хорошо, по созвучию на память.
– Козак! – прочитал я в его офицерской книжке.
– Найн, Корзак! – поправил меня обер-лейтенант. Майор был в отороченной мехом шапке с козырьком. Зеленоватая его шинель была подбита натуральным лисьим мехом. Это был человек средних лет, небольшого роста. У майора были толстые губы, выступающий подбородок и мясистый нос, беспокойно бегающие глаза неопределенного цвета. Вот собственно из внешности всё, что я с первого взгляда запомнил. Обер-лейтенант, в отличие, от майора, был молод, худ и высок. Чистое и бледное лицо его отдавало синевой тщательно выбритых щек. Он был спокоен и сосредоточен. Стоял он позади майора навытяжку, тогда как майор сразу вспотел и как-то обмяк. Обер-лейтенант, как бы подчеркивал своим достоинством уважение к своему начальнику, стоявшему впереди. По его лицу было видно, что если бы не майор, он не сдался бы так легко и просто в плен. Хотя теперь ни должности, ни звания не имели для них никакого значения. Майор почему-то сразу смирился со своей незавидной судьбой, а молодой обер-лейтенант совсем наоборот, он был возмущен, держался прямо, как будто он попал не в плен, а зашел на прием к зубному врачу.
– Ни одного рыжего фрица! А говорили светлая раса! – сказал старшина.
– Подожди! Потерпи маленько! Попадутся тебе и рыжие фрицы! – заметил я.
– Это вы у нас светлый блондин! А они, как наши солдаты, – все чернявые! Я смотрел на фрицев, на их гладкие, из заменителя кожи, обложки аусвайсов, а в голове у меня вертелись разные нужные и не нужные немецкие слова. Мне нужно допрашивать их, а я стал рассматривать отпечатки пальцев в их офицерских и солдатских книжках. Ни одной готовой немецкой фразы. Сразу и вдруг у меня ничего не получается. Теперь, после обыска, немцы стоят с опущенными руками. Они заметно успокоились и немного пришли в себя. Фельдфебель поглядывает по сторонам, оценивает обстановку. Майор смотрит на меня и думает, что будет дальше. Солдат и фельдфебель постукивают каблуками, утаптывая под собою снег, и вопросительно посматривают на закрытую дверь в избу. Они ежатся от холода и подергивают плечами. А какой на улице холод, если нет тридцати? При обыске майора старшина снял с него поясной ремень, расстегнул на шинели все пуговицы, распахнул ее. Майор так и остался стоять нараспашку. Полы шинели подбиты мехом, он не решался запахнуть и застегнуть их. Я провел ему пальцем по бортам и велел застегнуться. Я спросил его по-немецки: кто он, куда и откуда едет? Услышав мои вопросы, он как будто перед отходом поезда заторопился и, не останавливаясь на секунду, стал говорить какие-то слова и целые фразы. Это был сплошной поток слов и звуков. Где начинались отдельные слова, где кончались фразы – невозможно было ни уловить, ни понять. В средней школе я учился не очень. Отец умер в тридцать третьем. Нас у матери осталось трое. Учебу в школе приходилось часто пропускать. Жили бедно. Ели не досыта. Я подрабатывал на вывозе снега с улиц. Немецкий знал, так сказать, по слогам. А тут сплошной поток гласных и согласных, гортанных и шипящих, вроде: «ишь! Нишь! Кукен!». О чем говорил немец, я не мог разобрать.
– «Курц, клар унд лангзам – говорите коротко, ясно и медленно» – сказал я. Немец понял и сразу перестроился. Он стал произносить каждое слово раздельно и четко. Я останавливал его, когда не понимал, рылся в словаре, искал нужное мне слово и переспрашивал. Из опроса майора было ясно, что немцы не знали о нашем подходе сюда.
– Товарищ лейтенант, что он говорит? – спросил кто-то из солдат.
– Он говорит, что мы находимся в полосе обороны 162 немецкой пехотной дивизии. И что командир их дивизии генерал Франке. Солдаты удивились и тут же загалдели: – Франко! Франко!
– Из Испании приехал! – добавил кто-то.
– Это не испанский генерал Франко. Это немецкий генерал Франке!
– Родственник что ль? – не успокаивались они.
– Немецкий!
– Вам это понятно?
– Майор говорит, что 9-й армией, в которую входит дивизия, командует генерал-полковник Адольф фон Штраус. По-вашему, если Адольф, то Гитлер, а если Штраус, что обязательно композитор Иоганн Штраус. Сбитые с толку и не поняв ничего, солдаты стояли и продолжали удивляться.
– Всё равно, товарищ лейтенант, фамилии как бы знакомые! Вот почему я собственно и запомнил фамилии немцев и дословно весь этот разговор.
– А кто этот майор? – спросил старшина.
– Майор? Начальник штаба. Возвращались они к себе, да не на ту дорогу свернули. Вот и попали к нам.
– А усатый, это кто ж?
– Усатый – по-ихнему фельдфебель, а по-нашему – старшина. Вроде как ты, Сенин.
– А тот, что сзади майора стоит?
– Немецкий обер-лейтенант! Это вроде как я, но по званию он одним рангом выше.
– Не думали они здесь встретиться с нами.
– По данным майора вчера здесь стояла немецкая рота. Почему ее здесь не оказалось, он сам удивляется. Я хотел еще что-то спросить, но на этом допрос оборвался. Меня срочно потребовали к телефону. Где, в каких деревнях стоят немецкие гарнизоны, я не успел узнать. На проводе уже хрипел комбат. Я сказал ему по телефону о захваченной машине и о немцах. Я даже думал, что он меня похвалит за это. Но не успел я и рта раскрыть, как получил от комбата сходу отборные ругательства.
– В полку и в дивизии знают! А ты мне ничего не докладываешь! У меня ротный грамотный нашелся! Вздумал допрашивать немцев! Почему, мать-перемать, сразу не доложил? На легковой машине катаетесь!
– Я, я… – сумел только вставить я в трубку.
– Что «я»? – заорал он снова. Давай немцев немедленно сюда!
– Слышь, чего молчишь?
– У артиллеристов две лошади. Пусть седлают их верхами!
– Сажай немцев в машину, затолкни туда еще одного солдата и отправляй ко мне! Артиллеристы пусть верхами сопровождают машину.
– Об исполнении доложишь мне лично по телефону! Я буду на телефоне сидеть! Мы быстро засунули немцев в машину, посадили на заднее сидение солдата с портфелем. Я захлопнул дверцу машины, и она пустила сзади белый дымок. Когда машина, виляя, покатила по дороге, я повернулся, вздохнул с облегчением и пошел к телефонистам докладывать комбату. Комбата на проводе уже не было. Телефонисты доложили ему, что машина и немцы под конвоем уже отправлены. Каждый старался приобщить себя к этому делу. Я вернулся к крыльцу, сел на ступеньки, раскрыл перед собой карту и закурил. Куда теперь нас бросят? – подумал я. Где-то хлебнем мы теперь смерти и крови? Вон, другие полки на Волге захлебнулись и результатов никаких. Сегодня вечером нас сменят, а завтра опять новая деревня! Я свернул карту и решил сходить, проверить посты. Позвав с собой ординарца, я пошел в дальний конец деревни, где стоял взвод Черняева.
– Ну, как?
– Всё тихо! – ответил он. А что говорят пленные?
– Немцы говорят, что они нас здесь не ждали. И я рассказал Черняеву о допросе майора. В полку и в дивизии в это время шла лихорадочная работа. Было принято решение внезапным ударом силами двух полков захватить деревню Марьино. В дивизии торопились. Немцы ничего не знают о нашем продвижении. Взять сходу Марьино и отрезать немцам дорогу от Эммауса и Городни. Для захвата деревни подвели четыре батальона по две сотни солдат. В стрелковые роты придали пулеметные расчеты станковых пулеметов «Максим». Ночью в деревню, где мы стояли, явился комбат. С ним пришла рота сменщиков из другой дивизии. Он показал мне по карте маршрут движения и велел вести роту на опушку леса, что напротив Марьино. Вернувшись по дороге несколько назад, мы сошли в снег и стали подниматься к лесу. Пройдя лес, я на опушке положил своих солдат.
– Не забудьте о куреве! Деревня на бугре! Оттуда всё видно!
Вскоре на опушку леса телефонисты размотали связь. Было уже темно. Пришел наш комбат и мы, командиры рот и взводов, пошли вместе с ним по открытому снежному полю, уходящему вниз, выбирать исходную позицию. Мы подошли под обрыв, а впереди на бугре стояла деревня. Ее очертания смутно проглядывали сквозь заснеженные кусты. Видны была только церковь на правом конце деревни. Ее темный контур слабо обрисовывался на темном ночном фоне неба.
– Твоя пятая рота рассредоточится здесь, в кустах! – сказал комбат.
– А ты, Татаринов, со своей займешь позицию правее, со стыком на фланге пятой. Дальше, в открытом поле, будут стоять станковые пулеметы. Они в атаку не пойдут. Они будут с места поддерживать вас пулеметным огнем. За ними, правее, будет наступать соседний батальон. После того, как вы ворветесь в деревню, слева, охватом, на деревню пойдет соседний полк. Мы обошли свои участки, уточнили границы рот и вернулись обратно. Не доходя до леса, в низине нас ожидали штабные полка. Все как на войне! – подумал я. Сам командир полка Карамушко вышел на рекогносцировку. Около него стояли штабные, собрались комбаты, подошли и мы, командиры рот и взводов. Командир полка еще раз уточнил задачу, отдал короткий, в двух словах, боевой приказ и в заключение сказал: «Имейте в виду! Это наше генеральное наступление! Сейчас разведете своих солдат по местам! Займете исходное положение! С рассветом атака! Сигнал для наступления – два выстрела из пушки с нашей стороны. В роте дадут связь. При выходе на исходную доложите свою готовность! Надеюсь все понятно? Действуйте! Все по своим местам! Командир полка дошел до леса, сел в ковровые саночки и укатил восвояси. Комбаты заметались и тоже пропали, исчезли куда-то в ночную мглу. Мы, ротные и взводные, остались одни. Мы стали расходиться, нам нужно было идти за своими солдатами. (Мы шли по заснеженному полю, которое круто поднималось к опушке леса). На опушке лежали наши солдаты. Я поднял роту, и мы стали спускаться к исходной позиции по протоптанным нами в снегу следам. Я отдал боевой приказ, я развел солдат, как мне было приказано и положил из в снег. До рассвета оставалось еще много времени. Рядом, около небольшого развесистого дерева лежали ординарец и телефонист. Ординарец, перевалившись на спину, продвинулся ближе ко мне и торопливо зашептал:
– У майора под шубой на тонком ремешке висел фотоаппарат.
– Старшина его срезал, майор даже не заметил! Может, возьмете вы? Мне он ни к чему. Ранят, пожалуй, а тут с аппаратом мыкайся! Всё равно, кроме вас снимать никто не умеет. И ординарец протянул мне блестящий футляр фотоаппарата. Я посмотрел на него и спросил: «Почему аппарат не отправили вместе с портфелем? Майор на допросе скажет, полковые потом загрызут меня. Они любят, когда трофеи преподносятся им лично. Скажут, в фонд обороны, голодающим детям в блокадный Ленинград».
– Ладно! – сказал я. – Завтра отдам комбату. Я лежал на снегу и думал о жизни. О какой, собственно, жизни можно было думать в свои двадцать лет? Я вспомнил свое детство, школьные годы, учебу в училище и начало войны. Вот и вся жизнь! Я лежал на снегу, на спине, и напевал знакомый мотив: «Любимый город может спать спокойно…» Время тянулось медленно. До рассвета еще далеко. Солдаты лежат слева и справа в кустах. Я вижу, как они изредка поднимают головы. Не все солдаты одеты в маскхалаты. Их выдали только офицерам, телефонистам, пулеметчикам и по десятку на взвод. Те, кто был без халатов, выглядывать опасались. Деревня от нас совсем близко. Темные силуэты изб и очертания церкви видны через кусты. Немцы в деревне спят. Часовых между темных силуэтов домов не различишь. И вот тихо и медленно, едва различимо по небу и снежному полю поползла светлая полоса. Я еще раз связался по телефону с комбатом, он подтвердил мне сигнал начала атаки.
– Два выстрела из пушки! Увидишь два разрыва шрапнели над деревней, и сразу поднимай своих людей! Все ждали рассвета и начала атаки, каждый по-своему. Но сигнала к наступлению не было. Прошло еще некоторое время. Снежное поле постепенно светлело. Серая дымка над деревней рассеялась. Между домами забегали немцы. Они как-то вдруг всполошились, замахали руками и стали кричать. До нас долетали их частые гласные: «Ля, ля, ля!». Я взглянул левее деревни на снежную линию горизонта. Почему я взглянул туда, сказать не могу. Вершина снежной высоты поднималась над деревней, а вниз по дороге с этой высоты, в направлении деревни медленно двигались какие-то черные точки. Вот они сползли к деревне, и их можно было уже различить. Нарастающий гул моторов был слышен издалека. Немцы на гусеничных тягачах тащили зенитные орудия в деревню.
– Один, два, четыре! – считаю я. Вот еще четыре и четыре выползают из-за края вершины. В цепи наших солдат появилось движение. Солдаты, подняв головы, смотрели на зенитки. Первые тягачи уже вползали в деревню, а по дороге на ухабах еще ворчали моторы и пускали черные клубы дыма за собой. Первая батарея выползла между домов. Тягачи отцепили, орудия развернули, и все застыли на месте. Остальные ревели моторами и, не торопясь, растекались по деревне.
– Вызывай батальон! – крикнул я телефонисту. Телефонист, вытаращив глаза, лихорадочно закрутил ручкой, он начал стучать клапану трубки, но телефон не отвечал. Ни одного выстрела с немецкой стороны! Кто мог перебить провод?
– Крути, не переставая! – приказал я ему. Там, на другом конце провода кто-то упорно молчал. Никто не хотел брать на себя ответственность и дать приказ ротам отойти. Немцы не торопились. Они все делали по науке. Приводили к бою зенитные батареи. Они хотели сразу и наверняка ударить по лежащей в снегу нашей пехоте. Тем более, что мы лежали, не шевелились. Сигнала на атаку не было. Приказа на отход не последовало. Немцы, видно, удивлялись нашим упорству и бестолковости. Лежат, как идиоты, и ждут, пока их расстреляют в упор. Наконец, у них лопнуло терпение. Зенитка – это не полевое орудие, которое после каждого выстрела нужно снова заряжать. Зенитка автоматически выбрасывает целую кассету снарядов. Она может стрелять одиночными, парными и короткими очередями. Из ствола от одного нажатия педали вылетают сразу один раскаленный трассирующий, другой – фугасный снаряд. По каждому живому солдату, попавшему в оптический прицел, немцы стали пускать сразу по два, для верности. Один трассирующий, раскаленный, а другой невидимый, фугасный. Они стали бить сначала по бегущим. Бегущий делал два-три шага, и его зарядом разрывало на куски. Сначала побежали телефонисты, под видом починки обрыва на проводе. Потом не выдержали паникеры и слабые духом стрелки. Над снегом от них полетели кровавые клочья и обрывки шинелей, куски алого мяса, оторванные кисти рук, оголенные челюсти и сгустки кишок. Тех, кто не выдержал, кто срывался с места, снаряд догонял на шагу. Человека ловили в оптический прицел, и он тут же, через секунду исчезал с лица земли. Взвод Черняева однажды побежал под обстрелом. Они знали, чем потом обернулось это. Мои солдаты лежали, посматривали на меня, на немецкие зенитки и разорванные трупы бежавших. Ординарец отполз несколько в сторону, он хотел посмотреть, что делается на краю кустов. Но любопытство сгубило его. Вот он вдруг встревожился, перевернулся на месте и в два прыжка оказался около меня. И не успел он коснуться земли, как его двумя снарядами ударило в спину. Его разорвало пополам. В лицо мне брызнуло (его) кишками. Зачем он поднялся и бросился ко мне?
– Товарищ лейтенант! Там… – успел он выкрикнуть перед смертью. Красным веером окрасился около меня снег. Жизнь его оборвалась мгновенно. Появились раненые солдаты. Они ползли, оставляя за собой кровавый след на снегу. В оптический прицел они были хорошо видны. Очередной двойной выстрел добивал их в пути. Лежавший рядом телефонист вытаращил на меня глаза. Я велел ему лежать, а он меня не послушал. Я лежал под деревом и смотрел по сторонам, что творилось кругом. Я лежал и не двигался. Телефонист был убит при попытке подняться на ноги. Снаряд ударил ему в голову и разломил череп надвое, подкинул кверху его железную каску, и обезглавленное тело глухо ударилось в снег. Откуда-то сверху прилетел рукав с голой кистью. Варежка, как у детей, болталась на шнурке. Пальцы шевельнулись. Оторванная рука была еще живая. Все, кто пытался бежать или в панике рвануться с места, попадали в оптический прицел. Я смотрел на зенитки, на падающих в агонии солдат, на пулеметчиков, которые со своими «максимами» уткнулись в снег. Пулеметчики лежали и не шевелились. На какое-то мгновение стрельба прекратилась. Теперь по открытому снежному полю никто не бежал. Немцы шарили окулярами по полю, пытаясь выхватить из фона снежных сугробов очередную жертву. И вот новый удар разбил ствол и щит станкового пулемета, обмотанного марлей и куском простыни. Приникшие к снегу, тела пулеметчиков приподнялись и откинулись мертвыми в сторону. Взвод младшего лейтенанта Черняева лежал в кустах левее меня. Вдруг солдаты зашевелились, и я увидел перед ними немцев с автоматами в руках. Они незаметно спустились с обрыва и шли по кустам туда, где лежали солдаты Черняева. Вот что хотел мне сообщить ординарец. Выскочить из кустов на открытое поле было немыслимо. По кустам немцы вели беглый огонь из зениток. Но огонь их не был прицельным, и большинство солдат пока были живы. Но вот град снарядов заскользил по самому снегу. Я увидел, как несколько уцелевших солдат поднялись на ноги и подняли руки кверху. В кустах у Черняева появились убитые и раненые. Из оружия я имел при себе только один пистолет. Автомат ординарца куда-то отбросило. Стрелять из пистолета по немцам было бесполезно. Я достал пистолет, хотел даже прицелиться, но раздумал и положил его за пазуху. Немцы шли вдоль кустов в моем направлении. Шли, не торопясь, и часто останавливались. Они поддевали сапогами лежащего, нагибались и рассматривали убитых солдат. Потом снова шли и опять останавливались, собирались кучей вокруг лежащего в снегу. Обступали его со всех сторон, начинали галдеть и подымали на ноги раненого. Мне нужно было что-то срочно предпринять. Медлить было нельзя. Немцы с каждым шагом приближались ко мне. И я, не выпуская створа ветвистого дерева, покрытого пушистым белым налетом инея, стал пятиться задом по снежному полю. Я полз, не останавливаясь, не делая передышки, посматривая на ствол дерева и зенитки, прикрытые белыми ветвями. И в то же время я не спускал глаз с немцев, которые шли по кустам. Если б немцы оторвали свои взгляды от лежавших на снегу раненых и убитых солдат, то они бы сразу же заметили меня. Но немцы были заняты своим кровавым делом. Они смотрели себе под ноги, переходили с места на место, что-то извлекали из солдатских карманов, добивали раненых и фотографировали тела убитых. Взгляд немцев был прикован к кровавой тропе, и это позволило мне отползти от них на приличное расстояние. Но в первый момент они были от меня шагах в двадцати. Я полз по глубокому снегу, не как солдат, по-пластунски, головой вперед, а пятился задом как рак, интенсивно работая руками и ногами и всё это время смотрел на дерево, и старался не уйти из его створа в сторону. Я выбился из сил. Было трудно дышать. Я вытирал глаза рукавом и тут же снова обливался потом. Это тебе не по-пластунски ползать – подумал я. От кустов до леса было километра три. Снежное поле все время поднимается в гору. Я твердо знал, что отползая по снегу задом таким нелепым и неестественным образом, я не выйду из створа пушистого дерева. Если немцы, идущие вдоль кустов, остановятся и пристально глянут в мою сторону, я могу затаиться в снегу. Мне видно дерево, зенитку и всю группу немцев. Вот параллельно моему направлению метрах в двадцати в стороне идет кровавый след на снегу. Вдавленный снег с кровавыми полосами. Примятая борозда местами чистая, а местами с большими кровавыми подтеками. Кто-то раньше меня здесь прополз. Здесь раненый отдыхал, под ним лужа крови, здесь он с усилием полз – размытые (и размазанные на снегу) полосы крови. Но вот он и сам лежит в конце борозды. Я подползаю к лежащему, он в окровавленном маскхалате. Вглядываюсь в бледное, землистого цвета лицо и невольно вздрагиваю. Это командир 4-й роты Татаринов. Он откинулся на спину. Рот у него открыт. Глаза неподвижно уставились в небо. В небе не увидишь родную Сибирь. Капюшон маскхалата был откинут. Он лежал без шапки, и волосы его чуть шевелились на ветру. И это меня в первый момент обмануло. Мне даже показалось, что он еще жив, просто лежит, отдыхает и копит силы. Я повернул в его сторону и хотел, было, ползти к нему. Но, взглянув в лицо, я увидел. У меня при выдохе изо рта вырывался белый пар. А он лежал с открытым ртом и без всякой струйки выдоха на морозе. А должен был часто и тяжело дышать. Что-то мелькнуло сбоку в глазах. Я обернулся. Смотрю – с правого фланга из снега выскочили вдруг человек двадцать солдат, выскочили и врассыпную бросились бежать в разные стороны. И в тот же миг по ним ударили из всех зениток. Что заставило из вскочить и бежать по глубокому снегу в открытое поле? Немцев с автоматами с той стороны не было видно. Эти вспорхнули как стая воробушков и попадали в сне. От них полетели только клочья шинелей. Вот еще и еще мелкие группы соседнего батальона, поддавшись порыву, разлетелись на куски. Ни один не ушел с открытого поля. Смерть хватала их сразу мертвой хваткой. Одни исчезали сразу, разлетевшись на куски, другие оставались лежать неподвижно, они делали последние вдохи (морозного воздуха) и угасали, теряя сознание. Кошмарное кровавое побоище было в разгаре. Оно не для одной сотни солдат навсегда остановило время. Наступила зловещая тишина. Я лежал в снегу, тяжело дышал, зная, что мне нужно еще ползти. Но передо мной неожиданно выросла идущая по глубокому снегу во весь рост, фигура солдата. Пожилой солдат был без маскхалата, без винтовки, в серой шинелишке. Он медленно, не торопясь, как бы показывая, что он заколдован от зениток, шел, размахивая руками, и потрясал в воздухе кулаком. Он останавливался, выкрикивал ругательства. На лице у него было остервенение и возмущение всем тем, что ему пришлось пережить и увидеть на белом снегу. Он то и дело останавливался, опускался на колени, подымал руки к небу и неистово стонал. Немцы, вероятно, наблюдали за ним. Они развлекались необычным представлением. Они видели перед собой человека, презревшего зенитные снаряды и смерть. Они не стреляли в него. Кругом все живое давно было мертвым. Все, что шевелилось и двигалось, мгновенно расстреливалось. А этот шёл только один, забавляя их, двигался по снежному полю во весь рост. Немцы, видно, хотели оставить его как свидетеля, чтобы он поведал нашим в тылу. Когда солдат поравнялся со мной, он остановился и с сожалением посмотрел на меня. Сделав движение рукой в сторону леса, он как бы приглашал меня встать и пойти вместе с ним, потом он обернулся в сторону немцев и погрозил им кулаком. Его невидящие глаза остановились на мне. Он стоял, не шевелился и о чем-то думал. Потом он отвернулся от меня, сплюнул на снег и пошел дальше к лесу. Его костлявая, в замусоленной солдатской шинели фигура, как бы нехотя, переступала по глубокому снегу. Но вот он остановился, вспомнил о чем-то, резко повернул голову в мою сторону и пальцем показал мне на лежащего Татаринова. Я понял двояко. Или меня здесь на снегу ждет такая же участь, или он из солдат роты Татаринова. Его сухопарая, сгорбленная фигура еще долго маячила над снежной равниной. Я посмотрел ему вслед и совсем забыл о немцах. Но вот солдат дошел до опушки леса и скрылся в лесу. Туда, к заветной цели, никто из бегущих от смерти пока не дополз и не дошел. Четыре сотни солдат нашего полка оставили после себя кровавое месиво. Вот как случается на войне. Вот какую цену платили люди платили за нашу русскую землю. Снежное поле, по которому я полз, всё время поднималось в сторону леса. Те, кто полз, лежал и бежал были как на ладони. Если бы не дерево, которое закрывало меня от зениток, я бы остался с солдатами лежать на этом кровавом поле. Я огляделся и снова пополз. И вот дерево стало как-то стремительно уходить вместе с полем в низину. Немецкие зенитки уже маячили на кончиках белых веток. Я повернул голову к лесу и увидел перед собой небольшой бугорок. За ним, вспомнил я, начиналась та самая лощина, в которой мы ночью получали боевой приказ. Расстояние до зениток было приличное. Может, они перестали в оптику смотреть. Я прополз еще метров десять, взглянул на снежную складку, что была впереди и решил броском перебежать через нее. Там, в лощине, можно будет снова отдышаться. Развернувшись на месте, я уплотнил коленками снег для ног, подогнул под себя колени, сжался в комок, вздохнул несколько раз глубоко, собрал последние силы и бросился через бугор. Не успел я сделать и трех шагов по глубокому податливому снегу, как почувствовал тупой удар сзади по голове. Меня как будто кто-то сзади ударил поленом. Удар пришелся с правой стороны головы. Снаряд рванул капюшон с головы. Я видел, как раскаленный, он пролетел мимо меня. От удара я завертелся на месте, перелетел через голову и скатился в лощину. В этот миг я стал терять сознание. Боли от удара не было. Я смотрел кругом и ничего не видел. Передо мной ни белого снега, ни темного леса. Где-то в глубине сознания вспыхнул яркий, как солнце огонь. Вот он, розово-красный, потом красно-желтый и, наконец, зеленый.

Чувство пространства и времени оборвалось. Через некоторое время я почувствовал, что сижу на снегу. Что же произошло? Сколько времени прошло с момента удара? Небо уже темнело. В тот момент, когда я летел через сугроб, между ног у меня пролетел второй снаряд. Он разорвал маскхалат в неприличном месте, но живого тела, к счастью, не задел. Был бы я хорош, если он на пару сантиметров взял повыше. Я осмотрелся кругом. В лощине никого. Скинул варежку, она завертелась на шнурке. Сунул руку под шапку и ощупал ухо. Взглянул на ладонь, и она окрасилась всеми цветами радуги. Это не кровь, подумал я. Если ладонь цветная, то кровь должна быть чёрная. Еще раз пошарив за ухом, я встал и, пошатываясь, пошел к лесу. Поглядев назад, я не увидел за снежным бугром ни деревни, ни кустов, ни немецких зениток. Планшет с картой и пистолет были на месте. За пазухой на груди, под рубахой маскхалата, на тонком ремешке болтался фотоаппарат немецкого майора. Я сдернул его с шеи и запустил в сугроб. Я не хотел его нести на себе, сдавать полковым, слышать от них упреки и оправдываться перед ними. Всё прошлое как-то (вдруг) оборвалось. Вытря ладонью потное лицо, я направился к лесу, хватаясь за торчащие из снега кусты. Путь от деревни был короткий. Считай два, три километра, а ползти пришлось почти целый день. Вечерние сумерки опускались над лесом. На опушке леса никого, ни живого, ни мертвого. Куда же все исчезли? Где наш доблестный комбат? Куда девались все? Я сел под развесистой елью, подмял под собой рыхлый снег, а ноги мои продолжали как-то странно двигаться. Они сгибались и разгибались помимо моей воли. Я хватал их руками, пытался остановить. Я откинулся на спину и так лежал, пока они не успокоились. Я хотел, было, встать, но не было сил. Что-то вроде обмякших конечностей почувствовал вместо ног. Почему на опушке леса нет никого? Ни людей, ни следов, ни голосов и даже звуков. Снежное поле, кусты, зенитки между домов и колокольня церкви были отсюда (хорошо) видны. Там, в снежном поле на снегу могли остаться раненые солдаты. Их можно вынести в наступившей темноте. Но кто пойдет за ними? Кто захочет рисковать своей жизнью? У кого хватит храбрости шагнуть по снежному полю вперед? Санитары в санвзводе и в санроте в основном крючконосые. Этих под автоматом за ранеными не пропрешь! Чего таить! Это любой солдат подтвердит. Вся эта братия с вывернутыми губами, прибывая на фронт, в стрелковые роты не попадала. Один – дамский сапожник, другой – бывший портной, третий, Ёся – парикмахер. А те, кто специальной профессии не имели – по колиту и гастриту в животе зачислялись братьями милосердия в санвзводы и похоронные команды. И все они, так сказать, воевали! Хоть бы одного для смеха прислали в стрелковую роту! Было уже темно. Ветер едва шевелил ветвями. Я сидел и прислушивался к ночным шорохам леса. В скрипе сухих елей и осин слышались голоса и стоны, мольба о помощи раненых. Может, кто действительно зовет куда-то туда. Но, убедившись, что голоса мне послышались, и что в лесу нет никого, я встал с усилием и побрел между деревьями вглубь леса. Вскоре лес поредел. Я вышел на противоположную опушку и стал спускаться по снежному склону к дороге. По дороге неторопливо в мою сторону двигались две лошади. В темноте было сложно определить, что это за упряжки, немецкие повозки на пружинах или наши деревенские сани с дугами. В зимнее время наши пользовались исключительно крестьянскими розвальнями. Передок у них узкий и высокий, а зад размашистый, низкий и волочится по борозде. Я наметил себе куст у самой дороги и решил до подхода лошадей добраться к нему. У куста снег глубокий. Я подошел к кусту и провалился выше колен. Так и остался я полустоять, полусидеть за лохматым кустом, поджидая подводы. Я прислушался к голосам приближающихся, и среди неразборчивых слов уловил ходовое, солдатское матерное русское слово. Свои! – мелькнула мысль. И в тот же момент меня покинули последние силы. Я хотел вылезти из сугроба, шагнуть к дороге, но потерял сознание и со стоном повалился снова в снег. Я очнулся раньше, чем ко мне подбежали солдаты.
– Помогите, братцы! Не могу двинуть ногой! Солдаты вытащили меня из сугроба, довели до саней и положили на солому.
– Вы, лейтенант, оттуда? – показал один в сторону леса рукой.
– Оттуда, оттуда! – сказал я, глубоко вздохнув.
– А вы что ж, из штабных или разведчиков?
– Нет, братцы. Я командир стрелковой роты. Они смотрели на меня и не верили, что я живой, что я вышел оттуда, откуда ни один не вернулся. Они, верно, думали, что я наваждение, прибывшее с того света, чтобы нагнать страха на живых.
– Когда у вас там началось, из леса и из этой деревни (Гусьино) все удрали. Сказали, что немец с танками перешел в атаку. Только потом, к вечеру, солдаты вернулись сюда, в деревню.
– Вы отвезете меня в санчасть? А то у меня изо рта и носа кровь появилась. И ноги почему-то не идут.
– Вы куда едете?
– А вот в эту деревню! Говорят, вчера здесь наша пехота немецкого майора с машиной взяла. Слыхать, важная шишка!
– Наши раскопали яму с картошкой, вот мы и едем забирать картошку для харчей. Придется, видно, одному ехать назад.
– Ты задний! Ты, давай, разворачивай свои оглобли и вези лейтенанта в санчасть!
– Отвезешь его в санвзвод! Он здесь за лесом, в первой деревушке, километра четыре, не больше будет.
– А что, товарищ лейтенант, человек восемьсот под Марьино легло?
– Восемьсот, не восемьсот. А в нашем полку было четыреста.
– Слышь! Отвезешь лейтенанта и по быстрому назад! Я буду ждать тебя в деревне! Задние сани встали поперек дороги, сползли на обочину, и повозочный их легко, за зад, затащил на дорогу. Передняя упряжка ушла в деревню, а меня повозочный покатил рысцою в тыл. Мы доехали до батальонного санвзвода. Я встал с саней озябший и, пошатываясь, пошел в избу. Я вошел в избу. Внутри было душно и сильно натоплено. Закружилась голова, меня стало сильно тошнить. В углу, на полу лежала солома, я опустился на нее. Из-за висевшей поперек избы белой простыни вышел военфельдшер и посмотрел на меня. Он знал меня раньше. Мы иногда с ним встречались.
– Что это у тебя? – спросил фельдшер и зашел мне сбоку. Я немного поднялся.
– Что? Где? – спросил я его.
– Вот это что? – спросил он, показывая на правое ухо шапки-ушанки. Я снял с головы шапку и только теперь заметил, что правое ухо у шапки было отрезано пролетевшим снарядом. Часть меха на клапане цигейковой шапки болталась на тонкой пряди ниток. Ночью, перед выходом на рубеж, когда мы надевали маскхалаты и подвязывали капюшоны вокруг головы, уши у шапки я опустил. Было холодно. Я знал, что до рассвета всю ночь придется лежать на снегу. Если шапку завязать на подбородке, как это делают солдаты, и поверх еще надеть белый капюшон, будет тепло, но будет плохо слышно. А командиру роты нужно всё видеть, всё слышать, вовремя реагировать и подавать нужную команду. Снаряд не задел головы. До черепа оставалось меньше толщины двух пальцев. Снаряд разрезал шапку, и ударная волна ударила сзади по голове. Ударом меня подбросило и перекинуло через сугроб. На лету, у меня между ног пролетел еще один, фугасный, снаряд, он не разорвался, но порвал маскхалат и ватные брюки между ног. От этого удара, по-видимому, и болело ниже спины.
– Да! Тебе повезло!!! – задумчиво растягивая слова, произнес фельдшер.
– Хотя удивляться тут нечему! На передовой не такое случается!
– Ты пока только один оттуда выбрался сюда живым! Говорят, еще один солдат с первого батальона оказался в санроте!
– Да! Я видел много неудач. Но такое! Чтобы из целого полка вернулись двое! Санитары, которые были в избе, передавая шапку из рук в руки, крутили ее и качали головами.
– Останешься здесь или в санроту отправить? – спросил меня военфельдшер, затем задумался и снова добавил: «Полежи сегодня здесь. Завтра посмотрим и решим, что нам делать с тобой».
– У тебя контузия и кровь изо рта! Я сидел на соломе и смотрел на фельдшера невидящим взглядом. Я думал о солдатах, оставшихся там, под деревней и хотел очень пить и спать. Я медленно расстегнул и распустил поясной ремень, снял чрезседельник портупеи и скинул полушубок. Кто-то, наверное, сказал: «Подумаешь, сотни три-четыре солдат и десяток мальчишек-лейтенантов остались лежать убитыми под деревней! Для этого и война! Она без жертв не бывает!». Разморенный теплотой избы и запахом свежей хрустящей соломы, я жадно напился холодной колодезной воды, повалился на солому. Меня укрыли полушубком, и я заснул. Сон пришел сразу, мгновенно, как снаряд, разорвавшийся около головы. Утром на следующий день я не встал, проспал еще целые сутки. Потом мы с фельдшером решили, что я останусь в санвзводе и санроту не пойду.
– Тебе нужно оправиться от контузии и отдохнуть, как следует. Лучшего лекарства, чем сон, не придумаешь! За ухом, на затылке у меня появилась опухоль и краснота. Мне наложили повязку с какой-то вонючей мазью и забинтовали голову. Теперь я был похож на раненого с проломом черепа. Названия деревушки, где мы стояли, я не запомнил, мне было не до того. Помню, кажется, на следующий день в деревню на легких саночках приехал кто-то из большого начальства. Саночки лёгкие, как у московских извозчиков, остановились напротив крыльца. Я сидел на приступке около сарая и покуривал махорку. Фельдшер вышел из дома, сбежал по ступенькам и подался навстречу начальству.
– Кто он такой? Этот важный и полный? – спросил я фельдшера, когда он вернулся назад.
– Это наш дивизионный комиссар Шершин! Спрашивал, сколько раненых вышло из деревни и прошло через наш медпункт. Я почесал повязку на затылке. Вши под повязкой не давали покоя. Потом я поднялся на ноги, бросил окурок, притоптал его ногой и по скрипучим ступенькам вошел в избу. Это была моя первая встреча с Шершиным. Шершин со мной не говорил. Мы оглядели друг друга с некоторого расстояния. Он видно хотел меня о чем-то спросить, но заколебался и раздумал. Фельдшер доложил ему, что из полка кроме меня больше никто не вышел.
– Если тыла полка начнут двигаться – сказал мне фельдшер, не выходя из-за висевшей простыни поперек избы – ты, лейтенант, поедешь в задней повозке. В задних санях – поправился он.
– Ладно! – ответил я. А по совести, не хотелось покидать натопленной избы. Не прошло и трех суток, а я уже освоился в тепле и привык к мягкой соломе. Ведь я первый раз за всю зиму попал в натопленный дом и спал как человек. При движении полка санвзводу полагалось двое саней. При налчии большого количества раненых, их возили на этих санях в санроту. Имущество и люди во время марша размещались в них. Фельдшер берег своих тощих и заезженных лошадей. Когда они под горку помаленьку бежали и трусили, санитары присаживались сзади на сани. Служба у санитаров санвзвода была не легче, чем у медперсонала санрот. Но в сравнение с солдатской никак не шла. Спали они в тепле на полу, на соломе, пищу получали сполна и регулярно. Когда линия фронта вставала, санвзод стоял обычно на полпути от передовой и полка. До них иногда долетали снаряды и мины. Они часто вставали на окраине ближайшей к переднему краю деревни. Но приходилось им иногда и свои палатки разбивать где-нибудь в снегу, в кустах или в лесу. В палатках горели железные печки, внутри было жарко, дымно и душно. На подстил в палатку бросали свежий лапник, на нем делали перевязки, лежали раненые и спали санитары. В этом собственно и заключались тяготы их фронтовой и походной жизни. С этого момента для меня, привыкшего к морозам, к ветру на снегу, начались дни покоя, тепла и сытости. Раненые с передовой не поступали. Наш полк обезлюдел совсем. Ждали пополнения. Говорили, что маршевые роты идут и уже на подходе. Но вот тыла полка тронулись с места и по ночам стали делать переходы. На узкой зимней дороге слышались крики, споры и ругань солдат. Сани идут то рысью под гору, то тащатся, медленно забираясь вверх. Немецкая авиация не летала. С неба сыпался мелкий колючий снег. С дорог начала срываться зимняя поземка. Люди и лошади потащились по дорогам и днем. Дивизия медленно подвигалась в направлении Пушкино. (Кто-то из соседей шел впереди).
– Как чувствуешь себя, лейтенант? – спросил фельдшер, вернувшись с повозочным.
– В штабе полка про тебя спрашивали.
– Как чувствую? О чём говорить! Давай, выписывай! Не буду же я просится у тебя, чтобы меня в санвзводе оставили еще на неделю!
– Ну, вот и договорились! – улыбнулся фельдшер.
– А то – сам понимаешь! Мне вроде приказали. А я по долгу службы обязан тебя лечить. Может, у тебя еще голова болит?
– Пустое, фельдшер, говоришь!
– Вечером наша повозка пойдет в штаб полка. Повозочный отвезет тебя до самого места. Тебе нужно явиться к начальнику штаба. Скажешь, что ты из санвзвода. Он в курсе дела. Я с ним говорил о тебе.
– Полковые в санвзоде не показывались. Меня своими расспросами не беспокоили. Что-то нашего комбата не видно. Может, знаешь, где он?
– Говорят, он ночью сбежал от телефонистов. Утром, когда стала бить немецкая артиллерия, его стали искать и нигде не нашли.
– Артиллерии, фельдшер, не было!
– Как не было?
– Так! Начали бить немецкие зенитки прямой наводкой.
– А в полку сказали – артиллерия!
– Ты мне лучше скажи, где комбат! Чего молчишь?
– Он, говорят, потом объявился. Его вызвали в полк и отправили в дивизию. Говорят, Березин отдал его под суд.
– Это похоже на нашего Березина. Собственные грехи на комбата свалил.
– Начмедсанслужбы полка приказали очистить все санвзвода и санроту от раненых.
– Это худой и высокий такой?
– Да! Да! Всех ходячих приказали комиссовать и отправить в стрелковую роту. Спрашивали и про тебя. «У вас там в санвзводе лейтенант на соломе лежит! Что? Он контужен? Руки-ноги есть? Что? Опухоль на шее? Опухоль – не дыра! Поставьте наклейку!». После этого у меня с фельдшером и состоялся разговор. Я был молод в то время и глуп. В то же время у меня были довольно натянутые отношения с полковыми. Я не был сибиряком, их земляком и среди штабных у меня не было знакомых и товарищей. В полку меня считали чужим. Я нередко слышал: «Пошлите этого москаля! И с этим делом будет покончено!». И теперь, когда фельдшер завел со мной разговор о выписке, я не стал сопротивляться и ответил согласием. Если я сейчас не буду тянуть время, то в роту получу побывавших в боях солдат. Люди уже обстреляны. Бежать с поля боя не будут. А солдат, прибывших из тыла, нужно учить и учить. Вечером к санвзводу подъехал повозочный. Он кашлянул в варежку и кнутом почесал под шапкой в затылке.
– Вши что ль заели? – сказал я Повозочный помялся, подумал и нерешительно спросил: «Это вы, лейтенант, едете в штаб полка?»
– Он самый!
– Я за вами приехал!
– Сейчас зайду, попрощаюсь с фельдшером, и сразу поедем. Он тронул свою лошаденку, и мы покатились, переваливаясь на сугробах. Лошаденка не ходкая, но трусцой, не спеша, тащила собой деревенские сани. Где нужно, она переходила на медленный шаг, переваливала через сугробы и под горку трясла своими боками. Она плавно качалась, часто фыркала, поворачивала голову и поглядывала на своего хозяина.
– Ну, ну! Говорил он ей, не трогая ее вожжами и не шевелясь в санях. Его «ну, ну!» она понимала. У лошади на войне тоже были и своя судьба, и свои дороги. Солдат убитых бросали в снегу, а лошадей на мясо пускали. Вскоре, скрипя оглоблями, лошаденка свернула в сторону, и мы въехали в тихую деревушку. Повозочный, как договорились, доставил меня на место.
– В конце деревни – сказал мне начальник штаба, – на самом отшибе стоят два дома. Там старшина и полсотни солдат. Проверишь их по списку. Это твоя новая рота.
От начальника штаба я отправился в конец деревни.
* * *
– – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
Новая рота. Мы двигаемся на Пушкино. Поворот на Старицу. Вместе с обозом.
Назначение нового комбата. Лицо старухи. Расчистка дороги. Рота попадает в воду.
Снегопад. Смерть телефониста. Разведка деревни. Дым из трубы. Взятие деревни.
– – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -

Я зашел в крайнюю избу, в ней было накурено и сильно жарко. Крепкий запах солдатских портянок ударил в нос, когда я перешагнул через порог и просунулся в дверь.
– Ну, как тут у вас? Чем занимаетесь? – спросил я солдат, подходя к столу я садясь на лавку.
Никто из солдат не поднялся и не ответил. Мало ли тут всяких лейтенантов (из штаба) шляется. Я достал кисет, положил его перед собой на стол и стал заворачивать папироску. Чья-то рука бесцеремонно полезла в кисет за махоркой и даже хотела протащить его по столу поближе к себе.
– Ку.у.у…да! – сказал я, не поворачивая головы. Протянутая рука задёржалась, неопределённо повисла в воздухе, и подалась назад.
– Спросить надо! – сказал я и взглянул на солдата.
– А вы кто будете? – спросил он, посматривая на кисет.
– Я лейтенант! Командир вашей роты!
– Нуда?
– Вот тебе и нуда? На фронте не принято было, чтобы солдаты сразу вскакивали, приветствовали своего командира. В стрелковых ротах никто никому честь не отдавал. У тыловиков это дело было иначе (и наоборот). Они тянулись перед своим начальством. А у этих бывалых, ходивших на смерть, рука бы не потянулась, у них была своя мерка (на военные чины). Все, кто сидел и лежал на полу, и не пытались встать на ноги. Они только повернули головы в мою сторону и хотели узнать новенький я, прибывший из тыла, или такой же бывалый, обтрепанный и обстрелянный окопник как они. Старшина (Лоскутов) лежал на полу, он спал в одной куче с солдатами. Его толкнули. Он поднял голову. Ему шепнули. Он поднялся на ноги. Старшина хотел было шагнуть с докладом ко мне, но я движением руки остановил его на полушаге.
– Подсаживайся сюда к столу старшина!
– А ты бы брат убрал со стола свои локти. А то развалился как пьяный в кабаке! Шел бы ты братец на солому! Я огляделся кругом. Среди солдат ни одного знакомого лица, но все они не первый день на фронте. (Все они попали в санроту). Их выписали из санвзводов и санрот после ранений.
– Ну что (старшина) Лоскутов!
– Откуда вы мою фамилию знаете?
В штабе сказали. Приказом по штабу тебя назначили (ты назначен) командиром взвода. На роту нужно бы иметь лошаденку и ротное хозяйство. Отправляйся в тылы, получай всё, что для роты положено и скажи кого из своих назначить на ротное снабжение (хозяйство). А то сунут нам (какого) жулика, сам будешь зубами стучать. Старшина предложил на снабжение поставить пожилого сержанта, а в помощники к нему, повозочным, дать пожилого солдата (из крестьян). На следующий день, как договорились, Лоскутов, сержант и повозчный вернулись с лошадёнкой запряженной в сани. Они привезли хлеб, сахар, махорку два термоса с горячей едой. Вслед за ними явился на своей повозке работник вещевого снабжения. Он привез отремонтированные валенки, белье, солдатские стёганные штаны, куцавейки и шапки. (Все это БУ (бывшее в употреблении), но зашито и заделано на совесть, добротно). Солдаты подходили по одному, показывали рваные и прожженные дыры, стаскивали с себя негодное и тут же бросали на снег. Все, что снято с живого солдата, подлежало санобработке в дезинфекционной камере. Потное, как сказал снабженец (из полка), с чистым класть в одни сани нельзя. Не положено по форме номер двадцать! Вши будут на чистое переползать. К ночи переодевание роты было закончено. Утром я построил своих солдат, сделал перекличку и объявил порядок несения службы. Рота пока охраняла деревню, где располагался штаб полка. (Так снова началось) Солдатская жизнь началась с постов караула и мороза. Прошло дня два. Роту пополнили солдатами, прибывшими из тыла. Я получил приказ выйти с ротой на передовые позиции. Мы сменили на одном из участков полка небольшую группу измотанных войною солдат. Их отвели во второй эшелон для пополнения. (После построения, проверки оружия, это полагается перед дальней дорогой.) Вечером мы вышли на дорогу и пошли догонять отступающих немцев.
(- Не отставать – крикнул я лениво шагавшим солдатам.
Узкая снежная дорога потеряла в снегу следы. Где-то она скатывалась по твердому пригорку, виляла между обледенелых пушистых кустов, впереди она вползала в заснеженную низину и снова теряла свои следы в застывшей снежной дали).
14-го декабря немцы оставили Калинин и 20-му декабря стали отходить по всей линии фронта к Старице. Там они хотели встать на новый рубеж. Утром мы ротой подошли к населённому пункту Пушкино. Погода неожиданно прояснилась, в небе появились немецкие самолеты. Мы с проселка вышли на шоссе, дошли до центра села и остановились. Перед нами была высокая каменная церковь. Я. велел солдатам встать у стены и никуда не ходить.
По фамилиям и в лицо я своих солдат пока не знаю, думал не соберу, если они по домам разбегутся.
– Нам приказано ждать у церкви! Никому не отходить от стены! Немцев в селе и на дороге не было. Мы стояли и ждали посыльного из штаба полка. Указания и приказы теперь получали от начальника штаба (полка). В полку наша рота пока впереди шла единственной. Потрепанные группы солдат отвели во второй эшелон для пополнения. Но все это делалось на ходу, потому что мы шли за отступающим противником. Я шел с ротой впереди. Штаб и командир полка ехали с обозом сзади. Командира полка за это время я ни разу не видел. Меня вызывал и ко мне посылал связных начальник штаба. Мы стояли у церкви, со стороны Старицы, над дорогой появился немецкий истребитель. Увидев нас, он перевалился на крыло, сделал крутой разворот, и, набирая скорость на снижении, пустил в нашу сторону очередь из пулемёта. Солдаты, (народ ушлый) сразу забежали за угол церкви. снова за угол. Брызги кирпича и штукатурки полетели сверху в разные стороны. Немец не удержался и пустил в пустую стену еще дону длинную очередь пуль. Он не успокоился на этом. Он зашел с другой стороны. Мы, не торопясь, свернули снова за угол. Он гонялся за нами вокруг. Самолет пикировал, но бомбить ему было нечем.
– Пошли братцы в нутро! Надоело бегать! – крикнул кто-то из солдат. Солдаты взглянули на меня. (Что я скажу). Я махнул рукой и вся рота ручейком забежала во внутрь церкви. Немец на этот раз пустил очередь по дырявому куполу. Несколько пуль рикошетом ударили в стену, и сверху на пол посылалась (фреска). Всплески штукатурки и мела нас мало волновали, хотя некоторые из солдат, глядя туда на ангелов, стали креститься. Я стоял в дверях церкви и наблюдал, что будет делать немец дальше. Он пролетел над, куполом па бреющем полете, пострелял, пожужжал, погудел и улетел восвояси. Внутри церкви был полнейший хаос и разгром. Стены облуплены, окна выбиты, лепные украшения алтаря болтались на (железной) проволоке, на полу обгорелые куски какой-то утвари, следы костров, кучи конского навоза, загаженные углы, ворохи примятой соломы и пустые, повсюду разбросанные, консервные банки.
4.
Цивилизация сворачивала сюда с большой дороги, спасалась внутри церкви от ветра, вьюги и холода, спала, ела, и, не отходя, тут же гадила. А как же иначе? У немцев не принято, чтобы высшая раса снимала штаны на ветру посередь дороги. В общем, постепенно они божий храм превратили в отхожее место. Мы вышли на улицу из вонючей церкви. Немецкий (цивилизованный) специфический, кислый запах, это не то, что наш русский (даже крепкий дух). От немецкого у русского человека всю душу и кишки выворачивает, а немцы при этом едят, пьют, спят и им ничего. Непонятна загадочная душа русского солдата. При входе в загаженную церковь нашлись и такие, которые переступив порог, поснимали (с головы) каски и шапки. А прежде, когда мы стояли в деревне, и они, садясь за стол, никогда этого не делали, хотя в избе в переднем углу висели иконы с святыми ликами. А тут вошли, покосились на меня и зашевелили губами. Пусть, думаю потешаться! Каждый верит по своему! Путь каждого из нас на войне слишком короткий. А эти видно слабы духом, душой и телом. Вот и поверили в бога. Вскоре по дороге из леса прибежал полковой связной. Он передал мне приказ ждать обоз и следовать дальше (вместе с ним). Дивизия от Пушкино повернула в сторону и взяла направление на Калошино, Полубратково и Леушино. Мы двое суток шли, и за нами вплотную тащился полковой обоз. По узкой просёлочной дороге, забитой снегом, повозками, людьми и лошадьми, шли сонно и медленно (поглядывая себе под ноги). Обоз иногда останавливался, повозочные начинали переругиваться, солдаты топтались на месте, поворачиваясь к колючему ветру спиной. Но вот обоз рывками трогался с места, ругань и брань утихали, (лошади переставали дергаться), солдаты переходили на мерный неторопливый шаг. Не помню где. Обоз съехал в русло реки. Лошади надрывно храпели, сползая на животах по рыхлым сугробам вниз, повозочные орали и матерились, нахлестывая их по костлявым бокам. (На всем этом пути я за дорогой не следил. Мы шли небольшими группами между санями, помогая, когда нужно вытаскивать их из снежных сугробов.) Но вот обоз вышел на ровный и гладкий лёд, лошади звонко застучали стальными шипами подков, закрутили хвостами. Обоз подкатил под крутой обрыв берега. Наверху над нами был большой снежный бугор. Нам объявили привал. Лошади не люди! Они не могут сутками непрерывно идти. Их нужно поить. Им нужно давать воды, овса и сена. Им нужен отдых, иначе они дальше не пойдут. Повозочные прикрыли им дерюгами вспотевшие (загривки и) спины. Солдаты, кто, где стоял, повалились на (спину в) снег. Бросив корма лошадям, обозники залили водой походные кухни и приступили к вареву горячего хлебова.
(Видимо обозники топили походные кухни на ходу). Привал продолжался до самого вечера. Потом нам дали по паре сухарей и плеснули по черпаку горячего пойла. Во время следования по маршруту, на дороге в любом месте мы (обоз) могли напороться на немцев. Но немцы видно избегали забираться в снежные просторы и глушь. Главной заботой роты была не столько охрана обоза от немцев, а сколько толкание и вытаскивание из снега застрявших саней и лошадей. На переходах солдаты стрелки были молчаливы и угрюмы. Но стоило им с часок поваляться в снегу, получить пайку хлеба, застучать около кухни котелками, как начинались шуточки и разные (прибауточки) словечки. Новобранцы ещё не успели принюхаться к немецкому пороху, им казалось, что шарканье ногами по снежной дороге и есть настоящая фронтовая солдатская жизнь. Повозочные тоже были (в этом) железно уверены, что это и есть священная война. Если не приближаться к большакам и столбовым дорогам, по которым отступал основные части немцев, то можно было тащиться с обозом, не встречаясь с немцами на всём (этом) далеком и извилистом пути. Погода опять нахмурилась. Немецкая авиация не летала. Прошло более недели, а события пережитого кровавого четверга снова и снова всплывали пред глазами. Я не улыбался солдатским шуточкам, сидел на краю саней задумчивый и хмурый, мне непонятными были их ухмылки и веселые словечки. А с другой стороны думал, пусть пофыркают и не думают о войне, смех для солдата отдушина. Придёт время, и они перестанут смеяться. Ночью нам приказали покинуть обоз и выйти вперёд на деревню. Рота растянулась на узкой лесной дороге. Солдаты шли, где по одному, а где по двое. В узких местах они толкались, не желая сходить в сторону, и залезать по колено в снег. Сквозь небольшие прогалины между деревьями, мы увидели снежное поле и деревне. Передние остановились, а задние ещё тащились сзади (по лесной дороге). Отсюда хорошо били виды глубоко посаженные в снег сараи и деревенские избы. При подходе к лесу, мы два раза натыкались на немцев, попадали под их пулеметный огонь. Но каждый раз, как только они нас замечали, они убегали от нас (старались поскорей уйти назад). Наступать на них с хода не было никакого смысла. Позади было достаточно примеров, когда снежные бугры на отбитой местности покрывались солдатскими трупами. Впереди перед полком было пока одна наша рота и начальник штаба не (рисковал как это бывало в прежние времена) совал её безрассудно вперед… тылы и штабы в это время имели полный состав лошадей и людей. Меня как и прежде подгоняли и торопили, но категорических приказов лезть под (на пулеметы по видимому) немецкие пули отдавать опасались. И теперь я при…решил отдохнуть до вечера, чтобы к крайним избам подойти незаметно и скрытно.
При встрече с нами немцы стреляли, не целясь, и уходили с дороги, чтобы не попасть самим под огонь. В деревне они поджигали несколько домов или сараев и бежали в следующую деревню оповещая своих соседей,что русские уже подошли. Теперь по ночам горизонт озарялся огнями пожаров и застилал столбами черного дыма. Бывали дни, когда немцы, боясь нашего обхода, поджигали деревни заранее, бежали дальше, бросая все на своем пути. Теперь в деревнях стали попадаться мирные жители. Днём немцы выгоняли их на чистку, дорог, чтобы днем по ним можно было бежать и ехать проворней. (Стоило теперь вспыхнуть где-нибудь огню… древнего дымного сигнала, появлялись столбы дыма ползущего к небу и всполохи пламени под ними.) Низкие зимние облака озарялись желтым подсветом пожаров. Мороз, стужа и ветер делали своё полезное дело, подгоняя немцев на дорогах. Машины на морозе застывали, тягачи и транспортеры их глохли. Обледенелое железо и броня оставались стоять по середине дороги. Сколько рукоятками не крути, сколько не лей в радиатор горячую воду, сколько не бегай вокруг и не кричи, моторы намертво застывали и не заводились. По началу мы думали, что это подбитая техника. Но где ей быть? Наша авиация не летала (и её вообще здесь не было видно). Полковая артиллерия, состоящая из нескольких пушек, тащилась сзади с полковым обозом, и снарядов на пушку приходилось не больше десятка. И когда на дорогах мы подходили к немецкому застывшему железу, то было видно, что ни один снаряд, ни один осколок бомбы его не тронул. Немцы сталкивали машины с дороги под откос. Но случалось и другое, мы догоняли их, они останавливались, разворачивались и остервенело били по нам, не жалея боеприпасов. Отступая, немцы чистили дороги, выгоняя на расчистку снега мирное население. Оставляя на дорогах и в деревнях группы 'прикрытия', они цепляли орудия и увозили их, на новые рубежи. Там им готовили новые штабеля снарядов и мин. В стороне от больших дорог у немцев тоже действовали мелкие подвижные группы. Они держали нас и прикрывали отступление (новые рубежи основных своих частей и артиллерии). Мы двигались не торопясь, нащупывая немецкие группы прикрытия. Но каждый раз, подвигаясь вперёд, мы иногда были вынуждены нести потери (потери в живой силе почти под каждой деревней. Немцы нас ждали, подпускали на открытое место и открывали пулеметный огонь). В полку тогда было мало людей. Боеприпасы отсутствовали. Дороги снабжения растянулись. Выбивать немцев из деревень было не чем.
И вот однажды при выходе из леса к деревне рота подвинулась в снежное поле и (вышла в открытое поле по низине и при выходе из неё) залегла в снегу (по обе стороны дороги). Дальше, по открытой местности идти было нельзя. Мы сунулись было вперёд, но по краю лощины тут же ударило несколько очередей. Пули прошли чуть выше. Потерь на этот раз не было и лезть (в открытую) на деревню не было смысла. Впереди виднелись крыши уцелевшей от пожара деревни. Я сидел на снегу, у края бровки дороги. Слышу сзади голоса. Поворачиваю голову назад и смотрю в сторону леса, вижу по дороге в нашу сторону ползут двое солдат.
– По низине можно пригнувшись идти – крикнул я им, – Чего вы животы надрываете и трете коленки? Это наверно связные! Я подминаю под собой мягкий сугроб, усаживаюсь поудобнее, закуриваю и жду когда они подползут.
– Вас ждут там в лесу! Велели туда явиться! Я поворачиваюсь к ординарцу и говорю:
– Передай, старшине Лоскутову меня вызывают, начальство стоит в лесу. Он остается за меня! Давай быстро назад! (Вместе со мной пойдете). В лес пойдем вместе! Ординарец возвращается. Я поднимаюсь из сугроба и иду по дороге. Ординарец следует за мной, солдаты тоже идут. Они уже не ползут, (по дороге) и не протирают штаны. Мы проходим лощиной, (деревни с дороги не видно). Подходим к опушке леса, там за поворотом дороги, около густого ельника стоит группа людей, они в новых маскхалатах. Начальство из полка!- соображаю я. Подхожу ближе, посыльной показывает мне на одного и говорит
– Это наш новый комбат! Комбат подаёт мне руку и показывает на другого.
– Это наш комиссар батальона! Вместе с ними стоят ещё трое. Я узнаю одного из них. -В гости прибыл! – говорю я ему. Мои слова ему явно не по нутру. Я поглядываю на него и улыбаюсь. Передо мной в белом халате стоит Савенков. Политруком он был назначен в роту за Волгой. Пятая poтa 11-го декабря погибла (без него). Он сидел в тылах полка и на передний край не разу не показался. Как-то раз я видел его во взводе связи. Он сидел на крыльце. Мы проходили мимо. Он сказал мне тогда, что политотдел отозвал его для важной работы.
– Ну вот снова и встретились Савенков! С самой Волги не виделись!
– Вы стало быть знакомые? – заметил комбат.
– Ну как же! Политрук моей роты!
– Вот и принимай его с хлебом и солью! Он назначен к тебе!
– Ну и дела! Вы его в политотдел отправьте. У него там важные дела. Он в роте с 4-го декабря ни разу не был.
Савенков прищурил глаза, сжал крепко зубы и метнул в мою сторону быстрый взгляд. комбат вышел на опушку и стал смотреть в прогалки между деревьев, стараясь угадать, что там впереди. Он достал из футляра бинокль и долго смотрел на деревню и на дорогу. За лесом, (до того места) где лежала стрелковая рота, простиралась лощина. Дальше поле переваривало бугор, подход к деревне был ничем неприкрыт. (Отсюда, с опушки леса, небольшие возвышения можно было не разглядеть) увидеть. Комбат шарил биноклем среди белых кустов и холмов, движения в деревне он не заметил, повернулся и сказал в мою сторону
– В деревне немцев нет!
– Видишь! – сказал он шагнув в мою сторону и показал рукой
– Кругом совершенно тихо, движения никакого! Почему медлишь? Подымай роту и веди вперёд!
– Ты во весь рост шел сюда к лесу из деревни, никто по тебе не стрелял. Я посмотрел на него, чуть улыбнулся и, совсем не смущаясь, что он теперь мой новый комбат, спокойно сказал:
– Вот и отлично! Чего мы здесь стоим, за ёлками прячемся? В деревне немца нет! Покажем солдату пример! Предлагаю всем и политруку Савенкову отправиться пешком и на виду у солдат пешком прогуляться до деревни. Пусть посмотрят, как офицеры берут без выстрела деревни!
– Дойдём до крайнего дома, считай деревня наша! А если ошибка комбат? Умрем за нашу любимую Родину!
– Мне нужна деревня! – сказал комбат, подходя к развесистой ели. Он упёрся локтями в толстый, горизонтально торчащий, сук и снова припал к биноклю.
– Пятый дом от края! Лучше смотри! Я смотрел ему в спину и думал: Кто он? Воевал? Был на фронте? Или из запаса с курсов ''Выстрел" пришел? Через некоторое время комбат отошел от ели и подозвал к себе двух солдат. Я вначале подумал, что это полковые связные, а это оказались разведчики. Я только сейчас обратил внимание, что ствола автоматов у них были обмотаны медицинскими бинтами. Связные обычно этого не делали.
– Нужно разведать деревню! – сказал им комбат. Пойдете вдвоём по правой стороне дороги! Мы будем наблюдать за вами! Я хмыкнул себе под нос и подумал: «Мы будем наблюдать за вами!» Разведчики вышли с опушки леса и пошли по дороге. Они шли во весь рост пока не поравнялись |с лекажей в снегу, (по обе стороны дороги), стрелковой ротой. И как только они переступили небольшой снежный перевал, (снежного бугра) тут же из деревни полоснул немецкий пулемёт (в их сторону). Через секунду ударил другой, а за ним третий. Один из разведчиков, бросил автомат, перехвати руку выше локтя и повалился на дорогу.
Другой, пятясь задом, схватился за живот и отполз за перевал. Если бы рота по требованию комбата встала и пошла на деревню, можно сказать с уверенностью, человек двадцать убитых осталось бы на снегу. Стрелки – не разведчики. Быстроты и прыти у них нет. Делают они все неторопливо и медленно, даже умирают лениво и нехотя. Первый раз я подал голос в защиту своих солдат и первый раз на меня не обрушился поток грубой брани. Немцы, надсаживаясь, открыли пулеметную стрельбу (и по опушке леса). Сверху поползли потоки, висевшего на лапах елей сыпучего снега, стали падать подрезанные пулями сучки и ветки. Потом как-то вдруг и неожиданно все стихло. Комбат в первый момент попятился назад. Заднюю группу из трёх, словно ветром сдуло. Но, видя, что я стою за стволом развесистой ели, комбат подошел вплотную ко мне и встал у меня за спиной. Разведчик, раненный в руки, что пятился задом, вскоре появился на опушке леса. Комбат послал связного с запиской в штаб полка. Раненого перевязали и отправили в тыл. Через некоторое время по лесной дороге подвезли сорокопятку. Её выкатили на руках вперед, загнали снаряд и пустили вдаль по деревне. Немцы ничего подобного не ожидали с нашей стороны. Они привыкли в ответ на пулеметную стрельбу слышать (в ответ) винтовочные выстрелы. Пяти снарядов было достаточно, чтобы немцы подожгли на отшибе деревни два сарая и побежали из неё.
– Кончай стрелять! – крикнул я артиллеристам. – Вот теперь комбат можно и с ротой идти. Немцы из деревни отвалили. Где-то за лесом слева тоже поднялся чёрный дым. В деревне, куда мы вошли, было много мирных жителей. Горели два сарая (на отшибе). Комбат остался на опушке леса. Ему должны были подать туда телефонную связь. К сорокопятке подстегнули постромки и лошади потянули её за нами в деревню. Немцы домов и людей в деревне не тронули. Дома в деревне все были целые. Кроме хозяев и их семей в деревне было много беженцев из округи. Пострадавших и убитых от нашего одного выстрела не было. Снаряды пролетели поверх домов. Через заносы и сугробы на подходе к деревне солдаты стрелки перелезли быстро, а вот сорокопятку на конной тяге перетащить не удалось. Она застряла в глубоком снегу. Снег был глубоким, лошадям был по самое брюхо. Лошади дергались, а вперед через сугробы не шли. Командир артвзвода пошел в деревню и стал просить жителей выйти с лопатами на дорогу. Нужно было расчистить метров пятьдесят. Но ни одна деревенская баба, ни один из парней подростков не тронулись с места, ссылаясь на разные причины. Одна была больная, другой был без сапог. Видя молчаливый отказ и нежелание помочь пушкарям я остановил роту по середине деревни и пошел с ординарцем по домам.
Я уговаривал и доказывал взять деревянные лопаты, выйти за деревню на дорогу и расчистить её. Наши малые саперные для сыпучего снега не годились. Солдаты втыкали иx в снег кидали кверху комок, а он подхваченный ветром рассыпался в виде мелкой крупы и ссыпался обратно. Солдаты прокопается па дороге до ночи, устанут, а нам ещё нужно идти, да идти. И я пошел по избам выгонять баб на дорогу. Одна охала и причитала, что у неё не разгибается спина, другая смотрела в глаза с явным нежеланием и упорством. У каждого были свои неотложные дела. А третья, как только я переступил её порог, завыла в голос и пустила слезу. Немцы забрали у неё последнюю обувку! Я верил им и не думал, что они просто отлынивают. Мол, наши пришли, народ сердобольный и своих не тронут. Но я видел еще и другое. Некоторые не очень были рады нашему приходу. Они боятся, что немцы снова придут сюда – подумал я. Насилья нельзя применить – мы освободители! Кричать и угрожать тоже не положено. Я обошел всю деревню и направился к последней: избе, стоящей несколько на отшибе.
На скамье, около дома, сидела старуха. На лице и около рта глубокие складки, на лбу и на щеках мелкие морщинки. Лицо белое, чистое. Глаза впалые, серые и почти бесцветные. Сидела она прямо, даже чуть подав вперёд впалую грудь. Острые коленки были согнуты и торчали под холщевой одежонкой. Руки жилистые и костлявые лежали на ногах. Эту позу она, по видимому, приняла давно. Села на лавку и застыла. Лицо спокойное, доброе и осмысленное. Если бы она не шевелила губами, и на лице ее не вздрагивали мелкие морщинки, то можно было бы подумать, что на меня смотрит портрет с полотна. Как (притягательно мудра) живописна была её застывшая фигура. Глаза её глядели куда-то глубоко вовнутрь. Шевеля тонкими губами и меняя положение складок у рта, она (как бы) с кем-то внутренне разговаривала. Я стоял и смотрел на неё и не хотел шевелиться. Вот когда-то так же в школе губами мы мысленно повторяли про себя невыученные стихи. Возможно в голове, у неё не звучали стихи, она думала о другом, о чём-то дорогом ей и близком. О чем она думала? Что внутренне волновало её? Бывают же языкастые, похабные бабы и старухи. Их хлебом не корми им только бы поорать и обложить. А эта как святая, переполненная жизнью и миром, сидела и не видела окружающей земли. Заговори сейчас с ней, прерви её размышления, и у неё оборвется что-нибудь внутри.
Лик её погаснет, губы плотно сомкнуться, в глазах появится испуг.
– Ты чего стоишь лейтенант? – услышал я голос сзади.
– Думаешь до темна не успеем? Я обернулся; (ничего не ответил) позади меня стоял младший лейтенант артиллерист. Он посмотрел на меня, махнул рукой и пошел обратно. А я стоял и думал, редко уводишь такое лицо, чаще попадаются тупые и злобные лица. От сказанных слов артиллеристом, старушка очнулась и посмотрела на меня. Что же ты бабуся, одна здесь проживаешь? Ни постояльцев, ни родных? Да, сынок осталась одна. Что это у вас в деревне неприветливый народ? Видят, что дорогу засыпало снегом. Просим помочь. А они ни с места! Пушка у нас застряла. Лошади не идут. Старуха буркнула что-то невнятное себе под нос, поднялась быстро с лавки, подошла к дверному косяку, взяла палку и сказала:
– Пошли!
– Иди касатик за мной. Сейчас мы им покажем, как своих надо встречать! Она подошла к первому дому и громко, чтоб было слышно внутри, закричала:
– Ты им под крышу трассирующую пальни! Они сейчас мигом с лопатами повыскакивают!
У старухи был громкий и зычный голос. Она чуть покашливала и кричала, сдабривая свои слова нужными ругательствами. А ты, немецкая шлюха! Свои, русские пришли! А у ней спину заломило! Полицаи недобитые! Она подошла к другой избе и кричать не стала. Она ударила палкой по оконной раме, да так, что стекла задребезжали.
– Немцы их не просили и не били им в набат!
– Придёт какой шелудивый и скажет (одной из них) тихо: – Матка, лес-лес! Шнель-шнешь! Они стервы с лопатами бегом на дорогу бегут. Старуха шла по улице и грозила в окна палкой. Точь, в точь как чаш Березин. Он тоже грозил повозочным и гонял их своей клюшкой, когда те, развалясь в груженых повозках, погоняли своих тощих лошадей. Ну-ка сынок! Пальни в небо около этой избы! Орать на этих гнид нет никакой охоты. Это же нечисть. Щас эта Манька подлая тварь, прости Господи, вылетит, как с цепи сорвется! Из домов на дорогу, причитая и охая, бежали бабы, девки и парни,
– Матка! Матка! Шнель! – кричала им старуха вдогонку.
– Ты видишь сынок! Они по немецкому научены шпрехать! Все ведь подлые понимают!
12.
– Снег для вшивых немцев всю зиму чистил. Бегали дате с охотой
– А свои пришли, считают не обязаны! Когда сугробы были разбросаны дорога расчищена, и лошади про тащили, пушку, я сказал обращаясь к старухе:
– Ты мать теперь на деревне советская власть! Назначаем тебя председателем! Если что? Кто не будет слушаться? Вызывай наших солдат! Сейчас будут наказывать строго! По законам военного времени!
– Все слышали?
– А тебя мать нужно представить к медали за помощь советским войскам.
– Не нужно мне вашей медали! Я для солдат старалась! Петенька мой тоже где-то воюет! Только вот весточки нет! Может сложил уже головушку за нашу русскую землю? – сказала она и заплакала.
– Счастливого пути родимые! – сказала она и помахала нам своей костлявой pyкoй. И тут же вскинув брови, потрясла палкой в воздухе в сторону баб. Те стояли поджав губы. Оставаться им на месте или идти по домам.
– Чистите лучше, под метлу!- услышал я сзади голос старухи.
– Ихнее начальство опосля поедет! Старуха повернулась, погрозила, работавшим на дороге, кулаком и пошла к своей избе. Рота вышла за деревню спустилась под горку. Дорога здесь была гладкая, от снега очищена. Немцы заранее приготовили себе чистый путь. Мимо поплыли поля и перелески, голые бугры и заснеженные низины. Позади остались притихшие, в причудливом наряде кусты и деревья. Солдаты не торопились.
– Не растягивайся! – крикнул я. Крикнул и подумал. Зачем собственно мне подгонять их? Где-то впереди, через два, три часа хода нас опять поджидает деревня, немецкие пулеметы и огонь немецких батарей. Что для солдата лучше? Час раньше или один день позже? Где-то для каждого из нас приготовлена пуля или осколок снаряда. Наступит последний момент. Оборвется целая жизнь. А что ей обрываться? Ей короткой пули достаточно! И будет твой труп лежать на снегу до весны. И только там в тылу в городах и деревнях останутся ждать своих сыновей, сгорбленные горем старушки. А для тех, кто позади ехал на саночках, жизнь солдатская не стоила ничего. Им подавай деревни. А сколько она жизней стоила, это никого не интересовало. И если вы увидите увешанного наградами, знайте что любая из наград имеет обратную сторону. Воевали и шли под свинец не те, кто погонял нас ротных по телефону, не те, кто рисовал на картах кружочки и стрелы, не те, кто стригли и помадили. Без стрел было тоже нельзя! Но пусть они знают, что настоящей войны они нигде и никогда не видели.
Воевали и шли под свинец не те кто ехал сзади на саночках. Случайно наезжая на места боев им иногда случалось видеть поля, усеянные солдатскими трупами. (Но этим застывшим как на фотографиях изображениям). Они конечно пытались представить, что здесь могло произойти во время боев. Но к месту сказать, их домыслы и мнение были сплошным невежеством. (Они домысливали различные версии, и к слову сказать, были уверены в своем непогрешимом мнении) Никто никогда из них не пытался с нами даже заговорить, как это мы с одними винтовками брали деревни. Они о войне судили по мертвым (свершившимся) фактам. Вот почему в начале войны каждый их промах стоил нам столько крови и жизней. Кой-какие сведения о войне они получали из опроса пленных. Но допросы не всегда выявляли истинное положение вещей. Допрос майора взятого нами в д. Алексеевское…допрашивали лично в присутствии Березина. Он и поставил… нас под расстрел зенитных батарей. Потом после, вспоминая и сопоставляя факты, я часто приходил к выводу, что Березин один промах делал за другим, но ловко скрывал, выдавал за неуспех других. На пленных немцев обычно составляли опросные листы. Командиров полков знакомили с.ними. Командирам рот их не показывали, и сведений о противнике, который стоял перед нашим фронтом, мы не имели. Чем меньше знают командиры рот, тем лучше (для всех)! Но вот вопрос! Пленных допрашивали, составляли опросные листы, следовательно, их в армии накапливался опыт. А кто, когда в армии или дивизии держал опросный лист нашего ротного офицера или солдата в руках? Политотделы о ротах имели политдонесения. Но что ног написать Савенков, если он один раз взглянул на роту с опушки леса, из-под елки. Если завести с солдатом разговор о войне, то он откровенно своё мнение не выложит. В те времена нужно было больше помалкивать. На передовой солдат находился короткое время. Спроси его фамилию командира роты, командира взвода или старшины, он скажет
– Не знаю! – ну a номер полка?
– Откуда мне знать? (- А номер дивизии? У нас генерал, наверное есть? Вот его и спросите!) Разговор с солдатом о войне трудное дело! К солдату нужен подход! С ним вместе нужно под пулями побывать. Помёрзнуть в снегу. Голод и холод прочувствовать. Тогда он поймет, с кем имеет дело. Ответит тебе по делу. Перекинься с ним на переходе одним двумя словами (лежа под пулями в снегу) может и скажет, что у него на душе (в этот момент обитает). О чем он думает. А в другой раз он может и прихвастнуть на счет войны (или дурочку пустить для порядку). Иди и подумай над смыслом его слов.(А если без трепотни, скажет он, то только солдат солдата понимает. Хочешь узнать правду? Побудь с ним рядом, хоть ты и офицер и ротный начальник. Стрелковая рота – это кровавый след в ад, куда никто живьем не хочет опускаться). Стрелковая рота это кровавый след на снегу.
Истина она в чем? Как говорил апостол Павел: – "Сам испытуй!"
9-ая полевая армия немцев, как вы помните, во главе с генерал-полковником фон Штраусом, сжатая с двух сторон, отходила к Старице. Во Ржеве у немцев были большие запаси боеприпасов и они хотели остановить нас на новом рубеже. Прикрывая отход своих войск и обозов, немцы (огрызались и) пятились и остервенело огрызались на каждом шагу. В районе деревни Полубратково мы напоролись на них. Из-за поворота дороги показалась небольшая группа немецких солдат. Я подал команду – все залегли. Рота переходила дорогу и залегла по обе стороны от неё. Одна половина роты в кустах, а другая на ветру. Немцы не видели нас, приблизились метров на тридцать, мы открыли огонь. Стрельба длилась не долго. Мы уложили с десяток, так что ни один не ушел. Дела наши шли хорошо. Но вот из-за поворота дороги показались немецкие самоходки. Стрельба с нашей стороны прекратилась, и мы уткнули головы в снег. Но группа моих солдат оказалась отрезанной на той стороне дороги. Мы переходили дорогу, и большая часть роты успела перейти в кусты. Это и спасло нас. Немцы в нашу сторону не посмотрели. А те, кто остался в открытом поле (при подходе к дороге), на моих глазах были (из танков) расстреляны. Бежать по глубокому снегу солдатам было некуда. И они остались лежать в снегу до весны. Немецкая колона подобрала своих у6итых и раненных и загрохотав гусеницами, прошла мимо нас. Кругом опять стало тихо. Я передал командование старшине Лоскутову и приказал ему первой выдвинуться на опушку леса, а ординарцу велел мне сделать перевязку. Пулевая рана во…оказалась касательной, хотя в голенище валенка была входная дыра и показалась кровь. Ординарец сделал мне перевязку. Портянку причлось заменить. Вскоре мы с ним по следам догнали свою роту. Я полупил приказ из батальона обойти деревню Баково и к утру занять исходное положение на северной опушке леса, с той стороны реки. Peчка – вытекает из болота в районе (небольшой) деревни Блиново. Рота сползла на задницей с крутого бугра на лед, съехали, мы повернули на юго-запад и пошли по замерзшему руслу реки. Виляла она и крутилась. Мы подвигались в заданном направлении (медленно), теряя на повороты и обходы много времени. В зимний период ночью ориентироваться вообще трудно. Складки местности сглажены к укрыты толстым слоем снега. В сереющей ночной, мгле трудно отыскать характерные ориентиры. Сколько мы прошли изгибов, где мы находимся в данный момент? Никому не известно!
Карты наши, выпуска и… их с местностью, скажу вам, дело мудреное. В жизненных отношениях между людьми я по молодости тогда разбирался плохо. Стоял всегда за правду, искал во всем истину. А вот карты и местность я знал и читал хорошо. Раньше мне никогда не приходилось ходить по замерзшему руслу. Я не знал, что на поверхности льда, под толстым слоем снега, может появиться и скапливаться вода. Она может затопить сравнительно, большое пространство. Она не сразу, когда идёшь, выступает в следах. Вот почему вся рота незаметно зашла на залитое водой пространство. Снег был глубокий. Мы не сразу заметили воду в ногах. Обнаружили мы когда она захлюпала в портянках и с валенок побежали ручьи. Обморожение ног у целой роты! – мелькнуло в голове. И я, не раздумывая, повернул солдат обратно. Мы быстро дошли до леса. Зашли в его глубину, так чтобы не видно было огня м я велел развести небольшие костры.
– Выжимайте портянки, сушите их над oгнем натирайте ими внутри свои валенки!
– И держите над огнем мокрые валенки подальше. Мокрые валенки быстро не высушишь. Свеpху подсушишь, а внутри горячо и сыро. Несколько человек, которые шли сзади, в воду по своей лени не попали. Ноги у них были сухие. Я послал в батальон двоих доложить о случившемся. Остальные сидели у костров сушили валенки и грели голые пятки. Ноги… к огню и шевелили грязными пальцами. (Под ногами у каждого лежала куча сухого валежника). От мокрых портянок и валенок валил белый пар, застилая солдатские лица и разнося противный (удушливый) запах в лесу. Некоторые, что были пошустрей, набивали…Пока рота пускала пары и гоняла чаи, комбат пустил вперед другую стрелковую роту. Полк на ходу получил пополнение. В батальоне теперь было две стрелковые роты. Наша, считай, получила передышку на целые сутки. На рассвете следующего дня мы должны были пойти на деревню.
Без потерь её не взять – подумал я, переворачивая валенок. Если бы не вода, лежать бы нам сейчас под той деревней. Утро наступило как-то сразу. Из роты, что ушла вместо нас вперед, появились первые раненные. К вечеру зa мной прислали связного, меня вызывали в батальон. При встрече комбат, конечно, высказал своё неудовольствие и велел, как он выразился, непромокаемому… немедленно на исходное положение вперед.
– Атаку четвертой роты немцы отбили! – добавил он – о потерях, что они были большие он ничего не сказал. Не хотел, чтобы я был в курсе дела.
– Ты со своими выходишь на опушку леса и занимаешь исходное положение! Телефонную связь тебе дадим!
Здесь, в непосредственной близи от деревни, костров не разведешь. Хотя солдаты не все как следует подсушили, но что сделаешь, приказ есть приказ, нужно ложиться в снег. На теле досохнет! Впереди нас, на снегу в открытом поле лежат раненые и убитые четвертой стрелковой роты, которую вместо нас послали на деревню. Одни будут ждать темноты, другие останутся здесь до весны. Мои сол паты довольны, что на марше залезли в воду и промочили ноги (штаны, валенки, до колен). Зато пока живой! Один день да наш (это большое дело).
– Вот так бы каждый день! – услышал я разговор среди моих солдат.
– Пусть посылают! Мы хоть по горло в воду! А потом подальше в лес, шмутки сушить!
– А вон Ленька и Егор остались сухие! Им море по колен!
– Чего по колен? Они как доходяги, всегда сзади топают! Ночь прошла без стрельбы. Часть раненых успела низиной выбраться к Утром как обычно заработали немецкие батареи. Немец взметал в небо снежные сугробы, облака снега и дыма летели вверх от замерзшей земли. Сюда на опушку леса снаряды не долетали. Они рвали остатки роты, которая лежала впереди. По разрыву снарядов и по звуку немецких пулеметов можно было представить, что творилось на передке (впереди). Немцы не выдерживали, когда русские подползали слишком близко. Они начинали нервничать, торопиться, метаться по деревне. А сейчас, прислушиваясь к разрывам и спокойному рокоту их пулеметов, было похоже, что живых солдат, лежащих впереди не осталось. Видно очень нужна была эта деревня и нашим и немцам. Одни не жалели стволов и снарядов, другие не считали и не жалели своих солдат. А что сделаешь, если на то категорический приказ из штаба дивизии или еще даже с самого верха. Взять деревню любой ценой. А с одними винтовками не всегда получается. Но вот и на опушку леса, где мы лежим, немцы бросили первый снаряд. Он пролетел над головой и глухо ударил сзади между деревьев. Второй при подлете затих и через секунду рванулся рядом. На душе кошки скребут, когда их пускают по одному. Вот завыл третий. Твой он или пронесет? Лучше бы бросили сразу десяток и заткнули стволы. А эти одиночные, как бритвой по горлу! Резанёт или нет? Мы лежим метрах в ста позади наступавшей роты, дым и гарь разрывов сдувает на нас. Да ещё эти одиночные, как серпом по мягкому месту.
Хотя, если подумать, нам лучше чем им. К полудню небо нахмурилось. В лесу потемнело. Казалось, что зимний день уже близится к концу. И вот тяжелые хлопья снега стремительно понеслись сплошной пеленой к земле. Стрельба с немецкой стороны прекратилась. Немцы зачехлили свои стволы. Используя затишье, к опушке леса побежали раненые, ползком подались тяжёлые, доложить по телефону явились связные:
– Командир роты жив?- спросил я связных.
– Жив! Там с ним человек десять живых осталось!
Я позвонил в батальон, доложил комбату обстановку и пролил прислать санитаров с волокушами для отправку в тыл тяжело раненых, На следующий день, собрав остатки рот, их снова пустили, рассчитывая под снежную завесу малыми силами ворваться в деревню. Но новый мощный налет похоронил в снегу небольшую отважную группу. Живой цели перед немцами не было, они прекратили стрельбу. Деревню нахрапом не возьмёшь! Штабные запросили передышки. В батальоне практически осталась опять одна стрелковая рота. Пушка и два станковых пулемёта из батальона куда-то исчезли, а с одними винтовками на деревне в открытую не пойдёшь. В этом только что убедились. А снег всё валил и валил, укрывая изорванную чёрными плешинами землю. За несколько дней навалило целые сугробы. Ночью по телефону я получил приказ перейти к обороне. Солдаты обтоптали снег вокруг себя и залегли за стволы деревьев на самой опушке леса. Ночью из штаба не звонили.
Утром, когда рассвело, телефонист окликнул меня
– Товарищ лейтенант! Вас вызывают к телефону! Телефонист сидел на поваленной берёзе, привалившись спиной к стволу толстой ели. Я подошел к нему и протянул руку за трубкой. Он поднял на меня сбои глаза и подал мне телефонную трубку. Рука его с трубкой застыла, издержалась на мгновение в воздухе. Я взялся за трубку и легонько потянул ее на себя, а пальцы телефониста почему-то не разжимались. Я поглядел на парнишку и хотел было сказать:
– "Давай трубку! Чего держишь её?”
Но готовая фраза оборвалась у меня на полуслове. Комок подкатил к горлу. Я проглотил слюну и увидел. На белом лбу у паренька появилось маленькое розовое пятнышко, совсем меньше копейки. Пятнышко быстро покраснело и налилось алой кровью.
Кровь в виде тонкой струйки поползла к его бровям и переносице. Глаза телефониста по-прежнему смотрела на меня. У меня мелькнула мысль. Как пуля могла прилететь со стороны немцев, если я своим телом прикрываю, солдата с той стороны. Откуда она взялась? Пуля прилетела неслышно! Ни щелчка! Ни малейшего звука! Только красное пятнышко появилось на солдатском лбу! Рука телефониста упала и коснулась, снега. Трубка телефона вывалилась у него из руки. А глаза чистые, как живые, с грустью и тоской продолжали смотреть на меня. Солдаты, стоявшие рядом,… и оцепенели увидев ручеёк алой крови сбегавший по его лицу. Тонкая строка сбегала к переносице, обошла вокруг губ и остановилась на подбородке. Здесь она задержалась и крупными каплями стала падать на шершавую шинель и в раскрытую ладонь руки. Он ронял капли крови, и даже мертвый собирал в горстку по капельке свою кровь. Глаза его были устремлены на меня, как на живого.свидетеля этого последнего мгновения. Так исчезла ещё одна жизнь. Он отдал её за Родину без вздоха и сожаления. Прошло несколько томительных минут, пока один из солдат не обратил внимание на дребезжащий телефон. Солдат поднял трубку с земли, приложил её к уху и обратился ко мне.
– Вас товарищ лейтенант!
Я махнул рукой. Мне било не до трубки. Я пошевелился, повел в стороны плечами поднял локти вверх, подвигал туда-сюда спиной. Боли нигде не было. Нигде не болит? – спросили солдаты. Пуля не должна пролететь мимо меня! Ну-ка посмотри! На спине,в полушубке вырванный клок меха есть? Солдаты осмотрели полушубок со спины. Они поковыряли пальцами в старых дырах. Так не больно? А так? Нет, не болит! Ну-ка раздевайтесь, товарищ лейтенант! Будем под полушубком искать а то в стой шерсти ни черта не видно! Пуля, она когда насквозь, ее сразу не учуешь. Потом заболит! А ты откуда, знаешь? Старики говорили! Я снял портупею, скинул полушубок и почувствовал, как холодная струйка побежала у меня по спине.
– Снимайте гимнастёрку! На белом нательном белье пятна крови сразу будут отчетливо видны. С меня стянули гимнастёрку, погладили, руками по нательной рубахе. Помогли снять последнюю солдатскую рубаху с завязками, но крови нигде не нашли.
19.
А что там, сырое на спине? – спросил я солдата. Это вы вспотели! Я стоял перед солдатами в полуголом виде. Солдаты тыкали пальцами, ковыряли мои родинки.
– Ну вы и счастливый, товарищ лейтенант! Сколько у вас родинок! Кто -то предложил потереть спину снегом (на ладонь снегу) Кровь, она сразу не пойдёт! Пулю, стерву, сразу не учуешь! Вот намедни, был случай! Идёт Егор, а у него кровь из рукава. Лёнька больной, а Егор здоровый мужик! Лёнька ему и говорит: – " У тебя Егор кровь на руки течёт! А он оборачивается и спрашивает: – Ну да! Где ж она?" " С рукава капает. " Сняли шинель, засучили рукав, а у него пулей клок шкуры содрало! А ведь шел человек.и рука не болела! Я посмотрел на солдат. Вижу, пошли фронтовые рассказы. Взял у солдата нательную рубашку с завязками стряхнул её, чтобы (вшей вытряхнуть на снег) вытряхнуть вшей, осмотрел её, растянул рукава и стал одеваться. До деревни недалеко. Метров четыреста будет. Как пролетела пуля? Откуда она взялась? Из всех стоявших кучкой выбрала себе одну жертву. Как нелепо все получилось! Пока я раздевался и одевался, на телефон никто внимания не обращал. Какие тут телефонные разговоры! Командира роты на вшивость и на пули проверяли! И когда мне снова передали трубку, я услышал недовольный голос комбата. Я не стал рассказывать ему, что здесь произошло. Подумаешь потеря! Смерть одного телефониста! Когда целая рота только что легла под деревней! Целая сотня легла и исчезла в снегу. По телефону я получил приказ готовить роту к наступлению.
– Даю тебе два дня! Разведай деревню и подготовь солдат брать её штурмом на рассвете!
К вечеру я велел ординарцу почистить диски и автомат. Набить диски патронами, и обмотать автомат чистым бинтом. Возьмем с собой бинокль и пару гранат! Приготовь чистые маскхалаты! Ночью пойдём под деревню! Вещмешок с барахлом оставишь здесь! Бинты не забудь! Я решил, что под деревню мы с ординарцем выйдем перед рассветом. Найдем подходящее место, ляжем в снег и будем вести наблюдение целый день до следующей ночи. Ночь прошла без стрельбы. Немцев никто не беспокоил. Снегопад прекратился. Заметно похолодало. В воздухе поблёскивая закружились редкие снежинки. В полной темноте мы покинули опушку леса и двинулись вперёд увязая в глубоком снегу.
Из деревни в нашу сторону изредка летели ракеты. При взлёте мерцающего огня мы валились в снег, опускали головы и ждали когда ударившись, ткнется в снег и зашипит угасая. Осветительная ракета гасла. Наступала чёрная темнота. Мы поднимали головы, снова вставали на ноги и, вскидывая вверх коленки, продвигались вперёд. До деревни оставалось метров двести не более, но мы хотели подойти еще ближе, чтобы разглядеть немцев… Если летящую ракету проводить взглядом до самой земли, то когда она упадёт, погаснет, вокруг себя ничего не увидишь. Все эти нужные моменты в нашем деле имели значение. Когда на переднем крае тихо и немец светит ракетами, волноваться нечего, он тебя не видит. Пустит дежурный пулемётчик со скуки поверх снега очередь трассирующих и пойдут они волнистой змейкой освещая след на снегу. Сначала мы шли во весь рост. Вязли в снегу по колено. Попробовали ползти. Снег рыхлей, тяжелый. Проползли метров десять, вспотели и дух не могли перевести. На лежку в снегу нужно подходить без горячки! Я тронул ординарца за плечо, поднялся на ноги и пошел вскидывая ноги. При ходьбе нельзя делать резких движений. Наблюдатель издалека может тебя заметить. Лохматый заснеженный куст показался чуть правей. К нему мы повернули и направили свои стопы. Ночью зимой вообще трудно держать направление. Ориентиры размыты, прямой путь по ним не возьмешь, расстояния скрадены, снежное пространство обманчиво, оглянешься назад, а следы твои завернули куда-то в сторону. Нужно иметь собачий нюх, чтобы пройти в открытом поле и не сбиться с прямой (направления). Вглядываясь в серую мглу, часто присаживаясь, мы наконец подошли к кусту. Под кустом сразу легли и откинулись на спину. Нужно отдышаться, надо прийти в себя, собраться с мыслями к оглядеться кругом. Скоро придёт рассвет. Под кустом сугроб. Я повернулся со спины и лег на него так, чтобы не высовываться и иметь хороший обзор всей деревни. Через некоторое время небо просветлело. За ветками куста с рыхлым налетом стали видны очертания сараев и отдельных домов. Совсем близко от нас стояли два амбара и отдельный сарай. С опушки леса было не видно, что они стоят на отшибе. Они даже днем, при взгляде в бинокль терялись между снежными крышами домов. Это хорошо, что мы их обнаружили (их здесь). Мы обошли деревню слева и теперь находились, против левой её половины, а вот вторая рота накануне наступала с опушки против правого ее крыла. И остатки роты лежали где-то в снегу далеко правей.
До полного рассвета оставалось, немного. Я повернул голову вправо и посмотрел на опушку леса. Мягко, чуть розовея, на востоке в облаках появился рассвет. Острые макушки деревьев почернели на фоне утреннего неба. Крыши домов, в отличие от снега на поле, стали заметно светлей. Я опустил на лицо марлевую сетку, выпустив её из-под капюшона маскхалата. Ординарец последовал моему примеру. Сколько мы так пролежали, трудно оказать. Мелкий снежок продолжал серебриться в воздухе. Это хорошо! Видимость ограничена! Нас не обнаружат. А от сюда все вижно хорошо. Лёжа под белым заснеженным кустом, я вспомнил, как полз задом от зениток. Если бы не белое ветвистое дерево меня бы расстреляли тогда в упор. Всему этому я помаленьку обучал своего ординарца. Парень он был тощий и худой, мускулишек особых у него не было, но наше дело он соображал хорошо (остро и точно). Вообще он был аккуратным, шустрым и толковым ординарцем. А это немалое дело! Это. не денщик у командира полка! Тот чистит сапоги, полотенце подаёт для умывания, за водкой куда нужно бегает. А этот в разведку должен уметь ходить, соображать за целую роту. Считай после старшины Лоскутова, он третье лицо в роте по всем и по боевым делам. Коснись, если выйдут из строя лейтенант и старшина Лоскутов кого вызовет комбат по телефону и спросит, по чему не взяли деревню, его ординарца. Сухой мелкий снег крутился у нас перед глазами, но смотреть не мешал. Там из-за угла дома дымила немецкая кухня. В дом, что стоял у раскидистого дерева входили к выходили немцы. Эх! Была бы какая-нибудь задрипанная пушка! А там чуть левее, по движению в воздухе рук можно было узнать немецких телефонистов. Они между домами натягивали провода. Видно немцы основательно и на долго решили обосноваться здесь. Но где стоит их артиллерия? Куда нацелились их пулемёты? Я показал ординарцу рукой, чтобы он смотрел за сараем. Как бы не пряталась немцы и не маскировались, подумал я, они в течении короткого зимнего дня должны выдать себя, если сидят в амбарах или в сарае. Без движения, на холоде, в пустом сарае долго не посидишь. Пройтись захотят. Обязательно выглянут. Если в амбарах и сарае нет никого, то их можно будет ночью занять потихоньку. А потом на рассвете целой ротой рвануть на деревню. Я показал ординарцу варежкой, мол, внимательней смотри. Так думал я, наблюдая через марлю за деревней. Марля иногда шевелилась, её подхватывал ветер, она мешала смотреть. Я отломал от куста, торчащего из снега, кусок сухой ветки и проковырял в марле два отверстия и мой взгляд упал на основание куста.
Мне показалось, что у меня под носом что-то шевелилось. Когда я присмотрелся, то увидел в снегу небольшое отверстие, из которого шел белый дымок. Я удивился, откинул марлю на капюшон и посмотрел ещё раз на снежный бугор. Из дыры по-прежнему подымался дымок, как из трубы тлеющего на углях самовара. Подхваченный лёгким движением ветра, он таял в морозном воздухе.
Это мне показалось! – подумал я. Глаза утомились! Долго смотрел! А может я сплю? И это мне снится во сне? Надо попробовать! Я снимаю варежку, протягиваю руку назад и несколько раз щиплю себя за ягодицу. Чувствую боль. И убедившись, что все наяву, я показываю ординарцу на снег, на отверстие и на белый дым, медленно ползущий оттуда. Ординарец утвердительно кивает головой.
Мы лежим на немецком блиндаже, – подумал я. Небольшой бугор снега, это блиндаж. А край бугра, это торцы бревен или сами накаты. Снегу навалило много. Печная железная труба где-то внизу. А вот, где у блиндажа выход, из-за снежного бугра не видно. День уже кончался. Серые сумерки ночи стали незаметно ползти по земле. Я знаком подозвал к себе ординарца. Оттянув ему капюшон маскхалата и клапан папки шепотом сказал: – Приготовь гранату! Я буду откапывать снег до трубы. Как докопаю, выдернешь чеку из гранаты и спустишь ее в трубу! Все ясно? Надев варежку, я стал рукой разгребать снег вокруг отверстия. Расширив воронку и углубив её, я скинул варежку и опустил руку вниз. Пальцами я нащупал что-то холодное и твердое. Я осторожно подался вперёд, вытянул шею и посмотрел на дно воронки. Внизу на дне воронки было человеческое лицо. Под снежным бугром лежал раненный русский солдат. Мы очистили сиу голову и лицо от снега. Он лежал без памяти, но живой и дышал. Это был не дым, как мне показалось в начале, это был легкий белый пар, который выходил у него из ноздрей (при выдохе солдата). Работу по очистке его тела мы проделали в несколько этапов. Когда мы добрались до поясного ремня, на бёдрах и ногах осталось немного снега. Когда весь снег с солдата был убран, мы увидели, что он ранен в обе ноги. Кровь мелкими пятнами успела просочиться сквозь ватные штаны. Ноги солдату побило осколками. Солдат лежал с закрытыми глазами. Посмотришь на него, он как будто забывшись и устав, спит непробудным и глубоким сном. Холод и снег сковали его раны и остановили кровотечение. 23. Видно он потерял не так много крови, чтобы под снегом угаснуть совсем. А говорят на ветру человек, засыпая, замерзает мгновенно. Снег припорошил его, укрыл от переохлаждения и мороза, вот он и остался живой. Он лежал на спине и над ним за эти дни насыпало целую кучу снега. Ровное дыхание образовало отверстие в снегу. Мы приняли его за немецкую печную трубу. Пока мы возились с раненым, ночь навалилась совсем. Я велел ординарцу отправиться в роту. Из роты возьмешь с собой четырёх толковых ребят, санитарную волокушу и катушку телефонного провода! Я до твоего возвращения останусь здесь. Оставь мне гранаты и свой автомат! Вернёшься назад, солдат сюда не води! Оставь их с катушкой в лощине. Волокушу и конец телефонного провода сам дотащишь сюда! Давай быстро! И действуй осторожно! Немцы не должны нас здесь заметить! Ординарец как тень скользнул по снегу и исчез. Прошло часа два, когда я сзади услышал его сопение. На последнем отрезке пути он ползком подбирался по нашим следам. Мы отгребли снег из0под раненого солдата, подтолкнули край волокуши ему под бок и осторожно перевалили. Я приготовился прикрыть ему варежкой рот, если oн от боли вдруг закричит или охнет. Но солдат видно был терпеливый, он не вздохнул и даже не пикнул, не застонал. Мы его уложили на волокушу, он был в забытьи. Волокуша оснащена боковыми ремнями. Мы его приторочили к ней. Когда все было готово, за нос волокуши был мы привязан конец телефонного провода, мы пригнулись и тихо пошли вдоль него. Снежное поле было ровное, с небольшим уклоном в нашу сторону, так что тянуть за провод потом будет легко. Спустившись в лощинку, я лёг на спину и развалился на снегу. Полежав и отдохнув немного, я подозвал к себе солдат.
– Вот провод! На том конце волокуша. В ней лежит раненый. Вы будете тянуть за провод, а я выйду на край поля и буду наблюдать.
– Работать спокойно! Провод рывками не дёргать! Если волокуша застрянет, один из вас по моей команде ползет туда.
– Имейте в виду! Немец не должен здесь никого обнаружить! За это отвечаете головой! Вскоре на снегу показался приплюснутый нос волокуши. Раненый покачивался на ходу вместе с ней. Мне важно было убрать раненого солдат с нашего пути, да и долг был перед ним. Мы после воды сушились в лесу, а он пошел вместо нас умирать под деревню.
Когда волокушу скатили вниз, я приказал ординару со строгостью проследить за солдатами, чтобы они без всякого шума с волокушей дошли до леса. Я полагался на него. Он был парень понятливый и толковый.
– Я в роту приду потом! Я полежу, послушаю здесь. Ты их проводи до лесной дороги!
Отвезете раненого в санвзвод! – сказал я солдатам. Я остался лежать в низине. Хотел сам убедиться, что мы не встревожили немцев. Для нас здесь был реальный шанс без шума и без особых потерь ворваться в деревню. Ворвемся! А там что будет! Главное сейчас не наделать шума. Как мне потом доложили, раненого благополучно доставили фельдшеру. Но кто он? Как его фамилия? Я так и не узнал. Война надавила на хребет, позвонить (потом) фельдшеру не было (ни какого) времени. Я ещё раз убедился в мысли, что вместо нас пошли на смерть эти солдаты. Мы обязаны были, обнаружив, спасти его. Утро и короткий день пролетели быстро. Я урывками спал. Меня часто будили. То комбат вызывал к телефону, то во взводе у старшины появились раненные. Завтра с рассветом пойдём, на деревню. Нужно еще успеть проверить снаряжение и оружие у солдат. В мешках у солдат чего только нет. Ходят гремят, как стадо коров пустыми консервными банками. Постучал у одного по мешку на спине.
– Это (для) чего?
– Это? Это где успеть на лучинках согреть водицы! У этого в мешке рядом с пустым котелком горсть мороженной картошки. Они как булыжные камни стучат по котелку.
– У этого две ложки запасные из ляминя, говорит, сам сделал.
– У тебя нет ложки браток? Для своего солдата это можно! Подходи выбирай! Бери, бери любую! Какая на тебя смотрит? Гони горсть табаку! Пару сухарей! Можешь пайку сахару дать в придачу. Если при выходе на деревню, у одного из них чего-нибудь брякнет в мешке, считай погубили все дело и целую роту! Я велел сержанту, который заправлял у нас снабжением, собрать у солдат заплечные мешки. Забрать и сложить, их в ротную повозку!
– Выложить из мешков гранаты и патроны! – приказал я солдатам. Если не проверить, солдат, они на деревню пойдут без запаса патрон и гранат. В роте найдутся такие. Солдаты, правда, сомневались. У них проверят мешки и потрясут барахло. Я при всех объявил:
– Сержант перед ротой головой отвечает! Если кто из солдат потом предъявит претензии! Слову претензии они поверили. Оно пришлось им по душе.
Сержант исполнил всё, как я приказал. Получил на роту чистые маскхалаты. Отобрал у солдат мешки. Я проверил оружие и амуницию (своих солдат) и доложил в батальон, что рота к выходу на деревню готова. Я не стал рассказывать комбату о двух амбарах и сарае. Утром следующего дня, как я и предполагал, всё вышло шито-крыто и гладко. Мы без потерь ворвались в деревню. Немцы, увидев наших солдат между домов, подумали, что мы их обошли с тылу и разбежались в разные стороны. Они несколько минут отстрелись из последних домов (с правого края деревни), но увидев, что мы готовы отрезать им путь, заметались в панике и побежали по снежному полю. И только спустя часа два, когда связисты размотали в деревню телефонную связь, я от комбата получил строгий приказ преследовать отступавшего противника. Над деревней в это время разорвалась два первых немецких снаряда. А кого собственно догонять? Не побежим же мы, как дураки по снежному полю за немцами! Мы пойдём по дороге, и не торопясь. Мы все понимаем. Нас хотят поскорей выставить из этой деревни. Вот так и живём! Деревни берём мы, а спать в ней будут другие! Не справедливо ведь, правда! Я, конечно, пекусь не о себе. Так солдаты думают. Вон послушайте что они говорят!
– Взяли деревню! Она наша! Отдайте ее нам хоть на два дня! Пожалуйста отдыхайте!' Спитя! Чай кипятитя! Картошку варитя! А то ширь! И опять на снег вываливай. Справедливости нету. Штабные, они…, не мы как… У них палатки в лесу имеются, первым делом лезут в избу, где спать потеплей! А мы этого тепла всю зиму не видели. Где уж нам? Опять за немцем гонись!
– Ладно, иди! А то баба на печке приснится! А тебе на неё сейчас смотреть, даже во сне, никак нельзя!
– Давай, давай иди! У нас дела поважней!' Нам нужно за Родину воевать! Энтих на немца с ружьём не пошлёшь. Они в этому не обучены. Они по проволоки привыкли орать. Потом после войны будут заливать, так мол и так, брали деревни (подряд). А в чём ты сомневаешься? Всегда это было так! Одни сидели сзади, другие шли впереди. А вон, говорят, у немцев ротный сидит за три километра от передовой. А наш лейтенант вместе с солдатами под пулями мается. За то мы и берем деревни. А немцы, сам видишь, драпают и бегут.
Ну заговорили! – подумал я. Взяли деревню, теперь до ночи языками будут чесать.
– Не растягивайся! – крикнул я. И солдаты подобрались быстро в кучку.
* * *
– – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
Лютая зима. Повозочный. Ординарец. Ножичек. Мертвые. Обоз.
– – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -

Видно судьбе было угодно, чтобы из многих тысяч павших, в живых остались редкие одиночки. Они сохранились для памяти об этой кошмарной и тяжёлой войне.
Мы несли большие потери и тут же получали новое пополнение. Каждую неделю в роте появлялись новые лица. Разве в таком потоке людей запомнишь их фамилии? Своих солдат часто в лицо не знаешь!
Среди вновь прибывающих красноармейцев были в основном деревенские жители. Попадались среди них и городские служащие, самые мелкие чины.
– Эй, старшина! Позови того учителя и счетовода! Скажи им, пусть снова составят списки на последнюю партию прибывших! Звонили из штаба, там ротные списки потеряли!
Военному делу прибывающие красноармейцы не были обучены. Солдатские навыки им приходилось приобретать в ходе боёв. К линии фронта их вели и торопили. Им нужно было попасть на передовую ночью, к раздаче пищи. И как только они в темноте, гремя котелками, появлялись в роте, то нередко под вой и грохот снарядов начиналось их шествие обратно в тыл. Не успев хлебнуть из общего котла солдатской подсоленной похлёбки, не оглядевшись кругом – где тут война, они обмотанные бинтами ковыляли в обратную сторону. До сан роты доходили не все. Одни тут же на передовой или в пути падали замертво. Другие, получив ранения, были довольны, что в первый же день на фронте отделались от войны.
Обычно во время боёв состав стрелковой роты не превышал полсотни. Но и этого количества солдат хватало только на несколько дней. Для нас, окопников, война велась не по правилам и не по совести. Противник, вооружённый до зубов имел всё, а мы ничего. Это была не война, а побоище. Но мы лезли вперёд. Немец не выдерживал нашего тупого упорства. Он бросал деревни (заканчивались боеприпасы) и бежал на новые рубежи. Каждый шаг вперёд, каждый вершок земли стоил нам, окопникам, многих жизней.
Одни воевали, а другие те, кто был в тылу, тоже считали себя вояками. Был такой солдат Ефим Кошельков (имя и фамилия вымышлены). Служил он повозочным в полковом обозе. Ему иногда в часы затишья поручали подвезти нашего ротного старшину с продуктами и едой. Ефим – любитель поговорить о войне. Он де же был уверен, что воевал против немцев. Мне тоже иногда приходилось возвращаться с ним в роту и слушать его рассказы о жизни, о превратностях судьбы и что вот он, как попал на фронт, так и не вылезает с передовой. Такой уж он был говорливый.
Взгляните ему в след, когда он, не доехав до роты, возвращается с опушки леса в тылы полка. Как он остервенело и неистово нахлёстывает свою лошадёнку по тощим бокам и как она размашисто бросает ногами под уклон, приседая на ухабах. Понимает скотина!… Что на опушке леса торчать Ефиму долго нельзя. А до самой передовой, от опушки леса, ещё метров триста. Так, что в самом пекле он, можно сказать, никогда не бывал.
Здесь в лесной тиши, в тылах полка, в затерянной между снегов деревушке, в натопленных избах идёт своя философия и фронтовая жизнь. Здесь своя суета, солдатская не лёгкая служба и невзгоды. Но зато, никакой тебе стрельбы и стужи. Слышно, правда, как ухают тяжёлые разрывы, где-то там впереди, на передовой. Каждый отдельный удар выворачивает душу, заставляет приседать, наводит смертельную тоску и нагоняет страх. А страх, это когда у тебя на душе боязливо. А вдруг он сорвётся и сюда долетит! Шарахнет по деревне!
На передовой стужа, за рукава хватаешься, ветер свистит. Здесь в тылах полегче. Здесь всегда можно улучить момент и прошмыгнуть в избу, приложиться спиной к тёплой печке, сварить припрятанной на такой случай картошки, вскипятить в котелке воды и бросить в него экономно щепоть настоящей заварки.
Правда, выпадали иногда и ясные дни. В небе, урча, появлялись немецкие самолёты. Полетают, погудят, сбросят одну-другую бомбу, попадут в коновязь. Жалко конечно лошадей, но не без пользы. Пока начальство очнётся, свежая конина для солдатиков из тыловой братии очень даже сгодится. До хорошей бомбёжки так ни разу и не дошло. Немцы зимой редко летали. Больше в одиночку. Порыскает, покружит и улетит.

Здесь в толчее тыловой жизни с харчами тоже не разбежишься. Часто и по долгу приходилось копаться в мёрзлой земле, пока бог не натолкнет, и где-нибудь в огороде не натолкнешься, под снегом, на яму с гуртом спрятанной картошки.
В стрелковой роте другое дело. Возьмёт рота деревню, а тут приказ из штаба полка: – “Немедленно догонять немцев!”. А там впереди голое поле, снежные бугры и обстрелы день и ночь.
Здесь в тылу на счет этого спокойно. Обойдёшь огороды разок, другой, потыкаешь шомполом прихваченную холодом землю. Выпадет счастье нащупать перекрытие из досок, считай можно ремень ослабить на три дырки. Если проявить еще нюх и умение, то в картофельной яме можно найти и чего-нибудь из съестного, завёрнутый в тряпицу ошмёток старого сала или оковалок свиной солонины.
Иногда очередной промах наводил на другое полезное место. Нащупаешь заострённым шомполом деревянный настил, попадёшь на ворох женского тряпья, а это считай самая надёжная валюта. Тряпки всегда можно у баб обменять на сало. Заскочишь на ту часть деревни, где проживает полковое начальство. Как бы по делу! А сам ширь к молодухе. Так, мол, и так! Мы тоже не лыком шитые! Мы тоже бьёмся как рыба об лёд! Давай, мол, за каждую тряпку сала полфунта.
В голове у повозочного ютились разные мысли. И все они по его рассказам крутились вокруг съестного и собственного живота.
Он не только умел править вожжами и действовать умело кнутом, он постоянно был занят делом, добывал себе витамины и калории. Правда, он не знал что это такое. Он слышал про них от обозного старшины. Он даже спросил однажды старшину, что есть, что. – “Сало и водка – это калории! А витамины, это когда к молодой бабе зайдёшь! Вот так Ефим! Витамины у тебя будут опосля войны! Ты щас на калории налягай!”. Нет, думал Ефим. Старшина на счет витаминов и баб не правильно толкует. Ребята говорили, что в съестном они есть.
Где, как урвать? Организму нужно питание! Подсунь сейчас обозному старшине трофейную безделушку, какой ни будь портсигар или немецкую зажигалку, и будешь иметь в течении некоторого времени полуторную порцию варева из общего солдатского котла. И не нужно будет тебе, как бездомной собаке, бегать по сугробам и искать в ямах мёрзлую картошку.
Повозочный, очень и давно мечтал добыть себе ручные немецкие часы с блестящим браслетом. Он много и часто ездил с обозом и всегда внимательно смотрел по сторонам. Зрение у него было острое. Видел он далеко и насквозь. Он издали различал, где запорошенные снегом лежали наши, а где из под снега торчала рука немецкого солдата.
Вот бы наткнуться на немца, а его еще никто не обшарил. Подходишь ближе и видишь, рука его из-под снега торчит, а на ней, на руке, ручные часы. И будьте любезны…
Погреешь их в шершавой ладони, покрутишь головку, осторожно толкнёшь, приложишь к уху, а они глядь и пошли. Приятно и сладостно вдруг станет на душе. Ты обладатель такого богатства. Часы это вещь! Из сотни один и тот не имеет!
Никого не убивал, греха на душе не имею, ни кому зла и подлости не делал, и чувствуешь себя настоящим человеком. С виду ты обозник, солдат, а ходишь с сознанием своего достоинства, при ручных часах.
Отойдёшь в сторонку, чтобы обозники не глазели, а то ведь, чего доброго, завистники найдутся, тайно следить будут, ночью во сне возьмут и снимут. От шустрой тыловой братии всего можно ожидать.
– Чавой-то у тебя Ефим рука забинтована?
– Чай на фронте. Кажись, ранение получил?
– Да, нет, так! Чирей вскочил!
– Ну и ну! Видать, ты у нас болезненный! Надо старшине доложить!
– Больным в нашей колонне вовсе не положено быть!
– Вот еще дурак прицепился!
Отойдёшь подальше, размотаешь повязку на руке, глянешь на “чирей”, а он весь блестит и чикает. Секундная стрелка весело кружит по цифрам. Блеснёт циферблат в сумерках ночи, приложишь его рукой к уху и вся внутренняя игра гораздо слышней. Тикают чуть быстрее собственного сердца.
Вспомнил он одну памятную ночь. Тогда они с полковым обозом возили на станцию раненых. Разгрузили они раненых в санитарный поезд. Ефим шел спокойно мимо вагонов-теплушек и вдруг слышит визгливый голос чужого солдата.
– Продаю! Тёпленькие!
– Продаю! Тёпленькие!
В горле у Ефима от этих слов что-то натянулось, в животе заурчало и ему жутко захотелось пирогов. Лежали у него в кармане гимнастёрки несколько сторублёвок. Голод и запах пирогов он почувствовал сразу. Неужели тёпленькие! Наверно с капустой! А с чем же ещё быть! – мелькнуло в голове. Вот жизнь солдатская – наелся и продает! Повозочный весь напрягся и быстро, перебирая ногами, двинулся догонять солдата. Тот шел в развалку, не торопясь. Ефим подобрался к нему совсем вплотную, повёл носом у рукава и захватил воздух ноздрёй. Он хотел уловить запах тёплого теста и пареной капусты. Потом он вытянул шею, обнюхал солдата и потянул его за рукав. Тот остановился.
– Почём пироги?
– Какие пироги?
– Как какие? Тёпленькие! Сам говоришь!
– Тёпленькие! Это ручные часы, а не пироги. Деревня!
– А почему же тогда тёпленькие?
– А потому, что только щас с немца снял! Ясно? – и солдат показал ручные немецкие часы с браслетом и блестящим циферблатом.
– Ну, чего мнёшься? Бери или отваливай!
Повозочный осёкся. В голове у него замутило, в животе громко заурчало, губы, готовые вытянуться в трубочку и попробовать мягкого пирога, повисли в воздухе. Он проглотил, пустую слюну и тяжело вздохнул.
Вагоны в этот момент залязгали, дёрнулись и задрожали. Эшелон, повизгивая на разные голоса, медленно покатил по рельсам. Солдат с часами вскочил на подножку, проплыл перед глазами Ефима и крикнул ему:
– Эй, деревня! Покедыва, прощай!
Всё это до мельчайших подробностей вспомнил он потом, когда вернулся в полк и мысль о ручных часах с тех пор запала ему в голову.
Сейчас Ефим лежал на полу в тёмном углу заплёванной и прокуренной избы, поджав под себя ноги. Пойдет, кто мимо, наступит нарочно на ноги, такой здесь был тыловой народ и это, называются друзья, приятели! Руки он сложил на животе калачиком, так они быстрее согреются, хотелось побыстрее уснуть. А мысли о еде и ручных часах заставляли его, какое то время ворочаться.
Но вот сон сам навалился на него. Ему приснилась родная изба, русская печь с петухами, аляписто расписанная пришлым художником. Такие же белые и холодные клубы пара врывались по полу в открытую дверь, когда кто-то снаружи входил.
На затылке, из-под шапки повозочного, сдвинутой на глаза, выбивались не мытые, как войлок, волосы. Шапку он по долгу не снимал. Теперь не надо было садиться за стол, снимать шапку и креститься на икону. Теперь под шапкой водились ползучие вши, грызли загривок, и он не вычесывал их, как прежде, частым гребнем. Они водились и в мирное время. На мыло тогда не хватало. Деревня матушка! В избах было и смрадно, и тесно.
Немецкие трофейные расчёски попадались красивые, он были редкие и для вычёсывания вшей не годились. Мыло в мирное время было не по карману, частый гребень имела каждая семья. Во сне он видел как раз такую картину. Одна баба распустив длинные волосы сгибалась в коленях у другой, а та сверху орудуя частым гребнем, вычёсывала вшей, давила их ногтем на скамье и стряхивала на пол. Проснувшись, он подумал, – к чему такой сон? – Бабы и вши?
В полузабытье он глубоко зевнул, поскрёб ногтями загривок и снова заснул. Вши, они, особенно свирепствуют, когда приходишь в избу со стужи и с мороза. Придёшь, ткнёшься между лежащих солдат, и вши начинают тебя обгрызать по порядку.
А в это время на передовой, где в снегу, на бугре, под деревней лежала стрелковая рота, стояла морозная, тёмная ночь. Ветер и мелкий колючий снег шуршал в не подвижно застывших солдатских шинелях. Думать не было сил, не то чтобы двигаться или шевелиться. Тридцати градусный мороз резал и жёг позвоночник. Лежишь и чувствуешь, как в жилах медленно застывает живая кровь. Глазные яблоки вдавлены во впадины черепа. Шевельнуть глазами больно, малейшее движение ими, вызывает нестерпимую боль и резь. Лёгкие вовсе не дышат, а так верхушками хватают морозный воздух, белая изморозь при выдохе вырывается из ноздрей. И только сердце чуть слышно постукивает где-то внутри, то ли в висках, то ли в затылке. Руки, лицо и ноги совсем одеревенели, скрюченные и согнутые пальцы совсем не ощущают холода. Тело солдата чуть вздрагивает и тут же опять входит в сонное состояние. Нет сил, нет желания делать лишние движения. Сон, сам по себе надвигается неотвратимо. Он как удушливый газ, как наркоз, давит на сознание и его не стряхнуть и не скинуть. Близкий удар снаряда не выводит солдат из оцепенения. У солдата нет больше сил, бороться даже за жизнь.
А, где же ротный? А, где же ему быть, ротный на передке вместе с солдатами лежит. Ему нужно ещё следить и смотреть за всем.
Если разрывом снаряда тебя подбросило, ты на секунду откроешь глаза и поглядишь, не оторвало ли тебе ногу или руку. Ни рук, ни ног давно уже не чувствуешь, нужно взглянуть, целы ли они. А когда с рёвом и скрежетом снаряды проносятся над головой, то все лежат и ухом не шевелят. Такова на войне жизнь солдата и офицера стрелковой роты.
После обстрела лежишь, смотришь вдоль линии обороны роты и думаешь, сколько осталось в роте живых? Спят они? Или уже мёртвые? Смотришь и ни как не разберёшь! Гулом и грохотом солдата не проймёшь! Нужно, чтобы его в снегу перевернуло.
Некоторые на снегу засыпают совсем. Тихо и мирно уходят они из жизни. Снятся им светлые и душевные сны, родные края. К вечеру свет гаснет в избе. Ложатся спать пораньше, чтобы встать на рассвете. Светлые картины постепенно ускользают во сне, на них падает тень и наплывает вечная темнота.
Живого солдата может поднять на ноги не пролетевший снаряд, а звук пустого котелка и бряцанье ложки. Полуживой, замёрзший он сразу стряхнёт с себя сон, поднимется на ноги с мыслью, что его уже обошли. Не успев открыть застывшие веки, он через узкую щель ресниц оглядывается кругом. В каком месте старшина наливает похлёбку и далеко ли до него ему идти?
Не все сразу попрутся в низину, где старшина разложил свои мешки. Старшина похлёбку раздаёт по отделениям. Теперь, пока до твоего отделения ещё очередь не дошла, привычным движением руки вываливаешь котелок из мешка и шаришь за голенищем – цела и на месте ли ложка.
Перед самым рассветом, когда под стук котелков, стрелковая рота начинает шевелиться, несколько скорченных серых шинелей остаются лежать неподвижно в снегу. Кто они? Как их фамилия? Узнавать у солдат бесполезно. Сейчас самый ответственный для солдата момент. Голова у него занята одной главной мыслью, наполнить котелок и получить хлеб и махорку. Фамилию дружка в такой момент в памяти некогда ворошить.
Нашему сержанту присвоили звание старшины. Теперь старшина отсчитывает по котелкам и отмечает по списку, ставит крестики, кто не получил харчи. Заснувших в снегу, считали, как убитых в бою за Родину.
Но были в роте случаи, когда заснувшие и отмеченные старшиной, вдруг просыпались. Никто тебя толкать и будить не будет. На кой мёртвому говорить:
– Давай вставай! Старшина пришёл!
Ходить зря по передовой никому не охота. Нужно вдоль линии снежных ячеек идти, а тут немец режет из пулемёта. Старшина пошлёт проверить. Посланные бойцы до убитого добираются ползком. Перевернут его, посмотрят ему в лицо, а он мёртвый и на лице ехидная улыбка. Этот убитый. У замёрзшего бойца на лице обычно полный покой.
Мне самому приходилось ходить от края, до края по передовой. Солдаты знали, что ночью ротный не раз по окопам пройдёт. Я смотрел на мертвых, у них на лице не было страданий и мук, у них всё теперь было позади. Муки и страдания остались на долю тех, кто живым торчать в снегу остался.
И вот, что обидно. Страдает и переживает человек, а потом погибает. Разве это жизнь, когда судьба даёт тебе перед смертью месяц, другой нечеловеческих страданий.
Убитому не нужно кланяться пулям, припадать животом к земле, вздрагивать и замирать от разрывов снарядов, ждать, среди пролетающих мимо, именно своего снаряда. Сколько их с рёвом и грохотом пронеслось мимо тебя?
Глухой выстрел из ствола орудия и вот он летит в твоём направлении. В такой момент не успеешь глазом моргнуть, а он уже здесь над тобой навис.
Свежий, не опытный человек не сразу и не быстро привыкает к снарядам и смертельной опасности. Потом, гораздо позже, он начинает различать малейшие шорохи приближения собственной смерти.
Пули, снаряды и мины редко летают в одиночку. Они срываются вереницей и бьют по мозгам без разбора.
Ночью, когда немцы спят, стрельба затихает, а с рассветом залпы орудий следуют один за другим. Земля дрожит как в лихорадке. В воздухе стоит удушливый запах немецкой взрывчатки, над передовой поднимается облако снежной пыли и пороховой гари, сыплются куски мёрзлой земли, а над затылком со свистом пролетают осколки. Мёрзлые куски с глухим вздохом падают на землю.
Выстрел – удар! Ещё выстрел – ещё удар! При каждом ударе человеческое тело мгновенно сжимается. А если снаряды к земле несутся неуловимой лавиной, то тело человека начинает дёргаться в конвульсиях, как у припадочного. Удары чередуются с такой частотой и силой, что разум не в состоянии улавливать промежутки между разрывами. Всё гудит и летит вокруг, превращаясь в общее месиво.
Некоторые из солдат не выдерживают обстрела, и пытаются перебежать в другую свежую воронку. На солдат по-разному действуют залпы и обстрелы. Одни терпеливо лежат и ждут, другие начинают метаться. Иной впадает в уныние и по-детски плачет. Некоторые теряют память, другие зрение и слух.
– Как твоя фамилия? – спрашивает старшина при раздаче пищи.
– Чья? Моя?
– Ну, а чья же ещё?
– Моя? Не знаю! – вон у сержанта спроси!
Но этого ничего не знали наши “боевые” командиры (и знать не желали). Они сидели в тылу, рисовали красным карандашом кружочки и стелы, наносили на бумаге удары по врагу. Им нужна была деревня, а рота застряла в снегу.
– Слушай комбат! – кто там у тебя командиром роты? Безынициативный совсем! Пятые сутки лежит под деревней! Из штаба дивизии мне все уши прозвонили!
Мне приходилось видеть своих солдат не только в полной апатии, но и встречать с их стороны недовольство и решительный отпор, когда я пытался в очередной раз снова поднять их в атаку.
– Ты что лейтенант? Разве не видишь? Головы поднять нельзя! Мало ли чего от тебя требуют! Пусть сами сначала попробуют сунуться вперёд, а мы на них посмотрим! А то, давеча старшина рассказывал, сами сидят по избам с бабами, а с нас по телефону требуют!
Начальникам нужно было, чтобы мы взяли деревню. Они по телефону требовали, угрожали мне расправой, крыли трёхэтажной матерщиной. А когда я являлся с докладом, снисходительно улыбались. Штабные, те иронично удивлялись. И не стеснялись прямо в глаза спросить: – Ты ещё жив? А мы думали, что тебя убило! И деревню не взяли! Ты смотри, он даже не ранен!
Я смотрел на них, молчал и курил. Я один, а их здесь много! В батальоне осталась одна недобитая рота, а здесь, в тылах полка, их сотни! Как ничтожны и жалки мы были тогда. Невидимая стена разделяла фронт на два лагеря. Они сидели в тылу за этой стеной, за солдатскими спинами, а мы ценой своей жизни и крови добывали им деревни. Чем тупей и трусливей были они, тем настойчивей и свирепей, гнали они нас вперёд. Мы были жертвой их промахов, неумения и неразберихи. Молодые лейтенанты не могли в одиночку постоять за себя. Позади, против нас “насмерть” стояла братия, целая армия тыловиков и мы все это должны были терпеть.
На войне, каждому – своё! И все эти прифронтовые “фронтовики” и “окопники”, должны тихонько сидеть в щели, гадить в галифе и помалкивать в тряпочку, о том, что они воевали и видели войну, чтобы ненароком не испачкаться в собственном дерьме.
После очередного массированного обстрела по переднему краю, в роте снова появились убитые и раненные. Я, конечно, покрикивал на своих солдат, поднимая их в очередную атаку, они шевелились, вставали, посматривая в мою сторону, но после десятка шагов вперёд, очередной залп всех возвращал на место.
Я служил службу погонялы своих солдат на верную смерть. В этом я признаюсь, беру на себя вину, каюсь, на мне лежит этот тяжкий грех.
А начальники мои перед солдатами остались не виноватыми (эти прифронтовые “фронтовики” и “окопники” считают себя героями). Они на солдат не кричали, в атаку их не поднимали и не гнали, трибуналом не пугали, у них были для этого командиры рот – Ваньки ротные!
Вот так! Если новый залп не добивал раненых, то всё равно во время обстрела перевязывать их никто не будет, сам в это время управляйся. Такое не писаное правило у солдат на войне.
Когда по роте бьют снаряды, нужно глядеть и удержать на месте живых, чтобы не сбежали. Один, два могут струсить и побежать с поля боя. За ними смотри, да смотри! Посеять в роте панику большого труда не стоит. С меня потом спросят, если поймают кого в лесу. Нас, ротных, держали под страхом расправы. Мы своей волей и присутствием держали солдат под огнём.
За один, два дня при хорошем обстреле от роты в полсотни человек, остаётся совсем не много. Старшина в этих случаях по продуктам имел резерв. Получил и принёс на полсотни, а в роте осталось два десятка стрелков. Не пойдёт же он сдавать продукты обратно.
– Пользуйся братцы! Набивай животы! Помянем товарищей отдавших жизнь на поле боя! Подставляй котелки! – он разливал водку железной меркой, солдатское хлёбово шло в котелки без нормы, это не ценный продукт. Старшина был прижимистый и расчетливый парень.
– Сегодня по полному котелку! Давай налетай!
Старшина кидал солдатам буханки мёрзлого хлеба, сыпал горсти махорки и осмотрительно зажимал спиртное. Мало ли что? Ещё потребуют назад! За спиртным начальство строго следит! Он раздал всё, что полагалось солдатам, уложил вещи в сани, взял бидончик, который держал между ног и велел солдатам грузить в повозку раненых. А сам, не спеша, отправился на передок доложиться командиру роты.
– Здравия желаем, товарищ лейтенант!
– А старшина! Добро пожаловать! Ну, как всех накормил?
– Всех, товарищ лейтенант! Он знал, что я беру котелок всегда последним, когда вся рота поест.
– Выпейте водочки, товарищ лейтенант!
– Я вам на закуску оттаянного хлебца приготовил.
– Вот возьмите кусочек! – и он из-за пазухи вытаскивал чёрный хлеб, завёрнутый в тряпицу.
– Вы послушайте, что давеча произошло.
В полку кто-то пустил слух, что немцы после обстрела окружили нашу роту, и фронт на этом участке оказался открыт. Я получил продукты, смотрю, кладовщик заметался, забегал. Тыловые бегают, грузят мешки. Я получил всё, сижу и смотрю. Видно начальство дало команду эвакуироваться. У меня в санях особого груза нет. В случае чего, я быстрее всех удеру. Я уж думаю – ехать, не ехать с продуктами на передовую. Тыловики на дорогу и через полчаса их в деревне нет. Смотрю, с передовой наш солдат топает, у него рука перевязана. Я сразу к нему. Так, мол, и так!
– Как там немцы?
– И что на передовой?
– Где наш лейтенант?
– А где ему быть? Поди, сам знаешь! В роте на передке с солдатами лежит!
– Велел найти тебя и передать, что в роте есть тяжёлые раненые.
– Велел на лошади ехать!
– Ну и дела! Я налил ему положенную норму водки, накормил его, а сам сюда.
– А сан рота тоже уехала? Куда теперь раненых повезёшь? – спросил я.
– К рассвету разберутся, назад приедут!
– Вчера говорили, придёт пополнение. Маршевая рота на подходе идёт.
– Это не плохо! – заметил я.
Старшина вернулся к своим саням, тронул поводья, и не торопясь, зашагал рядом с ними. Я лежал в воронке и смотрел на равнину, где рота занимала небольшой участок земли.
– И что странно! – подумал я.
Отойди мы сейчас с этого голого бугра на опушку леса, немцы и не подумают занять его. Снежное поле для позиций немецкой пехоты не годится. Они держали нас под сильным огнём, потому, что мы перед ними близко торчали. А нам приказано – “ни шага назад”. Такова воля командира полка, таков боевой приказ нашей роте.
Вы думаете, что после недели непрерывного обстрела, уцелевшие остатки роты отведут на отдых в лес? Напрасно вы так думаете. Меня по этому поводу разбирает смех. Сколько бы мы с ротой не торчали в снегу под деревней, сколько бы в роте не осталось солдат, нас на фронте считали боевой единицей и с меня, с командира роты, спрашивали, как положено за роту. На войне действовал железный закон. Мы, окопники вели войну и как говорят – стояли на смерть (и проявляли массовый героизм).
Не думайте, что я что-либо сгущаю, мне иногда от обиды просто хочется всех подальше послать. Как они только выжили, сидя у нас за спиной! О чем говорить! Тоже мне однополчане! Однополчане были они (прифронтовые “фронтовики” и “окопники”). А мы были тем мусором, цена жизни которого, была мала и ничтожна.
К вечеру немцы обычно прекращали огонь. Они расходились по избам, заправлялись едой и ложились спать. Только часовые посматривали в нашу сторону, освещая нейтральную полосу ракетами. Дежурный пулемёт иногда пустит очередь трассирующих в нашу сторону. А вообще ночью слышно как шуршит колючий ветер и кружится мелкий снег.
За одну такую тихую и снежную ночь всё мёртвое, истерзанное исчезало под белым налётом. Кто не поднялся, не встал и не явился к старшине с котелком, тот навечно остался лежать слегка припорошенный мелким колючим снегом.
Командиры рот похоронами не занимались. Зимой, на передовой этого и не сделаешь. Их дело было держать рубежи и ходить с ротой в атаку.

Убитых учитывал старшина. А братские могилы должны были рыть полковые людишки. Я не заставлял своих солдат долбить мёрзлую землю и рыть для убитых могилы. Они для себя, для живых, не рыли окопы, а лежали в открытых снежных воронках.
Повозочный хотел протянуть занемевшие ноги. Во сне, он сделал несколько торопливых движений, пытался ногами нащупать свободное место, но ему это сразу не удалось. Обоз вернулся в деревню и в избу после паники, набилось много народа.
Здесь ютилась братия самого низкого сословия. На грязном замызганном полу лежали вповалку повозочные и солдаты. Чины повыше и офицеры тылов занимали отдельные избы. Солдат и повозочных туда не пускали. Уж очень плохо и мерзко от них пахло. Солдаты Фюрера, приходя на постой, по крайней мере, на пол бросят соломы. А наши привычны, они вот так и год могут пролежать на грязном заплёванном полу. Главное разве в том, где лежать? Главное в том, кто кого пересилит! Солому начальство слать запретило. Курят и плюют прямо лежа в углу. Тут и пожар может, случится. Солдатам что! Им говори, не говори! Бросят горящий окурок, сожгут всю деревню. Вот и запретили слать в солдатские избы солому. Лежат солдаты на грязном полу и пускают дух.
– Куды те ты мне в харю вонь свою направил?
А он тебе нарочно со звуком пустит струю, а на словах добавит:
– Нюхай друг русский дух! Выйдет весь, ещё есть!
Вчера ездил повозочный к артиллеристам, возил им сено для лошадей. Стоят они в лесу у дороги. До настоящей передовой еще километра три. Никто не хочет лезть в окопы к пехоте. Посмотрел Ефим, как живут артиллеристы. У них в стороне от огневой, стоит походная палатка с железной печкой. Рядом куча наколотых дров, топи хоть всю ночь, жарь целый день. Делать им нечего вот они и преют. Все своё барахло они возят за собой на конной тяте. Батарея небольшая, всего два орудия и ящик снарядов на две огневых. Вот и вся позиция полковой артиллерии. В палатке свободно, пахнет хвоей, никакой толкотни. У каждого для отдыха определённое место.
Был у повозочного дружок. Шли они вместе на фронт в одной маршевой роте. Дружка отправили стрелком на передовую, а Ефим остался в полку при лошадях. Повстречал раз дружка своего Ефим в сан роте. У дружка на шее чирей от холода вскочил. Сделали наклейку и отправили обратно. С такими вещами от передовой не освобождают. Это не рана, полученная в бою. Поговорив с ним о том, о сём, дружок вдруг заторопился, он должен был со старшиной вернуться обратно. Разговор о передовой не вышел, не получился. Из разговора Ефим не мог себе представить, что такой стрелковая рота. И никто из здешних, даже их свирепого вида обозный старшина не мог сказать о передовой ничего путного.
Повозочный лёжа в углу избы, поворочался, поскрёб ногтями за пазухой, не открывая глаз. Открывать глаза без всякой надобности последнее дело. Вот когда повар загремит у котла, тут не зевай, предлагай ему свои услуги. Ноги сами спружинят, каждый мускул, настороже. Локти поднимут, ноги вынесут. Выскочишь из избы наружу, хватишь полной грудью морозного воздуха и мурашки побегут по спине. Тут раздумывать некогда. Сразу с услугами к повару. Натаскаю водицы? Напилю и наколю дровишек! В топке под котлом огонь разведу.
Ещё заря не займется, а у тёбя всё готово. Притулишься спиной к тёплому котлу, затянешься козьей ножкой и на душе станет тоже тепло. Теперь только ждать. А ждать уже не долго. Время быстро бежит.
Смотришь, мимо снуют такие же шершавые и потёртые, а ты спокойно стоишь, ты при солидном и сытом деле. Слышится глубокое дыхание и фырканье лошадей. Деревенские розвальни поодаль стоят, задрав вверх оглобли. Сегодня, когда рассветёт, он вместе с другими повозочными поедет обозом в сторону армейских тылов. Туда они повезут раненых, а на образном пути возьмут амуницию и винтовки для нового пополнения.
Сейчас нужно достать котелок и к повару подкатиться, чтобы пока нет никого, плеснул двойную порцию, да погуще. Всю работу, которую повозочный спроворил, должен был сделать на кухне сам повар. Он знал, что заработанное за поваром не пропадет.
Но куда именно потянется обоз, сколько времени ему придется торчать в санях на холоде и месить ногами снег по зимней дороге? Этого он не знал. Сколько раз придётся переваливать сани через сугробы и заносы, которые теперь ветром намело поперёк дороги, понукая и нахлёстывая свою лошадёнку.
Старшина, их обозный начальник, выйдет на крыльцо, сделает передых и рявкнет басом. Попробуй, не успей лошадь в сани запрячь. Попробуй, промедли или сделай промашку, оборвётся сбруя, уволокут ночью вожжи. За это можешь к вечеру на передовую угодить. Хоть и нужно заразнее знать, что там и как там, но никто из повозочной братии почему-то не рвался туда, а совсем наоборот. Да и был Ефим человек робкий, больше мог угодить, чем показывать свой характер. «Лучше прикинуться дурачком, чем трупом валяться на снегу», – слышал он разговор своих товарищей.
Теперь с обозом путь их будет не легкий. Но зато на обратном пути старшина завернет в деревеньку, куда- нибудь в сторону, где живут одни бабы, дети, да старики, где нет постояльцев солдат и не живут всякие штабные начальники.
Достанется им большая зажиточная изба и сердобольная хозяйка. А уж разжалобить её на чугун картошки, это они мастера. Дело обычное. Глянь и перепадёт им чугун человек на десять. Считай, каждому по горсти горячей картошки в мундирах.
Зашуршит большой, тяжелый чугун корявым дном по исподу печки, подхватишь его рогатым ухватом и быстро на стол. А тут уж не надо сидеть и глотать пустую слюну.
Достанешь из штанины тряпицу с солью, возьмешь пальцами малую щепоть, посолишь облупленный горячий комок и обжигая губы, вдыхая жгучий пар, нажмёшь на него зубами. Дуешь на него, а он как огонь рот обжигает.
Старшина конечно в красном углу, он держит железную кружку, налитую самогонкой. Крякнет для порядку, понюхает корку хлеба и опрокинет всё разом, у него горло широкое. Сунет себе под нос ломоть ржаного хлеба и завертит головой.
В обозе двенадцать подвод. У всех двенадцати за голенищами кнуты и ложки. Сидят за столом, как апостолы, с двух сторон от старшины. А старшина, как Иисус, выкатив грудь, смотрит серьёзно на своих подчинённых. У себя, в полковых тылах, обычно во время еды никто не снимал с головы шапки ушанки. Здесь за столом под святыми иконами, совсем другое дело. Тут и хозяйка может осудить и сказать, что нехристи.
Солдаты за столом сидят по-христиански. Шапку на лавку и придавил её собой. Некоторые суют её за пазуху. Как там не вышло, что не случись, а шапка при тебе, на улице ведь зима.
Старшина закусывает, а сам строго поглядывает на подчинённых. Строгость, она всегда солдату нужна! Отведут солдаты душу горячей картошкой, а там глядишь, и самовар появится на столе.
Сани и сбруя на лошади были проверены. Повозочный в ожидании команды – Трогай! – прохаживался вдоль своих саней. А старшина на крыльцо появляться не торопился.
А здесь, на передовой, немец какой уже день продолжал рвать и метать. С рассветом, думая, что мы можем сунуться, он обычно усиливал огонь. Телефонный провод, протянутый ночью, как всегда обрывался. Телефонист уминал под собой за ночь выпавший снег, поджимал колени к животу и, прикрыв лицо рукавом шинели, тут же засыпал. На исправление линии ходили те, кто сидел в батальоне или полку. Солдаты с ночи перелезли в воронки поглубже, наскребли на бруствер снега и теперь в этих укрытиях можно было лежать, или сидеть несколько пригнувшись.
Сегодня ночью старшина в роту не придёт. Его послали в тылы дивизии получать новое пополнение. С ночи за продуктами пришлось послать в тылы полка двух солдат.
Старшина, тот знал лес, где, как и когда можно безопасно проехать, чтобы не попасть в дороге под артобстрел. Солдаты, были все время на передовой, где обстреливают лесную дорогу не знали, и когда перед утром посланные возвращались с термосом варева и мешком хлеба, их по дороге накрыли немецкие снаряды. В термосе появились дыры, жидкое варево из термоса потекло, а солдату повезло, его не задело. Второй солдат нёс мешок с хлебом, его ударило воздушной волной, отбросило в сторону и на время контузило. После недолгих поисков их нашли на опушке леса под елью. Они были в сознании, но руки и ноги у них не действовали.
Но дело не в этом. Рота осталась без хлёбова. Мешок с хлебом принесли. Те двое через некоторое время встали на ноги. Обидно, что термос оказался пустой. Второй раз снабжать варевом роту никто не будет. Всё разлилось, расползлось, ничего не осталось.
Ординарец вспомнил, что когда они притопали в полк с маршевой ротой, то ему впервые на глаза попались скруглённые железные коробки с широкими ремнями. Солдаты надевали их на спину и уносили на передовую. Потом он узнал, что железные коробки называли здесь термосами. Они служили для доставки горячей пищи солдатам на передовую.
Они тогда, долго стояли около кухни и ждали своей очереди. Их накормили с дороги, когда последний солдат отвалил от кухни с наполненным термосом. Те, что сидели где-то впереди, получали еду в первую очередь. А он представлял себе термос в виде круглой блестящей стекляшки. Здесь на фронте предметы и вещи имели совсем другое название и значение.
Когда они стали толкаться с пустыми котелками около кухни, то повар сказал им, что они находятся на передовой и собираться вокруг кухни кучей, опасно для жизни. Потом они услышали отдалённый гул и раскаты взрывов. Оказалось, что до передовой нужно ещё идти и идти. На передовой открыто никто не болтался. А около кухни, как помнит ординарец, ходили все во весь рост. Ходили спокойно и отпускали, даже шуточки.
У каждого на войне был свой передний край. У повара передовая проходит под колёсами кухни. С его черпаком воевать можно полсотни лет. Смерти не боись! Живым все равно останешься!
– А где передовая? – спросили они ездового с кнутом, стоящего у кухни.
В ответ он промычал что-то невнятное себе под нос и неопределённо махнул в сторону запада рукой. Ездовые, штабные и тыловые солдаты даже смотреть в ту сторону не желали. Они только ухом наводили, прислушивались и замирали, когда с той злосчастной стороны слышались раскаты взрывов и гул. Не прорвали бы фронт! Вот что их беспокоило!
После раздачи горячей пищи, новобранцам выдали винтовки и патроны. И они всё сразу поняли, что лес, где стояла походная кухня, вовсе не фронт, а глубокий тыл. Хотя тыловики считали иначе. До передовой им пришлось топать и топать!
Контуженых солдат, что несли в роту еду, доставили на передовую. В сан роту они не пошли, наги и руки у них стали понемногу двигаться. Вместе с ними на волокушах притащили хлеб.
Мёрзлый хлеб не жуют. Его откусить и отрубить нельзя. Его скребут помаленьку зубами, ковыряют штыком, соскребают лопатой. Кусочки и мелочь вместе со льдом кладут на язык и ждут пока он растает. Потом провалиться он в горло, как жидкая каша.
Некоторые из солдат кладут хлеб на время за пазуху между гимнастеркой и нижней рубашкой, там потеплей и вши в это время уползают. Они хлебный дух не переносят.
Разве солдат будет ждать, пока он оттает. В животе и мороженый кусок место найдёт. Каждая хлебная кроха, это питание солдата. Без этой крохи хлеба не уснешь, без неё не умрёшь, без неё до утра не дотянешь!
Ординарец и телефонист облюбовали новую воронку в качестве укрытия. Поблизости ударил тяжелый фугасный снаряд. Сразу после удара земля становится податлива для лопаты. Они вдвоём углубили воронку, перетащили туда нужный скарб, поставили телефонный аппарат и позвали ротного. Повернувшись на спину и откинувшись на схваченную морозом землю, они закурили и теперь отдыхали.
Хотелось пить. Но сколько не ешь, ни глотай снежную массу, снегом не напьёшься. Кроме того, нужно найти свежий снег, нетронутое место, не запачканное взрывчаткой. Нужно стряхнуть варежкой верхний с гарью слой, загрузить котелок и пробраться обратно к воронке. Жесткий рассыпчатый снег во рту тает плохо. Снег, в отличие от воды, имеет особый пресноватый привкус. Жуй его, валяй во рту, дави на языке, много его всё равно не заглотаешь. Снег таяли в котелках, но пили всё ту же противную жижу.
У ординарца была фляга для воды, немецкая, обшитая суконкой. Но, если флягу таскать на ремне, вода во фляге быстро замерзает. Не будешь флягу держать за пазухой на голом теле. Пробовал он засунуть флягу под шинель к животу. Такое впечатление как будто тебе туда мальчишки снега набили и льда напихали.
– Ты чего хихикаешь? – спросил при этом ротный.
– Так ничего! – А ледышка к животу в это время прижалась. С тех пор пустая фляжка, как деревянная колотушка, болталась у него на всякий случай на поясном ремне.
Иногда выпадали дни, когда старшина в тылах полка на роту получал спиртное.
– Давай, отцепляй свою фляжку! – говорил он, постукивая по мешку, в котором лежали две, три наполненные спиртом.
Получив от старшины драгоценный напиток, ординарец бежал обратно к себе в воронку, придерживая на боку, отяжелевшую фляжку. Но такие дни выпадали не часто. Больше было таких дней, когда он о спирте и о фляжке не думал, она болталась пустая на ремне, постукивая по костям на боку. Были дни, когда голодные и замерзшие солдаты напрасно ждали продукты и старшину. Старшина являлся, а продуктов не приносил. Повозочный за плечами держал термос, налитый горячей водой. Похлёбку обычно приносили холодной, а вот пустую воду, для чая успевали донести кипятком. Хлеба не было. Все смотрели молча на старшину и ждали, что он скажет, и слушали урчание у себя в животе.
– Опять самоклизмирование! – ворчали солдаты.
Сейчас, когда фрицы притихли. Можно немного размяться, подвигать онемевшими ногами, куда ни будь пробежаться вдоль роты недалеко. Хорошо бы поесть!
Когда, от голода кишки переворачивает, то хочется закурить. Махорки в роте нет. Её давно не выдавали. Даже телефонист, лежащий у аппарата, с точки зрения махорки был совершенно пустой. А у связистов во взводе, в отличие от стрелковой роты, всегда водились запасы и резервы, они снабжались отдельно.
Откуда-то справа, из-за снежного пригорка, ординарец услышал, голос младшего лейтенанта, командира взвода. В роте было десятка три солдат и двое живых офицеров. Ординарец повернулся набок и подался вперёд. Он встал на колени, вытянул шею и выглянул наружу.
– Что там? – крикнул он в сторону Младшего лейтенанта.
– Где командир роты?
– Тут он! Спит! А что?
– Танки появились за деревней!
– Много?
– Нет! Два или три!
Ординарец перевалился на живот, вытянул ещё больше шею и стал смотреть на дорогу, которая вела из леса в деревню. Там, за деревней, сверху под горку, по зимней, едва заметной дороге медленно и лениво ползли черные остовы танков. Их было три. Звуки моторов пока до него не долетали. Их сносил ветер в сторону. В чистом морозном, воздухе стояла торжественная тишина. Было уже совсем светло, а немцы почему-то не стреляли. Теперь было ясно. При подходе танков, незачем было стрелять.
Ординарец ткнул командира роты локтем, думая, что он проснется, а сам, подавшись выше, стал наблюдать за ходом танков. Белый дым из выхлопных решеток клубами вырывался вверх, когда моторы набирали обороты.
Ординарец знал, что командира роты можно поднять на ноги в любую минуту, но его удерживало то, что лейтенант последние сутки почти не спал. Это был первый день, когда у них в роте не было потерь убитыми и ранеными. Ординарец решил не спешить.
Он вспомнил, что у него в вещмешке лежит десятикратный трофейный бинокль, который лейтенант ему передал на хранение.
Лейтенант предупредил его тогда:
– "Пойдёшь со мной в полковые тылы, о бинокле никому ни слова, и не показывай. Держи его при себе, все время в мешке. Тыловики брат гниды, шустрый народ. Побегут, доложат начальству, а те отберут его себе, скажут – в фонд обороны. Не будь дураком! Варежку не разевай!"
Теперь он снял лямки с плеча, развязал мешок и достал в толстом кожаном чехле чудо машину. Приложив окуляры к глазам, он навел его на резкость и стал рассматривать дорогу и ползущие по ней танки.
В бинокль были видны открытые башенные люки, лица танкистов, торчавших поверх брони. Они даже здесь, на самой передовой шли явно открыто, нисколько не опасаясь обстрела с нашей стороны. В бинокль было видно, что шествие на дороге замыкала открытая легковая машина. В ней, по-видимому, сидели штабники офицеры. Они о чём-то, говорили, показывали в сторону деревни, размахивая руками.
Танки, перевалив, через снежный бугор, пустили клубы серого дыма, вошли в деревню и скрылись за домами. Но где, в каком месте, у какой именно избы застыли они, трудно было сказать, он прозевал момент остановки. Изгороди и заснеженные огороды, покрытые инеем деревья, присыпанные сверху толстым снегом дома, закрыли собой остовы танков. Время как будто остановились.
Ординарец знал, что между деревней и позицией роты пролегал неглубокий овраг. Овраг был заметён глубоким снегом. Немецкие танки через него не пройдут. Сейчас самое главное, чтобы солдаты, увидев танки, сидели на месте и были спокойны. Что-то притихли славяне! Видать только шапки торчат! Ординарец прикинул и решил так:
– У немцев кончились снаряды, вот они и пригнали танки в деревню.
– Ну, теперь посидим в обороне! – подумал он и глубоко вздохнул.
Он положил бинокль в футляр, опустился в воронку и снова откинулся на спину. Теперь он всё обдумал, решил и знал наперед.
Взводный больше не кричит. Солдаты лежат и посматривают на деревню. Солдаты по едва уловимым признакам чуют, когда всё в порядке. Они, конечно, слышат, видят и обо всём заранее знают. У солдат свой безошибочный взгляд и острый музыкальный слух.
Ведь бывали случаи. Стоило командованию принять решение отвести дивизию на другой участок, офицеры полка не в курсе дела, а солдаты на передовой уже перематывают портянки и щупают подошвы.
Ординарец откинулся на спину и тоже был не прочь заснуть. В течение последних суток он, так же как и ротный, много бегал и мало спал. Теперь очередь ротного. Он, ординарец должен нести дежурство. Они с ротным по очереди отдыхают, если вдруг немец на время затихал. Теперь от него не должна ускользнуть, ни какая мелочь. Он, ординарец должен всё видеть, всё замечать и держать в голове. Когда ротный проснется, он ординарец представит подробный доклад. Ротный может спросить обо всем, задать любой, самый ехидный вопрос. Он может спросить, о чём даже не думаешь.
– Как работает связь? Есть ли во взводе у младшего лейтенанта раненые?
Ординарец, хоть он и рядовой солдат, командным лицом в роте не был, но уметь смотреть и думать он должен не хуже начальника штаба. Ротный с ним, с ординарцем, часто и по важным делам советовался.
Младший лейтенант тот во взводе, почти всегда с солдатами на правом фланге. В светлое время по открытой местности туда просто так не добежишь. С кем может ротный о своих делах, словом перекинуться?
Бывали случаи, когда ротный ему поручал целый взвод и он, ординарец вел его в заданном направлении. Выводил его на позицию, поднимал, если нужно в атаку, выполнял задание, которые ротный ему поручал. Но сам он не любил командовать взводом, когда по крайней необходимости попадал туда и на него ротный вешал ответственность за выполнение боевой задачи. Рядом с ротным всегда было легче и веселей.
У него и здесь были свои заботы. Они с ротным были больше чем друзья, чем начальник и подчиненный. Война, опасность, адский холод и постоянное напряжение, сблизили их. Он вздохнул, понимая всю важность текущего момента. Мысленно он делал всё, как его лейтенант, а душой и телом чувствовал себя простым солдатом. Ответственности он не боялся. Но она его почему-то угнетала и он нести её, никак не хотел.
Когда он появлялся среди солдат, они принимали его с серьёзным почтением. Он был всегда в курсе всех дел и неприятных известий.
Иногда обстановка на передовой поворачивалась так, что простые солдаты, не должны были знать о грозящей опасности их полного уничтожёния. Для них спокойней, когда они не смотрят смерти в глаза. Ситуация может всегда измениться. А то найдется один такой, драпанёт с перепугу, посеет панику, собьет с толку других, потом затаскают ротного. Полковым им что, им важно ответственность повесить на ротного. Им нужен стрелочник. Беглая масса солдат не интересует никого. Для суда им достаточно одного.
Тратить ценное время нельзя, если можно как следует выспаться. Когда подолгу не спишь, в голове начинают стрекотать кузнечики, а в ушах стоит перезвон и слышно пение.
На ходу можно закрыть глаза, продолжая идти по дороге. Картина дороги продолжает реально ползти перед тобой. Засыпая на ходу, ты отчётливо видишь уходящие назад поля, леса и дорогу. Видно торчащего в открытой башне танка немца, видно как он кричит и махает рукой. Другой немец с сигаретой во рту кивает первому головой в знак того, что мол, все понял. Во сне явно улавливаешь шум моторов и разговор, между немцами. Понимаешь, о чём они говорят, хотя кроме "Хенде хох" ничего другого по-немецки не знаешь.
Ординарец почувствовал толчок в спину и сразу испуганно открыл глаза. Не мигающим взглядом он уставился на телефониста.
– Ну, что? – спросил он, потряс головой, сдвинул на затылок шапку и утерся пригоршней колючего снега.
– Чуть не заснул! – сказал он сам себе.
Часа через два он разбудит командира роты и если тот не вздумает куда пойти, то он, ординарец закроет глаза, привалится к краю воронки и заснет безмятежно. Сидя с открытыми глазами, он немного поворочался, нашел удобную позу и спросил телефониста:
– Я долго спал?
– Не знаю! Я сам задремал.
– Почему так бывает? На дежурстве закроешь глаза и во сне продолжаешь всё видеть. Ляжешь спать после дежурства, никаких тебе снов!
Повернувшись на бок, ординарец достал бинокль и приложил его к глазам. Он пошарил по снежным буграм, посмотрен на деревню и решил посмотреть вдоль линии своей обороны.
Посмотрел вправо. Там на снегу ещё темнела сгорбленная шинель убитого солдата. Ординарец решил под большим увеличением бинокля рассмотреть его лицо и узнать кто именно тот.
Тело убитого было несколько наклонено вперёд. Смотришь на него и думаешь. Солдат хотел вскочить, убежать от смерти, но она его схватила и силой удержала за полы шинели.
Шапка и плечи солдата были присыпаны снегом. Глаза были открыты, а тонкие бескровное губы напряженно и плотно сжаты. Глаза его были устремлены куда-то вперёд. Он как будто, смотрел и не мог оторвать своего взгляда от уплывшей в пространство собственной жизни.
Локоть у ординарца сорвался с опоры, бинокль вскинулся вверх и фигура убитого пропала. Узнать в лицо убитого он не смог.
Но что это? Чуть дальше, за тощим кустом, в расположении второго взвода, он увидел над окопом, струйку дыма.
Дым от сигареты! – подумал он.
Курящего не было видно. В той месте изредка поднималась над кромкой снега солдатская шапка. Кто-то из солдат курил сигареты! Лежит в окопчике, пускает дым с удовольствием к небесам, а все вокруг об этом даже не знают.
Хоть воронка, где курили, была на приличном расстоянии, струйка дыма была отчетливо видна и дрожала перед окулярами бинокля. В горле у ординарца, где-то под дыхом вдруг засосало, помутилось в голове и захотелось курить. Махорки в роте не было уже вторую неделю. Казалось, что все привыкли без курева и бросили курить. А теперь после увиденного, взмутил душу ни голод, ни лютый мороз, а сладкий, забытый, давно так желанный, запах табачного дыма, Он цеплял за каждую жилку, будил внутри каждую клетку.
Первое, что мелькнуло в голове, нужно бежать туда, пока солдат там пускает струйки дыма. Потом следов не найдёшь, откажутся все, божиться станут.
Прикинув, путь туда и обратно ординарец решил разбудить ротного и доложить ему о танках. Потолкав лейтенанта, потряся его за плечо, он словами добавил:
– Товарищ лейтенант? В деревню немецкие танки вошли!
Услышав про танки, я открыл глаза, посмотрел на ординарца, тупо перевел взгляд на телефониста и спросил.
– Связь с полком есть?
– Связи нет! Товарищ лейтенант! – ответил мне телефонист.
– Ну что там у тебя? – обратился я к ординарцу, поднялся на локти и посмотрел в сторону деревни.
– Три танка в деревню вошли! Стоят за домами!
– Раз связи нет, беги в батальон, доложи о танках! – сказал я телефонисту.
– На линию искать обрывы не ходи! Это дело взвода связи.
– В тыл пойдёшь один! Тебе нужно добежать туда и обратно. Пойдёшь напрямик. Пусть полковые ищут обрывы! Они за это получают медали.
– Я прилягу ещё на часок! – сказал я ординарцу.
– А ты тут посмотри!
Повернувшись на другой бок, я подвигал плечами, поёжился от холода и снова заснул. Через некоторое время затрещал телефон.
– Кто на проводе? Где командир роты? – послышалось в трубке.
– Да, да! Слушаю! – сказал ординарец, понизив свой голос.
– На вас танки идут! Приказываю держать оборону!
– Всё ясно! понял!
– Кто там звонит? – спросил я, полу открыв глаза.
– Комбат звонил. Передал приказ командира полка – "Держаться!"
– Ну! Ну! – промычал я, повернулся на другой бок и опять клюнул носом. Клюнул раза два и опять открыл глаза.
– Чем будешь держаться Сироткин? – спросил я ординарца.
Ординарец резко повернул голову и удивленно расширил глаза.
– Я товарищ лейтенант?
А кто же!
– Я буду отсыпать своё время. А ты в это время за меня должен держать. Тебе и командовать ротой! Вот ты давай и держи!
– Приказать "Держаться!" может любой дурак. Для этого офицерского звания иметь не надо.
Я поворочался, поворочался и заснул, а ординарец Ваня Сироткин надолго задумался.
Потом он вдруг очнулся и вспомнил, что надо немедленно сбегать на счет покурить. У солдата махорка или немецкие сигареты? А если у него табаку холера прилично? Так не дадут. Менять надо. Могу предложить им свой перочинный ножичек. У ножичка блестящее, как зеркало лезвие.
Скажу – Фирменный! Золинген! Ротный, когда посмотрел на лезвие, так и сказал.
Прибежал телефонист. Он хотел было доложить лейтенанту, но ординарец вовремя подставил палец к губам и предупредил его, чтобы не орать и не соваться со своим докладом.
Ординарец ткнул телефониста в плечо и тихо, вполголоса, зашептал, что ему нужно сбегать вон в ту воронку.
Дорога, которую ему предстояло проделать, была не простой. В начале нужно было ползком миновать открытое поле. Местность со стороны немцев просматривалась хорошо и его могли запросто заметить и срезать из пулемёта. Вторым важным делом было всё быстро проделать. Пусть связист пока понаблюдает кругом.
Командир роты спит, а он ординарец сумеет быстро назад обернуться.
Ротный сразу проснётся и откроет глаза, когда он, ординарец, вернувшись, затянется сигаретой. Лейтенант учует табачный дым, поднимет голову, удивится и спросит.
– Чего не разбудил? Старшина продукты принес? А я его приятно удивлю.
– Нет, товарищ лейтенант! Это я у солдат сигаретами разжился!
– Инициативу проявил? – добавит ротный. Ротный одобрял, когда он, ординарец по собственной инициативе полезнее дела всякие делал. В данном, случае он не только для себя. Он старался и действовал из чувства товарищества. Они были товарищами и друзьями в бою.
Только бы по дороге не задело. Шальная пуля, она не разбирает в кого попадёт. Ей без дела летать не годится. Днём ротный никому не разрешал без дела болтаться по передовой.
Был случай, когда его, ординарца, лейтенант послал на фланг роты, а он на обратном пути с группой солдат потащился обшаривать убитых немцев. Дело было ночью. Они пролежали в нейтральной полосе почти до утра. Вот собственно, откуда у него появился Золингеновский ножик.
Но ротный потом спросил, зачем он туда с солдатами шлялся. Он показал ротному блестящее лезвие ножичка.
– Вы же, требуете заточенные карандаши! Мне их нечем затачивать!
Карандаши, бумагу носил ординарец. Всё это добывал он сам или отбирал у солдат в фонд обороны. Солдаты не обижались. Командиру роты нужно было схемы рисовать и донесения писать. Ротный составлял планы расположения роты и занимаемой обороны, наносил ориентиры и огневые точки противника. Иногда пользовался полупрозрачной немецкой калькой "Пергамент", снимая с карты нужный участок местности. Теперь блестящее остриё перочинного ножа имело особое значение. Кроме того, ординарец иногда пользовался плоским лезвием как узкой полоской зеркала, рассматривая в неё свою испачканную окопной землей, физиономию.
Однажды их вместе с лейтенантом вызвали в тыл с передовой за получением в роту нового пополнения. Лейтенант тогда посмотрел на него и серьёзно сказал
– Ходишь со мной по штабам, а вид у тебя замарашки.
– На кого ты похож?
После этого замечания, он, конечно, старательно умылся, подтянул поясной ремень, оттёр грязные места на боках шинели, привел себя, так сказать, в полный порядок. С тех пор он и стал посматривать на себя в лезвие ножичка.
Ему было восемнадцать, и он думал, посматривая в эту узкую полоску, что пора бы на верхней губе расти усам, как у порядочного солдата. А они, не росли!
Ротный был старше его года на три, но тоже не часто брился. Ординарец посматривал на лейтенанта и во всём старался быть похожим на него.
Размышляя о ножичке, он перевалил через снежный край углублённой воронки и, работая быстро ногами, и держа хребет параллельно земле, побежал по выбранному направлению. Иногда он падал, замирал на короткое время, поднимал голову, отрывая её от снега, смотрел в сторону немцев и, собравшись в комок, вдруг вскакивал и снова бежал, бросая ногами снег.
В одном месте он ползком обогнул несколько присыпанных снегом трупов и скатился в лощину, решив перевести немного дыхание, лёжа на боку.
Потом он сел, осмотрелся по сторонам. Снег не везде лежал сплошным белым покрывалом. Чёрные прогалины воронок и плешины земли взрытой снарядами выделялись на общем фоне белого снега.
Теперь, сидя в низине, ординарец почему-то вдруг вспомнил про свой родной дом. Перед глазами всплыло бледное, худое лицо матери, её слезы, когда она получила извещение о гибели отца.
Вспомнил он, как сникла и сгорбилась она, когда пришел его черёд отправляться на фронт защищать свою родину. Услышал он последний и отчаянный крик её, она тогда стояла на крыльце, и этот миг врезался и навсегда отпечатался в его памяти.
Тогда на него впервые надели колючую настоящую солдатскую шинель. Шинель была длинная,
почему-то большая и очень просторная, сидела на нём как мешок. Он пытался встать и пойти ее сменить, но пожилой солдат, сидевший рядом, схватил его за рукав своей огромной ладонью и посадил на лавку обратно.
– С шинелью не балуй! Она, тебе дана не для прогулок и для проминажу.
– Потом поймёшь, почему солдату нужна широкая шинель. Меня не раз вспомнишь!
Действительно, в просторной шинели было тепло и свободно.
Домой он редко, писал. Часто забывал об этом. Он, конечно, жалел свою мать, часто вспоминал о ней, думал, как она там в одиночестве. Каждый день собирался написать. Доставал бумагу, брал карандаш, затачивал его лезвием ножичка и каждый раз отвлекался на что-то более важное и неотложное.
Здесь на передовой он, легко справлялся со всеми своими и ротными делами. Ни по одной статье, ни по одному пункту ротный не мог упрекнуть его, в чём ни будь. И только насчёт писем домой ротный иногда, проверяя, спрашивал:
– Ты скажи-ка милый друг, когда ты последний раз писал матери?
– Как когда?
– Знаем когда! – и ротный махал ему рукой
– Садись и пиши!
– Ты куда?
– Как куда? К старшине за харчами!
– Когда напишешь, тогда и пойдёшь!
– Не напишешь, будем оба сидеть голодными! Ясно?
Он отвлёкся от своих мыслей. Посидел, отдохнул, нужно опять двигаться дальше.
Пригнув голову и опираясь на приклад, ординарец вскочил и побежал вдоль снежной низины. Твердые, как деревянные обрубки, валенки на морозе не гнулись. Они громыхали, когда под ногами появлялась покрытая коркой льда белизна. Валенки, как ходули тащили его куда-то в сторону и не позволяли бежать прямо. А он должён был, как мышь, проскочить открытое и взятое под обстрел немецким пулемётом опасное место. Сейчас он держал равновесие и мысли не занимали его.
Откуда-то из глубины обороны немцев высоко над головой прошуршал снаряд. За ним прилетел второй и третий. Немцы пристреливали опушку леса. Это первые снаряды, которые ударили туда.
Ординарец бежал и думал. В лесу спокойно и тихо. Рыхлый, чистый снег там совсем не тронут. Протоптал себе стёжку в снегу и бегай вдоль роты, если бы там проходил передний край. Можно не бегать в три погибели, согнувшись. Там можно пройтись между деревьями в своё удовольствие.
В лесу, куда не глянь, кругом навалом дров. Натянули бы палатку, поставили бы железную печку, топи сколько влезет. Ни ветра тебё, ни холода!
Подбегая к краю низины, ординарец на какое-то мгновение разогнул спину, повертел головой и огляделся по сторонам. У немцев в деревне всё было тихо, ни стрельбы, ни заметного движения. Середина дня, а как будто все спят.
Не ушли ли они из деревни? – мелькнула мысль. Так ведь часто бывало. Бьют, бьют! Потом вдруг притихли. Наши сунулись в деревню, а печи уже остыли! Считай, немцы от деревни километров на двадцать сумели, отбежать. Стрелковую роту это не очень волнует. А вот командира полка и батальона начинает трясучка хватать. Командир роты во всём виноват! Как он смел, отход немцев на два часа прозевать!
Теперь лощина кончилась. Нужно было пробираться ползком. Как ползти и где, он знал хорошо. Они не раз с лейтенантом здесь бегали, когда обходили вместе роту.
И теперь перебирая локтями и вскидывая пятки, он проворно миновал самый бугор, вместе с тем, прилегая всем телом к земле, он набил в рукава шинели снега. Внутри стало мокро и холодно.
Стянув зубами варежку, он вытряхнул из рукава растаявший снег и подобрался вплотную к окопу, где сидели и курили солдаты.
Ординарец перемахнул через край окопа и сидя на заднице, съехал вниз, подобрав под себя полы шинели. Здесь на корточках, потирая озя6шие руки над котелком, сидело несколько солдат ихней роты.
Ординарец сразу понял, что бежал за махоркой зря. Солдаты раздобыли сухую доску, нащепали лучины и жгли их в небольшом котелке. Они грели руки. В котелке мелькал огонёк. Сизый, прозрачный дым медленно и лениво извивался струйкой, которую он с расстояния сумел разглядеть в десятикратный бинокль.
Один солдат обхватив ладонями, держал котелок, а трое других навесу грели руки.
Они сразу заметили появление ординарца. Солдаты повернули в его сторону головы и от гордости своей находки по-детски заулыбались во весь рот. Вот, мол, смотри, что мы изобрели здесь на фронте!
Лучина в котелке не гасла. Она, потрескивая, горела и постреливала. Огонь мелькал у них между пальцами, пуская икры. Ничего не скажешь! Это было изобретение века!
На снегу, на мерзлой земле огня не разведёшь. Снег под дровами быстро подтает. Дрова намокнут. Вместо огня пойдёт пар и сырой дым.
Костров на передовой солдатам разводить не разрешали. "Немец по дыму будет бить!" – убеждали полковые.
– А, если он по роте, без дыма, бьет вторую неделю, то это ничего? – говорили солдаты.
Ординарец приблизился к сидевшим на корточках солдатам, протянул мокрый рукав и как бы нехотя, шевеля замерзшими пальцами, потрогал прозрачный горячий воздух. Так просидел он неподвижно несколько коротких минут.
Вздохнув, с сожалением, он поднялся и направился к краю окопа. Ему нужно было без задержки вернуться назад. Он потрогал в кармане гладкую ручку ножа, и довольный, что нож был на месте, пустился в обратный путь.
Быстро перебирая ногами, он оставил позади себя лощину, небольшой снежный бугор, присыпанные снежной порошей трупы убитых. А когда, перемахнув через край окопа, он соскочил в свою воронку. Он увидел, что командир роты уже не спал.
Рядом с лейтенантом в окопе сидел посланный из тылов полка связной солдат с поручением узнать на счет танков.
Командир роты о чём-то с ним говорил. Из обрывков речи ординарец понял, речь идёт о немецких танках, которые теперь стояли в деревне.
Командир роты скинул варежку, достал из планшета прозрачную кальку, взял карандаш и стал рисовать. Вот карандаш повис в воздухе и лейтенант на мгновение задумался. Сейчас он оторвет свой взгляд от листка, поднимет голову и спросит его, ординарца:
– Куда ходил?
Но ротный молча покачал головой, улыбнулся чему-то и стал рисовать свою схему дальше.
Наверно решил, что я бегал, куда по нужде – подумал ординарец. Но, вспомнив, что старшина вторые сутки являлся в роту без продуктов, он решил признаться ротному, что бегал к солдатам за щепотью махорки.
Может лучше молчать? – мелькнуло в голове.
Без курева на снегу невыносимо и гадко. Организовать в котелке небольшой огонь он конечно мог. Но разве лучину, сравнишь с несколькими затяжками папироски. На дно котелка можно поставить и немецкую свечку, которая давно болтается у него в заплечном мешке.
Ординарец поёжился от озноба и холода.
– Что вши заели? – не поднимая головы, спросил командир роты.
Ординарец промолчал.
Лучше молчать. А то, куда бегал, спросит. Фраза, брошенная ротным, не требовала ответа. Вши ели всех. И живых, и раненых, и мёртвых.
Говорят, только комиссар и командир полка не имели вшей. Они носили нижнее белье, сшитое из немецкого парашютного шелка, отобранного у солдат, в фонд обороны.
А здесь в снегу, на передовой о вшах не думали. Какая разница, со вшами или без вшей, завтра тебя здесь убьёт. Что такое смерть? Сегодня ты есть, а завтра тебя нет! Осталось пустое место, в котором, тебя вовсе и не было.
Послали солдата идти и умереть за общее дело. Он встал и пошел. Его убили. Идея осталась, а солдата нет. И какая разница для командира полка, жил ты прежде или тебя вовсе не било. Важно, чтобы рота солдат деревню взяла. А кто они? Какие из себя? Разве это для тактической карты имеет значение. Да и карта, на которой рисовал командир полка кружочки, будет потом брошена по акту сожжения в огонь.
История войны без имён. Неизвестные и безымянные солдаты отдавали на войне свои жизни. Отдавали другим, чтобы, те другие не думали и не знали о них. Кто был, кто?
Ординарец подумал о вшах, и вспомнил о свечке. Свечка – это чашечка, круглая коробка, похожая на банку с гуталином без крышки. Она наполнена стеарином, по середине, которой, торчит бумажный фитиль.
Пусть валяется в мешке. Она может потом пригодиться. Где ни будь в укрытии, в избе или в блиндаже можно будет зажечь её, когда нужно. Попадут же они, когда ни будь ночевать под крышу.
Немцы пустили одиночный снаряд по полю. Он, прошуршав, разорвался, зарывшись в снег, поднял белое облако снега и изморози. И к окопу по ветру потянуло едким запахом немецкой взрывчатки. Этим запахом пришлось дыхнуть и от него стало выворачивать всё нутро на изнанку. Уж очень он, был противно тошный. И без него от голода ныло в утробе.
Ординарец понял, что штаб полка хочет узнать, по какой дороге в деревню приехали танки.
Лейтенант посмотрел на схему и на местность, сличил нарисованное на клочке бумаги, проверил, подписал её и отдал солдату. Тот сложил листок пополам и сунул его под шинель в карман гимнастёрки.
Солдат сидел на корточках, и что-то соображал, прислушиваясь к шуршанию, летящих над головой снарядов. Он посмотрел вверх на серое непроглядное небо и нехотя, словно в тайне про себя помолясь, произнес вслух:
– Ну, я пошел!
Командир роты посмотрел на него, шмыгнул носом и растягивая слова на распев, чтобы все слышали, сказал ему вдогонку:
– Подожди! Помолись! А то по дороге убьёт!
Посыльной оглянулся, вытаращил на лейтенанта глаза, а лейтенант засмеялся. Посыльный проворно выскочил из окопа и петляя из стороны в сторону, как бы желая замести свои следы, побежал к лесу.
С каждой секундой он всё дальше удалялся от нас. Вот он пробежал среди мелких кустов и за снежным перевалом вдруг исчез. Но вот он снова вынырнул, проскочил между двумя отдельно стоящими елями и затерялся в лесу. Он торопился в тыл, боясь попасть под обстрел. Думал, что немцы только его и ловят, за ним только и охотятся.
– Ну, этот будет жить! – сказал ротный.
Бывали дни, когда на передовой не было сказано ни единого слова. Люди лежали рядом и упорно молчали. Под разрывами, под сплошным обстрелом, на лютом ветру и холоде зря не будешь чесать язык. Да и о чём говорить? Жратъ и курить нечего! Говорить, что каждый солдат дорог Родине? А может, это вовсе и не Родина пихнула его сюда на голое поле, под немецкий обстрел? Может, это полковые начальники по своей тупости и трусости держали солдат на ветру. Вместо того, чтобы разрешить им отойти на опушку леса. Какую внутреннюю силу нужно иметь, чтобы всё это выдержать и пересилить?
Каждый новый удар снаряда и очередной остервенелый налет уносил из роты людей. Пусть во время разрывов тебя бросает и колотит, ты всё равно должен пройти через это. Иначе ты и войну не видал.
Вырваться с передовой, убежать в лес, как тот связной солдатик, из стрелковой роты никому не суждено.
Уйти туда, где в прокуренных избах ездовая толчея и прочая тыловая братия портит воздух, тебе не удастся. Тебе это запрещено. Ты только можешь, идти и идти вперёд.
Они тоже люди. Им просто выпала более лёгкая доля. Они тоже от фронтовой жизни ноют. Им в тылах полка не легко и не сладко. Что и говорить!
И всё же сидят они в натопленных избах, ведут неторопливый шутейный разговор. В картишки на хлеб, на сахар перебрасываются.
Ординарец вспомнил свою бабку, как она, сморщившись, словно глотая лимон, выговаривала его отцу, когда тот приходил домой выпивши. Она грозила ему страшным адом. А теперь в живых нет ни бабки, нет и отца. Бабка умерла своей смертью, как прыщ на заднице. А отец сгорел в аду, погиб на войне.
Теперь ему, из всей семьи младшему, пришлось испытать на себе, что такое ад и как невинный грешник страдает и корчится, когда горит его тело в огне. На огне наверно теплей и приятней, чем вот так умирать на ледяной сковороде. А тут ещё немцы пытают громом и молнией.
Разной дорогой бабка и отец к смерти пошли. Только минули бабку страхи и адские муки.
Ординарец развязал свой мешок, достал бинокль, сдул пылинки с прозрачных синих стекол, приложил окуляры к глазам и стал рассматривать передний край своей роты.
В створ бинокля опять попали убитые.
Один из них лежал на боку, вытянув шею и приподняв от земли несколько голову. Другой – опершись на локоть, простёр вперёд застывшие руки. Рядом ещё один в неестественной позе дополнял эту троицу.
Трупы ещё не успели вмёрзнуть в застывшую землю, и любой разрыв мог легко перевернуть их в снегу. Вот почему они образовали как бы полусидящую группу.
И то, что он увидел в бинокль. То, что показалось ему, его поразило сразу и по всему телу, от сознания увиденного, пробежал озноб.
Ему показалось, что мертвые играют в карты. Застывшие фигуры были в наклонной позе, и мертвые образовали как бы тесный кружок.
Как только эта мысль возникла у него в голове, он со всей отчетливостью и ясностью увидел вытянутое лицо мертвого солдата. Оно как бы на время задумалось, узрев полуоткрытые карты соседа.
Ординарец смотрел в бинокль и не дышал. Через бинокль он видел живую картину, видел и не верил своим глазам. Перед ним всплыли люди, среди них бурлили земные страсти.
До боли в висках напряг он слух и зрение, пытаясь всмотреться в лица картежников, и уловить о чём они говорят.
– Что ни будь, увидел?
– Что там? Немцы ползут? – повернувшись на бок, спросил командир роты.
– Нет, товарищ лейтенант! У немцев всё тихо!
Он посмотрел в бинокль ещё раз и на расстоянии вытянутой руки увидел играющих.
Живые солдаты обычно играют на махорку, на сахар, на хлеб.
А эти на что?
Может в банке у них стоит сияющий венец вечной славы?
А может, они играют на неизвестные свои имена и могилы?
Убиты были в одном месте, а лежать на земле будут разбросанными по разным местам.
Домой им вышлют бумажки о гибели. Имена их будут помнить только матери старушки, пока ещё живы. Постарев от горя, они их навсегда унесут с собой в могилу. Вместе, с ними исчезнут из памяти реальные имена и когда-то живые люди. А разве важно знать эти имена через пятьдесят лет? Лётчикам на могилы поставят пропеллеры, а пехоту вообще не присыпят землей.
– Ты чего там уставился? – спросил лейтенант.
– Да так, ничего особенного?
Ординарец ещё раз решил посмотреть на карточную игру. Приложил бинокль к глазам. Но небо в этот момент изменило свой свет и заметно просветлело. Сквозь серые облака на землю пробился солнечный луч. Он мелькнул перед глазами и сразу погас. Освещение снежного поля изменилось и теперь, сколько биноклем ординарец не водил ему не удалось обнаружить группу убитых, играющих в карты.
– Что за чертовщина? – подумал он.
В душу его закралось сомнение. Появился какой-то непонятно-суеверный страх. Он опустил бинокль и больше в ту сторону не смотрел. Налетевший холодный ветер мурашками пробежал по спине.
К ночи связисты наладили связь. Проложили новый провод вместо изорванного на куски. Лейтенанту передали приказ перейти к обороне. Это значит, что нужно ещё глубже закопаться в земле, углубить воронки, превратить их в окопы. Теперь, когда в деревне появились немецкие танки, о наступлении роты на деревню не могло быть и речи.
С наступлением темноты старшина привез продукты и взрывчатку. Явились два сапёра. Они должны были заложить заряды в воронках и взорвать их. Промерзшую землю ни киркой, ни лопатой, ни руками не взять. На сухих и снежных местах почва промерзает не так глубоко. Взрывчатка, здесь работает с эффектом.
Не глубокий, по пояс, вырытый в мёрзлой земле, окоп защищает солдата надёжно. Прямое попадание почти исключено.
Всю первую половину ночи на передовой громыхали раскаты взрывов. Перед утром ординарец и ротный пошли по окопам проверить солдат, как у них идут дела по углублению воронок.
Ещё с вечера командир роты приказал младшему лейтенанту выделить людей и убрать с передовой трупы убитых.
– Не очень высовывайтесь! – заметил ротный солдатам, проходя вдоль окоп.
Ординарец шел за ротным чуть сзади. Они вышли на правый фланг. Здесь в неглубоком окопе находился младший лейтенант. Когда они с ротным спрыгнули в окоп, то рядом с младшим лейтенантом в окопе увидели полураздетого солдата.
– Думали, что его на куски разорвало! – кивнул головой в сторону солдата младший лейтенант.
– А он вот явился живой!
– Два дня во взводе не было. Говорит, что у немцев был.
– Как это у немцев? – переспросил ротный.
– Говорит, двое суток у немцев был. Вот только что в сумерках явился.
– В самом деле, у немцев был? Может с перепугу, где в лесу отсиживался, а теперь сочиняешь?
Солдат низко опустил голову, зашмыгал носом и у него на небритых щеках, появилась слезинки. То ли они появилась от холода, то ли от обиды или жалости к себе, но две крупные слезинки быстро скатились по щекам.
– Нет, товарищ лейтенант. Я у них по правде в сарае сидел.
– А ты знаешь, что будет с тобой, если наши смержовцы узнают об этом?
– А я товарищ лейтенант им ничёго не сказал!
– Кому не сказал?
– Им, немцам! Когда был на допросе.
Ротный и взводный дружно засмеялись.
– О чём же они тебя пытали?
– Всякое спрашивали! – ответил солдат, вытирая вспотевшее от напряжения лицо.
– Били наверно?
– А чего меня бить? Я и так ничего не знаю.
– Спросили, какая часть.
– Не знаю! Мы неделю как прибыли с пополнением.
– А кто у вас командир роты? Знаешь?
– Знаю!
– Кто?
– Ротный!
– Они видно подумали, что это фамилия ваша такая, переводчик в блокнот записал и спрашивает,
– Он у вас украинец?
– Кто?
– Лейтенант Ротный?
– Потом еще чего-то спросили. А чего я мог им сказать?
– После того меня увели в сарай и поставили часового.
– Я сидел внутри. Часовой снаружи ходил. Мне не видно его, а слыхать было. Он куда-то отходил. Потому, что когда возвращался всякий раз, что-то по ихнему бормотал и кричал мне через закрытую дверь:
– Иван ду бист хир?
– Сам ты хир! – отвечал я ему. Он опять чего-то бормотал и довольный уходил куда-то.
Каждый раз я слышал, как он топтался на месте, сморкался в тряпку и опять исчезал. Было слышно, как снег скрипит у него под ногами. Один раз я подошел к самой двери и когда он ушел, надавил на неё. Дверь оттопырилась, я выглянул наружу. Гляжу, нет никого. Тихо кругом. Я решил бежать.
Выбрался из сарая наружу, да головой зацепился за что-то в дверях. Дернулся вперёд, а шапка на двери осталась. Я побежал. Было некогда оборачиваться назад. А рукавички у меня немец отобрал, когда вел в сарай с допроса.
Добежал я до оврага и прыгнул в снег под крутой берег, там решил отдышаться. Присел, забылся немного, а когда открыл глаза, было уже темно. Шинель на уши натянул вот и сюда дошел.
– А как ты к немцам попал?
– В тот день меня ранило, маленько. По каске осколком ударило. В глазах какие-то шарики и мушки летали. Товарищ младший лейтенант велел идти в деревню в сан взвод. Вот я и пошел. Да только пошел я в другую сторону. По дороге голова всё время кружилась. Зашел в деревню, вижу в деревне немцы. Вот они меня и взяли.
Солдат почему-то всё время торопился, рассказывая свою историю. Он был рад, что снова вернулся к своим. Но, услышав замечание командира роты, на счёт контрразведки сник и задумался. Он понимал, что передай его ротный, в тыл на допрос те из него быстро сделают матёрого шпиона. Открытое и доброе лицо его излучало растерянность и страх, а большие нескладные руки, подчиняясь внутреннему волнению, хаотично шарили по шинели, как будто искали порванную осколком или пулей дыру.
– Ты кому из солдат говорил, что был у немцев?
– Кроме как товарищу младшему лейтенанту, больше никому!
– Ну, вот что! Сам соображай!
– Твоё дело об этом забыть! И помалкивать!
– А то там, в дивизии из тебя быстро контру сделают!
– Понял?
– Понятно!
Солдат мотнул головой, вскинул вверх покрасневшие от холода веки и с выражением благодарности и облегчения промямлил невнятно
– Спасибо!
– Дай ему винтовку! – сказал ротный.
– Здесь у нас от убитых остались.
– А шапку с убитого сам возьмешь.
Солдат снова мотнул головой, улыбнулся в знак согласия, заёрзал на месте, взял винтовку и заторопился к своим солдатам во взвод.
Младший лейтенант отодвинулся несколько в сторону, освободил подле себя место для ротного. Они сели рядом. Младший лейтенант что-то хотел сказать, но командир роты положил ему ладонь на колено и добавил:
– С солдатом всё решено!
– Займись окопами! Взрывчатки истратили много, пусть лопатами поработают и углубятся в землю! Лично проверь, чтобы окопались, как следует!
– Сделаем! – сказал взводный.
Взводный откинулся на спину, похлопал себя по карману и достал портсигар. Надивил на защёлку с торца, она щелкнула и блестящая крышка под действием пружины открылась.
Ординарец вытянул шею и увидел ровный ряд сигарет. Они лежали прижатые друг к другу полоской резины.
– Вот откуда шел дым от папироски! – подумал ординарец. Он не мог тогда сделать ошибки. В бинокль было ясно видно, что кто-то курил. И когда разгоряченный от бега, он наткнулся на солдат с лучиной, это и сбило его с верного пути.
Младший лейтенант протянул портсигар сначала ротному, а потом ему, ординарцу.
Хоть и был он по званию всего рядовой, а за расторопность и человеческую смекалку его уважали. Уважали его не только солдаты, но и офицеры роты и никогда не забывали его.
Когда младший лейтенант протянул ему, ординарцу сигареты, он взял несколько штук про запас. Младший лейтенант не возражал. Они молча поняли друг друга. Он был парень добрый, но простачком в роте не слыл. Солдат и офицеров своей роты он старался уважить и платил им добром. Он всегда куда-то торопился. Его никогда нельзя было понять. То ли он всегда был озабочен ротными делами, то ли от него это требовал, ротный командир. Сейчас сидя в окопе без дела он чувствовал себя не уютно. Сидеть без дела было не в его характере. Потягивая сигарету и пуская в воздух ароматный дым, он думал о войне и о смысле вообще человеческой жизни.
Что собственно лучше. Погибнуть здесь на фронте? Или дожить до глубокой немощной старости, сидеть ждать смерти и жевать хлеб беззубым ртом?
Лейтенанты разговаривали между собой, а он, отвалившись на вещмешок дремал, поджидая, когда его с собой позовёт ротный.
Обоз перевалил снежное поле, и лошади бойко побежали вниз. Чтобы в конце горы притормозить и не разогнаться в прыть, повозочные натянули вожжи. Лошади, храпя, стали садиться задними ногами на снег, головы у них вытянулись вперёд, они чуть не вылезли из своих хомутов. Обоз миновал крутую лощину. Лошади протопали по льду небольшого ручья. Обоз медленно вывалил на равнину. Впереди лежало снежное поле.
Не успели они отъехать от оврага на пару километров, как сзади послышались крики и нарастающий гул самолёта.
Бросив поводья на передок своего возка, где, укрытые брезентом лежали раненые, повозочный, перемахнув через придорожную, снежную канаву, размашисто махая руками, бросился бежать, как и другие в открытое поле. Он видел, как справа и слева, перегоняя друг друга, бежали его дружки, такие же, как он повозочные. Высоко вскидывая коленки, они пытались развить предельную скорость.
По глубокому, нетронутому снегу далеко не уйдёшь.
Нужно же было обозу угодить в такой момент на открытое место. Где ни леса, ни кустика. Одна сплошная ширь и гладь. По обе стороны от дороги не на чем глаз зацепить.
Бегущие падали, головами роя сугробы, вскакивали, барахтались, по снегу били руками, старались подальше от обоза удрать.
Повозочный уже слышал свист и рёв, идущего сзади, вдоль дороги, на бреющем полёте, немецкого самолёта. И это ещё больше подхлёстнуло его. Откуда у человека силы берутся, такая прыть и быстрота, когда казалось нечем дышать, когда просто воздуха не хватает.
Только что, еле передвигая ноги, шли они по дороге рядом с санями, подергивая вожжами. Думал совсем о другом, и вдруг как с цепи сорвался.
В последнее время он стал что-то покашливать, когда закручивал из самосада козыо ножку. Самосад он обменял в деревне на сахар.
– Неужто здоровье потерял? – подумал он, лёжа на боку, заглубившись в мягком снегу, чтоб с самолёта его нe было видно.
А может кашель от курева? После этого самосада? – успокаивал он себя.
Самосад на самом деле был ядовитым и крепким. Он сплюнул желтую слюну на белый снег, посмотрел на плевок и покачал головой. Даже после выкуренной козьей ножки в горле продолжало некоторое время горчить и першить.
Самосад видно был когда-то подмочен, или сильно залежалый, решил он. Но, несмотря на явную порчу, выбросить весь кисет не хватало духу. Он отдал за него целых четыре пайки колотого сахара.
Тем временим, самолёт пролетел над дорогой. В след за ним грохнули взрывы и взметнулась снежная пыль. Какие-то темные куски пролетели в воздухе. Никто из повозочных не показывал головы. Лошадей на дороге не было видно.
– Цела ли моя? – подумал повозочный.
А то ведь придется ему, как безлошадному возвращаться назад в полк. А там не долго, возьмут, глядишь, и сунут на передовую. От этой страшной мысли, от своей ничтожности и беззащитности по всему телу побежали мурашки. Вот где належишься в снегу.
Он быстро поднял голову, выглянул за кромку примятого снега наружу и посмотрел назад, влево, вправо, кругом никого. Все ждали, что самолет развернется, зайдёт на бомбёжку в обратную сторону, и ни кто не показывался. Все лежали в глубоком снегу.
Повозочный быстро поднялся на ноги. Мысль, что его лошаденку убило, как кнутом подстегнула его. Выпрямив хребет, он сразу заторопился. Спотыкаясь и падая, он побежал к дороге, к своей телеге.
Именно сейчас, когда он не знал, что случилось с санями и его лошадёнкой, он бежал, его терзали догадки и сомнения.
Перевалив через сугроб, он увидел перед собой пустую дорогу.
– Где же обоз? – подумал он и остановился.
Был обоз, стоял на дороге, а его как языком с дороги слизнуло. Ни саней, ни лошадей, ни людей, ни убитых, ни раненых.
Повозочный подхватил полы шинели и побежал вдоль дороги вперёд. Через некоторое время впереди он увидел, что лошади, покинутые ездовыми, медленно и лениво идут друг за другом. Он прибавил шага и нагнал свою упряжку. Только после этого он увидел, что со стороны снежного поля показалась его братия.
Лошади, почуяв приближение людей, остановились. Они повернули головы и стали косить глазами на своих хозяев и благодетелей. Умные животные всё сразу поняли.
– Ну, брат! У тебя и выдержка! – сказал старшина, возвращаясь последним.
Он тоже появился у лошадей. Но он не мог отдышаться. У него появилась одышка.
– Ты брат того! Как твоя фамилия? Ну да ладно! Переставь свою подводу на самый зад. Будешь замыкающим. При заходе самолёта сзади заранее выстрелом дашь мне об этом знать.
Солдат, который ехал сзади, прозевал нужный момент. Весь обоз из-за него, из-за одного ротозея, попал под обстрел.
Ну, вот и получил повышение по службе, подумал повозочный. Теперь я правая рука старшины, теперь на стоянке я сяду за стол рядом с начальником полкового обоза.
Не улыбайтесь. Для повозочного страшней старшины сейчас на этой земле не было никого. Как в старое время его превосходительство! Захочет, враз из любого повозочного, стрелка солдата не моргнув глазам, сделает. Жил, был человек. Попал на передовую, и не стало его. Взглянет старшина сердито, сдвинет лохматые брови, прищурит глаз, крякнет для острастки и пиши домой прощальное письмо.
Заранее никто из солдат не знает, что старшина задумал, что у него на уме. Важно одно, чтобы после его недовольного и косого взгляда он не обрушился на тебя с площадной бранью. Повозочный должен чувствовать настроение своего старшины. Как угадать, доволен он сейчас или вдруг заворчит?
Приглядись к нему, когда он сидя спит, укрывшись в санях тулупом. Его лицо и во сне впечатляет. На лице у него самодовольство и властолюбие. А теперь, когда он при всех тебя похвалил, считай себя приближенным, попал ему в милость.
Но надолго ли это? Долго он не держит около себя повозочных. Одна и та же личность ему быстро надоедает. Постоянно меняя около себя прислужливых, он держит остальных в смятении и наготове. Быть замыкающим в полковом обозе, это не только доверие, но и считай уважение.
Повозочный вспомнил. Когда в тылах полка упряжки выезжали на дорогу и стали занимать в обозе свои места, он пытался, тогда втиснутся со своими санями поближе к передней, где ехал сам старшина. Он хотел, так сказать, быть на виду. Но его бесцеремонно оттеснили другие.
– Куда лезешь деревня? Знай своё место!
А когда обоз загрузили ранеными, и они тронулись друг за другом гужом, он увидел, что его повозка идёт не последняя. И поэтому тогда он счёл себя не из последних людей.
На счет близости к старшине ему всегда не везло. Среди близких к старшине были люди юркие, они подле хозяина крутились волчком. А ему, как он не старался, почти всегда не везло.
Видно от бога не было дано! Он всегда, как букашка карабкался по песчаному косогору, стремился вверх, к солнцу, к солнечному свету. Но у него не хватало смекалки далеко и свободно смотреть вперёд. Жил он просто – одним днём. День прошел и слава богу! Всю жизнь он, как русский мужик, мечтал и ждал затаённой удачи. Может Манна с небес на него упадет. И когда, что-то очень хотелось, ждал, тайно молился, а наяву всё получалось наоборот.
И сейчас, когда, немного ослабив вожжи, шел он за обозом, в мыслях был он рядом со старшиной. Вот сидит он среди дружков лошадников, говорит о деле, теперь все слушают и не перебивают его. Вдруг сбегает с крыльца посыльный солдатик, шарит глазами по солдатским макушкам и сразу к нему.
– Ты чего сидишь? Тебя требует к себе начальство! – вчера от аппендицита умер кладовщик. Вызывают тебя. Думают на его место назначить. Старшина рекомендует. Принимай продуктовые склады.
Там среди бочек, ящиков и мешков с мороженым хлебом, среди муки, сала, сахара, папирос, табака, сливочного масла, сгущенного молока, яиц и солдатской махорки жизнь и работа сытнее и гораздо веселей. Хочешь, не хочешь, а плечом шинели заденешь мешок с белой мукой. Запах и пот от тебя пойдет сытый и жирный. Будешь сыт и вшей у тебя не будет. Вши на голодном ползают.
В маршевой роте, когда их везли на фронт, вот когда почесал он и поскрёб себе затылок. А теперь на фронте, он к ним привык. Теперь они везут в обозе раненых. Вот кому теперь доставалось от вшей.
Вши заползали под бинты, грызли живое мясо и раны. Раненые кричали, доходили до исступления. Если повязку ещё можно было шевельнуть, то присосавшаяся вша от раны отваливалась, она уползала в другое место. А под гипс не залезешь. Туда только прутик или засохшую травинку можно чуть-чуть подпихнуть. Под гипсом они роились, гнездились и начинали грызться между собой.
Дорога все выше ползала к перевалу, прошла по хребту и скатилась в заснеженную даль. Здесь она шла мелколесьем и краем болот.
Лошади легко, трусцой сбежали под косогор, размашисто вскидывая по снежной дороге ногами. От них с дороги в стороны летели комья снега. Сбежав, они, медленно переваливаясь в раскачку, переходили на шаг.
Обоз неторопливо въезжал в заснеженный лес. На деревьях и кустах висели тяжелые шапки снега, пахло хвоей и лошадиным помётом. Огромные стволы елей медленно проплывали, мимо саней. В редком лесу всегда казалось странным, что дальние деревья обгоняли передние. Видя это, повозочный каждый раз думал, почему так происходит, и понять никак не мог.
Когда обоз полз, по лесной дороге, можно было пристроиться сзади в ногах у раненых. Привалиться в санях. Лошадь сама выбирала свой путь. Где нужно она замедляла, когда нужно она ускоряла свой шаг. Она как собака на привязи брела за идущими впереди повозками по дороге.
Повозочный присел на край саней, закрыл глаза и провалился в забытьё. Но слух и вожжи по привычке не ослаблял, хотя сознание и погасло. Он и во сне вытягивал губы трубочкой и, не открывая глаз, понукая, свою кобылу, чмокал.
Лесная дорога была бесконечной. Никаких тебе перекрёстков и развилок в сторону. Наезженная обозами зимняя колея тянется по знакомым местам, далёко уходя в тыл от линии фронта.
На ухабах сани вздрагивали. Молчаливые раненые стонали. Но и в эти отдельные моменты повозочный не открывал глаза и не вскидывал головы над дорогой.
Теперь, когда они от передовой отъехали километров двадцать, и здесь не было слышно снарядного гула и отдалённых разрывов, на душе становилось спокойно, без всяких тревог. Не было здесь суматохи и бестолковой суеты полкового тыла, да и войны здесь как будто не бывало совсем.
И казалось ему, что в санях у него вовсе не раненые, а наваленные как попало дрова. Вот проедет он овраг и за крутым поворотом, у ручья, покажется родная деревенька.
Не плохо бы было ему сейчас на недельку махнуть в родные места. Вон ездил же кладовщик, возил посылку жене майора, а на обратном пути завернул домой на три дня.
Он слегка потянул за вожжи свою лошадёнку, открыл глаза, полоснул её поперёк прогнутой спины ременным кнутом и она послушно затрусив побежала по дороге. Над кем ещё он мог проявить свою власть и волю?
Лошадёнка насквозь знала и видела душу своего хозяина. Она, покачивая бёдрами и пуская пар из ноздрей, через некоторое время сама перешла на размерный лошадиных шаг. Уступить ему малость, пробежать, рысцой каких то полсотни метров, а потом опять идти лениво, не торопясь и качать головой.
Даже она, заезженная кляча чувствовала, что он выбился по службе вперёд чисто случайно, по явной ошибке. Умные глаза её не раз ставили его в тупик.
Перед тем как запрягать её, он выносил на себе из избы хомут и сбрую. Бросал всё в сани, с тем чтобы проверить не порвалось ли где, не потёрлось ли, не висит на волоске, и не оборвется где в пути. Он не собирался выводить её из стойла к саням, пока не закончит осмотра.
И когда он поворачивал голову в её сторону, закашлявшись затяжкой самосада, она уже стояла рядом сзади, тыкала его в плечо шершавей ноздрёй, обдавая его теплым лошадиным дыханием. И если он при этом смотрел на нее в упор, глаза её говорили
– Видишь, я здесь, рядом! Чего волноваться?
После, этого она опускала голову и легонько щипала его теплыми губами за пальцы. Он знал, что она чего-то просит. Он лез в карман, доставал оттуда завалявшуюся корку черного хлеба или картофелину и она мягко брала угощение губами.
Иногда он даже баловал её, протягивая ей, замусоленный в кармане, небольшой кусочек колотого сахара. Она понимала его доброту. Какая-то кроха из его кармана переходила и перепадала ей. Она всегда терпеливо ждала этого момента. Она очень понимала человеческую ласку и доброту, чувствовала своей лошадиной душой и платила ему своим терпением и привязанностью.
Сейчас, она сама не торопясь, поспевала за идущими впереди возками.
День уже был на исходе. Обоз вывалил на опушку леса. Дорога пошла между снежных равнин. Она то тянулась прямой укатанной лентой, то снова начинала вилять по изрытой копытами снежной земле.
Все те, что остались в полку и эти идущие за обозом были связаны одной крепкой верёвочкой, узами братства и принадлежности к тылу и между собой. Их объединяла одна забота. Сохранить свои жизни и дожить до конца войны. И любые там понятия и моральные взгляды не имели для них никакого значения.
Нельзя было допустить, чтобы раненый или больной стрелок после излечения мог подвинуть кого-то из этих и занять их место. Каждый вшивый и тощий тыловик был помечен особым запахом и знаком усердия. На каждое нужное место в тылу подбирали человека по особым признакам и приметам. Потому, как угодлив он был, потому как низко гнулся у него хребет, потому как он смотрел в глаза начальству и стоял перед ним.
Тыловика из далека сразу видать по походке. Он идет и косолапой походкой загребает под себя снег со стороны. Его можно сразу определить по шустрому и без слов понимающему взгляду. От тылового служаки всегда исходит надёжный и сытый дух.
Для работы в тылах полка простые солдаты стрелки не годятся. Сюда отбирают людишек по вислым ушам, по оскалу рта и зубов, по собачьему нюху и по хищной утробе. К тыловым службам полка солдат с передовой не подпускали.
Они не так угодливы и послушны, достаточно сообразительны, податливы и бессовестны. Они не владеют гибкостью и тонкостью ума, чтобы без всяких намёков и подсказок служить начальству верными псами. Люди с чистой совестью и этой, как её, честностью, в услужение полковому начальству непригодны.
Никто из тыловых крыс не должен оставлять своего места, ни последний повозочный, ни повар, ни даже портной и тем более Ёся, парикмахер полка. Майор, замполит знал это прекрасно.
Отработанный и налаженный тыловой аппарат в трудный и переломный момент не даст даже осечки, в любом щекотливом и незаконном деле будет полный ажур.
Он прекрасно понимал, что все берут, а те, что помельче, как крысы тащат, а те третьи, как муравьи, подбирают по крохам. Он знал, что львиная доля солдатских ротных пайков остаётся в полковых тылах и до рта солдат стрелковых рот не доходит.
Даже сапёры, которым по долгу службы, нужно бы было быть в стрелковых ротах и заниматься там проведением инженерных работ, сидели постоянно в тылах полка и занимались благоустройством блиндажей, бань, лошадиных стоил для тыловых начальников и для их подчиненных.
Тылы полка стояли и ждали, когда стрелковые роты возьмут, очередную деревню. Возьмут и с хода пойдут вперёд, преследуя немцев. Только тогда, вслед за ротами трогались и они. А на переднем крае, который проходил перед деревней, оставались снегом присыпанные трупы убитых солдат.
Ёся портной и Прошка ездовой числилась по штату в похоронной команде. В штатных списках стрелковых рот состояли вестовые сидящие впереди на ковровых саночках, денщики чистившие сапоги и раздувавшие самовары, и прочий нужный при штабе народ кого куда послать, что принести.
А когда весной, с земли сходил снег, и трупы убитых во всем великолепии представали перед местными жителями, перед взором изумленных женщин и детей, тыловики об этой своей святой обязанности, похоронить убитых солдат, забывали.
Может здесь, среди брошенных солдат, были их отцы и мужья, сыновья и родные? Да разве теперь узнаешь в обезображенных трупах своего родного и близкого человека. Редко у какого солдата лежала в кармане солдатская книжка или капсула с фамилией на бумажке.
Хмельной угар, натопленные избы, парные бани, взбитые подушки, пуховые перины, сытая жизнь, податливые хозяйки, всё это заслоняло человеческую сущность, мораль и войну. Всё, что было народной совестью, об этом молчали.
На убитого, отмеченного галочкой в ротных списках, в полку заполняли извещение по форме и посылали семье. Не очень то корпел писать, чтобы выяснить место гибели солдата. Название деревни писали то, где в данный момент стоял штаб полка. Офицеры штаба уточнениями истины себя не утруждали. Погиб солдат здесь или десять километров впереди это было не важно.
Десятки, сотни, тысячи, миллионы ушли в землю. А кто, где лежит, разве это теперь имеет значение и волнует кого.
В стрелковой роте на передке, в мерзлой земле ковыряются старики и мальчишки. Солдат в возрасте и силе давно уже нет. Старики и ребятишки долбили мёрзлую землю всю ночь. Усталые, они к утру валились и тут же в своих окопах засыпали. Рассвет не предвещал ничего хорошего. В желудке не бултыхалась, как обычно мучная подсоленная жидкость, солдатам даже во сне виделось, что им третий день не дают в роте харчи.
Перед фронтом полка после недели боёв остались три недобитые стрелковые роты. Если просто арифметически подсчитать, то получиться, что на переднем крае нет и сотни живых солдат. Зато в тылах полка по подсчетам старшины находилась огромная армия, по крайней мере, около тысячи.
Немцы не увидели к утру свежие выбросы земли на переднем крае. Ещё не занялся рассвет, а в воздухе медленно закружились крупные снежинки. Через некоторое время дыхнуло сырым порывом ветра, и с неба неожиданно повалил густой и мокрый снег.
Тяжелые хлопья снега слепили глаза, холодили переносицу, щеки, подбородок и губы. Снег падал, таял, проникал за воротник и холодной струёй сбегал по спине, по хребту в солдатские штаны мокрой влагой. Мокрота между ног, скажу я вам хуже, чём рой надоедливых вшей на гашнике.
При мигающем свете осветительных ракет немцев, снег казалось, сплошной лавиной отрывался от земли и поднимался к небу. Но вот он переставал лететь вверх, неожиданно замирал и сплошной стеной устремился снова вниз. Снежная лавина то застывала на месте, то снова срывалась и неслась навстречу земле.
На шапках и на плечах нарастала снежная липучая масса. Она обваливалась, обваливалась, обваливалась и падала вниз лепёшками.
Накануне изрытое снарядами поле в полосе обороны стрелковой роты, теперь под снегом выглядело совсем другим. Снег сгладил повсюду бугры и канавы, воронки и выбросы комьев земли. За короткое утро, черная изрытая полоса переднего края исчезла из поля видимости, как мираж в полуденной пустыне.
Немцы посмотрели и удивились.
– Где же русские?
– Куда девался Иван?
Деревня, где сидели немцы, тоже провалилась по самые окна. Она изменилась на столько, что стала какой-то чужой. Нейтральная полоса растворилась и исчезла на фоне белого поля. Ориентиры пропали. Стрельба замерла. После каждого снегопада фронт затихал. Только потом, когда среди белого снега замелькают, зачастят серые солдатские шинели во весь рост, потихоньку начнётся стрельба.
Сначала небольшая перестрелка одиночными выстрелами из винтовок. Потом короткими очередями из пулемётов. Потом прилетит, шурша первый немецкий снаряд. После чего последуют налёты целой батареей. Кто-то первый выстрелил, и с этого началось.
А сейчас падал мокрый снег. Он предвещал долгую и надежную тишину на переднем крае. Свежий мокрый снег не только прикрыл истерзанную землю, изменил облик земли, он обновил души солдат, умыл их заскорузлые лица, влил в них живую струю человеческой силы и чего-то нового. И солдаты, как дети, позабыв про войну, вдруг начали перебрасываться снежками.
То, что молодые и старые, бросали друг в друга снежками, имело исключительно важное моральное значение. После стольких тяжелых обстрелов, долгих ночей, дней и недель адского холода у солдат загорелась новая искра надежды на жизнь. Не всё было выбито и уничтожено в солдатской душе. Не застыла она на ветру и на холоде, не превратилась в кусок ледышки с безразличием и апатией ко всему. Солдаты по детски радовались, когда снежок попадал и разлетался на голове соперника.
Я случайно поднял голову и увидел, как в полосе обороны роты замелькали белые снежки. То там, то здесь взлетали они, как немецкие осветительныё ракеты.
– Ну и дела!
– Пусть играют!
Не всё ещё умерло, осталось и живое в солдатской душе. Живет внутри него огонек, раз вдруг вспомнил далёкое прошлое и вдарился в детство.
Во мне тоже задело что-то. Я скинул варежки, растопырил широко пальцы, загрёб побольше за один раз липкого снега, скомкал и сдавил его в круглый плотный комок. Поваляв его в ладонях, прикидывая куда бросить, запустил его вдоль линии обороны роты. И в тоже мгновение получил сзади точный удар снежком по голове.
Если немцы видели эту странную на войне картину, то теперь им не сдобровать. Мы чувствовали на своей стороне силу и волю русского солдата. Недолго каждый из них продержится в роте. Три десятка солдат и двух офицеров хватит максимум на неделю. Кто исчезнет, кого убьет, кто схлопочет тяжёлую рану.
Быстро растает весной, набухший снег, вместе с ним исчезнут и эти играющие в снежки человечки. Исчезнут навсегда, как этот ударивший по голове комок снега.
Прилетел ещё один. Ударил в плечо и разлетелся.
– Метко кидают! – подумал я.
* * *
Глава 11. Фельдфебель Пфайффер
Текст главы набирал SSS Сергей@mail.ru
01.08.1983 (правка)
Декабрь 1941
– – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -
25 декабря немцы встали на рубеже: Иванищи, Александрово, совхоз Красноармеец,
Леушкино, Гостенево, Чухино, Сидорово, Климово, Никольское. В боях у деревни
Чухино дивизия понесла большие потери. 30-го декабря 41 года дивизия находи-
лась в составе 31 армии. 250-я??? прорвала фронт на участке Гостенево-Чухино,
а 1-го января 42 года, повернув на Ржев, дивизия была передана в 39 армию.
– – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
Из показаний пленного солдата сапёрного батальона 262 пех.див. Руди Наделя.

В избе на широкой лавке у замёрзшего окна сидел обросший и замотанный тряпьём пленный немец. Сложив руки и опустив их смиренно на колени, он сказал нерешительно:
– Если позволите… Я расскажу вам все по порядку.
– Хорошо! – согласился я.
– Говорите медленно! Чтобы слова и фразы я слышал раздельно.
Пленный понял, покачал головой (вздохнул глубоко) и о чем-то задумался. Солдаты умолкли. В избе наступила тишина. Прошла минута. Немец как бы очнулся, обвел нас сидящих грустными глазами и стал рассказывать свою, как он выразился печальную историю.
Во время рассказа я останавливал его, задавал ему вопросы, уточнял значение отдельных и непонятных мне слов и делал короткие записи на листках бумаги.
Рассказ о немецком обозе имел (не один, а два) два источника. Один – это то, что рассказал нам немец и другой это то, что мы видели сами в пути. Дело в том, что по дороге из Чухино на Климово и Никольское перед нами двигался немецкий обоз. Для того, чтобы в рассказе все было ясно и встало на свои места, мы должны вернуться во времени несколько назад.
– Ну что явился? – спросил меня сидевший в избе штабник.
Как фамилия этого штабника я точно не помню. Но по-моему это был Максимов. Теперь ведь это не важно, кто именно это был. В то время я не вылезал с передовой, редко бывал в тылах и штабе, не всех штабных и тыловых знал в лицо и по фамилии. Я хорошо различал их голоса по телефону. Уж очень далеко от передовой сидели они тогда, в сорок первом. Так было заведено, что штаб и полковые тылы вставали от передовой подальше, чтобы до них не долетали снаряды.
Так вот. После фразы – "Ну что явился!", Максимов добавил:
– Во второй батальон уже звонили! Солдат тебе выслали! Иди погуляй!

– Выйди на улицу, там их и обожди.
Я вышел из избы на волю, посмотрел на толстые брёвна, валявшиеся за углом, огляделся кругом, подошел к поваленному дереву около забора, стряхнул варежкой лежавший по верху (ствола) снег, достал кисет, сел и закурил. Я сидел у дороги, по которой вот-вот должны были подойти солдаты моей новой роты. Часа через два на дороге появились четверо, а потом ещё двое (солдат). Я посмотрел на них. Солдаты бывалые. Но их всего шесть (человек). Но это не рота. По внешнему виду солдаты пришли с передка. Полкового обозника, его сразу видать с расстояния. Его по спине по бокам и животу отличишь, по поясному ремню, по прохиндейской роже, по вороватому острому взгляду. А эти шестеро были простыми солдатами. У них на лице как на иконном лике святой смирение и мудрость (покорность) войны. Я сидел на стволе поваленного дерева, смотрел на дорогу и курил. Один солдат из шести, по-видимому старший, подошел к часовому и спросил:
– Здесь чтоль штаб полка?
– Ну, а тебе пошто его надо?
– Давай доложи! Шесть человек из второго батальона по приказу штаба явились (сюда прибыли). Вот передай! – и солдат подал часовому сложенную пополам записку.
– Садись возле забора, братва. Можно курить! – объявил он стоявшим на дороге солдатам.
Те сошли с дороги, расселись в снегу возле изгороди, размотали свои кисеты и начали крутить (махорку в газетных обрывках).
Я смотрел на солдат и на часового, который вышел из избы и остался стоять на крыльце, на уходящую в заснеженный лес дорогу по которой должна была подойти стрелковая рота. Солдат было всего шесть. По военному, времени, куда не крути, а человек тридцать солдат я должен иметь в новой роте. Я никак не предполагал, что эти шесть и есть моя новая рота. Солдаты сидят рядом на дороге и пуска кают дымки. Я тоже покуриваю и посматриваю на них, не подозревая, что это (и есть моя новая рота) с ними нужно куда-то идти. Но вот на крыльце показался тот самый штабной, к которому я прибыл по вызову. На нем был новый полушубок и валенки, загнутые под коленками на выворот. Увидев (сидящим на дереве) меня, он спросил:
– Ты чего сидишь лейтенант? (Чего делаешь?).
– Видишь сам! Сижу, курю и жду роту!
– Ты, когда разговариваешь со старшим, должен встать (лейтенант)!
– Встать, значит встать – отвечаю я.
– Я тебя вызывал?
– Вызывал!
– Ты ждёшь солдат из батальона?
– Жду!
– А эти откуда пришли?
– Не знаю!

– А ты не можешь спросить?
– Мне ни к чему.
– Вы откуда прибыли? – спросил он солдат.
– Из второго батальона, по вашему вызову!
– Вот лейтенант! Это твои солдаты! Я обернулся и посмотрел (на них). Теперь я их рассматривал совсем с других позиций.
– Это твои люди. Считай, что твоя рота в полном составе!
– Да?
– Да – да! – сказал Максимов и посмотрел на меня. В чем мол (собственно) есть ещё сомнения?
– Придет пополнение, получишь ещё полсотни. А пока с полкового склада получишь патроны, гранаты и хлеб на этих солдат (на три дня). Я позвоню, чтобы тебе сегодня всe выдали. Ручных пулеметов в полку нет. Рассчитывай (на солдат) на винтовки и на гранаты. Максимов поколотил ногу об ногу, стряхнул с валенок налипший снег и удалился в избу. Хлеб и патроны мы получили без всякой задержки. Максимов показал мне по карте маршрут движения и поставил задачу (как взводу пешей разведки) на разведку дороги и лежащей за лесом деревни. Пока я не получил пополнения, он решил меня использовать как разведку и сунуть вперед. До самой ночи мы пробирались через заносы и сугробы по заброшенной лесной дороге. Время и расстояние, пройдённое нами, мы определяли на глазок. Часов у нас не было (тогда из нас никто не имел). По моим расчётам мы должны были пройти половину пути. Я решил дать солдатам короткий отдых и объявил привал. Лесная глухая дорога должна была скоро кончиться, и мы должны были выйти на очищенную проезжую дорогу, по которой ездили немцы.
Погода нам благоприятствовала. На полянах и открытых местах шуршала пурга. Порывы ветра хлестали в лицо, когда мы из густого ельника вдруг выходили на открытое не место. Верхушки высоких елей метались над лесом (в вышине). Солдаты мои не молодые, почти все в годах идут не торопливо, через каждую сотню шагов останавливаются. Объявляю привал. Все ложатся в снег. Я мгновенно засыпаю. Мороз и озноб хватают мгновенно за локти колени и спину. Лежим не долго. Открываю глаза и ловлю себя на мысли, что только что сразу уснул. Сколько времени проспал (сказать не могу). Солдаты лежат в снегу с закрытыми глазами. Поднимаюсь на ноги, махаю руками, ударяю себя по замерзшим бокам. Расправляю плечи, разгибаю спину (несколько раз позвоночник). Подаю солдатам команду «Подъём!». Переступаю через сугроб и выхожу на лесную дорогу. Впереди идут два coлдaтa. Я с остальными cлeдyю сзади (в нескольких шагах сзади за ними). Так (в движении по дороге) проходит ещё некоторое время. Но вот двое солдат попятились назад и залегли в рыхлый снег. Я подаю знак рукой идущим (тем, что идут) сзади остановиться и пригнувшись… вперёд. Подхожу к двум солдатам, они мне показывают рукой на проезжую дорогу.

(Мы могли обойти лес по другой проезжей дороге. Но мы (прошли напрямик по лесной дороге) сократили свой путь напрямик. (Чтобы не сделать крюк вокруг леса и выиграть время). Меня с солдатами пустили вперед по лесной заброшенной дороге. По окольной наезженной дороге, вокруг леса, пойдет батальон и часть полкового обоза. Нам нужно было выйти вперед, и опредив по времени их, разведать деревню. Мы так сказать должны были разведать дорогу и подступы к деревне. До деревни Никольское оставалось хода (часа два) километров шесть). Я вышел на дорогу, посмотрел влево и вправо, обратил внимание, на свежие следы. Глубокие борозды от саней, конский помёт, следы солдатских ног были припорошенные снегом. Мне почему-то в голову пришло, что нас обогнал батальон (и часть полкового обоза). Я сделал привал, и мы проспали в лесу много времени – подумал я. Батальон и обоз прошли мимо меня по дороге. Будет скандал! Штабные меня загрызут!
Я вернулся к своим солдатам и сказал им:
– Вот что братцы! Проспали мы на привале! Теперь нужно прибавить шагу и догонять своих. Они обошли нас по дороге (пока мы с вами спали). Осмотрев ещё раз дорогу, по которой прошли люди и лошади, я прибавил шагу и поспешил в деревню. (Я хотел наверстать потерянное время). Лес кончился. Дорога пошла по открытому полю. (Теперь) Ветер и снег здесь хлестали остервенело (трепали шинели и били в лицо). Мы несколько раз останавливались, летучий снег до боли резал лица. Я смотрел вперед, искал глазами темные (черные пятна) подвижные точки на белом фоне (снегу). Может где ветром выхватит из снежной пороши людей, лошадей и повозки (на снежном бугре). Но снег налетал с новой силой, хлестал по глазам и застилал всё кругом. Несмотря на метель (и порошу) мы видели на дороге почти свежие следы, которые оставил обоз. Мы шли по следам. (Мы шли за обозом по пятам. Так мне казалось по крайней мере). Но из-за летящего снега (почти поперек дороги) впереди ничего нельзя было рассмотреть. Получив задание от Максимова, я по его карте внимательно рассмотрел и запомнил схему маршрута, Я видел тогда, что при подходе к деревне на карте был обозначен овраг. Вот именно здесь я и рассчитывал обогнать своих обозников. Пока лошади с гружёными санями обогнут овраг и переберутся через (снежные) заносы, мы обойдём их и возможно первыми успеем войти в деревню. Чем ближе к оврагу, тем сильнее и неистовей ветер, тем стремительней летела снежная пыль. Мне было и холодно и жарко. Холодно от ветра, летящего снега, быстрой ходьбы, а жарко от быстрой ходьбы и от мысли, что мы опоздаем, что мы не догоним обоз. Я смотрю на своих солдат. Они идут, пошатываясь (от тяжелой дороги и усталости). Мы часа два, буквально, продираемся сквозь пургу и сугробы. Под ногами дорога, я все время её чувствую. Хотелось бы идти побыстрей. Но глубокий снег не позволяет делать широкий, размашистый шаг.


Валенки не гнутся. Солдаты на войне (умеют беречь) всегда берегут силы. Кто знает, что может (случиться) быть впереди. Может потом из последних сил придется бежать (поднатужиться). Все нужно делать из расчета на потом. Мне потом придется (не одну версту бежать или) долго ползти по глубокому снегу? (Стреляный) Опытный солдат не станет наперед торопиться. Он лучше сначала переждет, потянет время, побережет свои силы. (Он прежде оглядится кругом, прикинет, поразмыслит своим умишком). Я точно не знал на каком километре от деревни мы в данный момент идем (находимся). Кроме компаса на руке (в планшете) и схемы маршрута в голове у меня ничего не было. (Снять схему с карты у меня времени не было). Я шел по памяти, оглядываясь по сторонам. Видимость на дороге была не более двадцати метров. Будь у меня с собою карта, она тоже ничего не дала на дороге. Но вот впереди (по пути нашего движения) мы увидели тёмный предмет, он был (на одном месте и совсем не двигался) неподвижен и едва различим. И все же мы выхватили его глазами из общего снежного фона. Мы подошли ближе, и каково же было наше удивление, в сугробе, пристроившись у дороги, сидел занесённый снегом немец. Сначала мы подумали, что он замерз или убит. Пожилой солдат, который (тогда передал записку часовому) был за старшего и стал (теперь) моим помощником, подошел к сидевшему в сугробе немцу и толкнул его слегка ногой. Немец (слегка) шевельнулся, кивнул головой и снова застыл. (Он сидел в неподвижной позе) У него из-под нося белой дымкой срывалось ровное дыхание. Немец был не только жив, он сидел удобно в снегу и крепко спал. Сидел он скорчившись, поджав под себя ноги и привалившись спиной к сугробу. Колени у него были поджаты к груди, голову он опустил на них. Винтовка лежала на согнутой руке. Мы наткнулись (набрели) на него неожиданно и не знали, что собственно с ним делать (в первую минуту даже опешили) Конвоировать его в тыл? Или поднять, поставить на ноги и вести с собой? В том и другом случае к нему нужно было приставить охрану не менее одного солдата. Я посмотрел вперёд, слабая бороздка от саней уходила дальше по дороге в направлении деревни. Я взглянул на немца, прикидывая в уме. Нашего обоза впереди по-видимому впереди не было. Немца заметал снег. Но складки… были четко видны. (Они были тоже припорошены снегом). По складкам одежды и потому, как его занесло (снегом), я сделал вывод, что (должно было пройти) он уселся в снег не более часа (получаса) назад. Наших впереди не было. Если бы они здесь прошли, они наткнулись бы на спящего немца. Мы стояли полукругом и смотрели на спящего немца. Теперь мне стало ясно, что мы бежали по дороге не за своим, а за немецким обозом. Этот немец шел видимо последним (сзади), присел в сугроб и моментально заснул. По моим расчетам немецкий обоз сейчас находился в деревне Климово. Я представил себе ситуацию. Мы догоняем повозки, считая их нашими, а на них сидят спокойненько немцы, что могло (после этого) произойти? Солдаты сняли с руки немца ружейный ремень, легонько вынули из-под согнутого локтя его винтовку, немец не шевельнулся (шелохнулся). Он удобно сидел в мягком сугробе, ровно дышал и (спокойно спал) пускал пузыри. Солдат Сидоров, так звали моего помощника, подошел к немцу и стал его трясти за плечо. Немец недовольно поёжился от проникшего за воротник снега и холода. (Немец спал) В снегу ему было тепло и спокойно. Сидоров стал звать себе на помощь солдат. Он был дюжим и жилистым мужиком. Он схватил немца одной рукой немца за плечо, а другую руку подсунул немцу под поясной ремень, приподнял его над землёй и поставил на ноги (на дорогу). Все думали, что немец останется стоять на ногах, а он подогнул, ноги под себя, и не подавая голоса, и не открывая глаз, опустился снова нa дорогу. Уж очень не хотелось ему открывать глаза. Елизваров чертыхнулся, приподнял немца ещё раз (снова) и прикладом винтовки ударил немца слегка по железной каске. Удар получился резкий и звонкий. Но немец и на этот раз не проснулся.
– Ну и немец! – сказал кто-то из солдат.
– Ты поосторожней с ним, не переломай ему кости! У тебя лапы и шея как у быка! Изуродуешь человека. Потом придётся нам его тащить на себе Елизаров поднял немца двумя руками с земли как маленького ребёнка и встряхнул его, держа на весу (пока немец не проснется). Все думали, что вот теперь немец обязательно проснется. Я подумал, вот он сейчас качнёт немца и бросит обратно в сугроб. И действительно Елизаров приподнял его еще раз над землёй и потряс им в воздухе как заплечным мешком. И сказал при этом:
– Не будем же мы стоять перед ним и ждать пока он выспится! Елизаров бросил его обратно в сугроб. Это как в анекдоте! Немец ткнулся боком в мягкий сугроб. Удар пришелся ему в самый раз, чтобы проснуться. Он залепетал что-то быстро по-немецки, открыл глаза и уставился на нас (ничего не понимая). Сначала он рассматривал наши белые маскхалаты, потом небритую рожу Елизарова. И когда тот дыхнул ему в лицо перегаром махорки, немец поперхнулся, закашлял и заморгал (глазами). Он смотрел на нас, как на пришельцев с того света. Вот он помотал годовой, протер кулаками глаза, и произнёс хриплым голосом, как это делают люди не верящие видению:
– Нейн, – нейн! Дас ист унмёглих! (Нет-нет! Это невозможно!)
Он, вероятно, подумал, что всё это во сне. Он не хотел верить реальности. Он думал, что это наваждение.
– Яа-яа! – подтвердил я ему. (Да-да!)
Немец посмотрел на меня и сразу всё понял.
– Хенде хох? – спросил он меня. (Руки вверх)
– Натюрлих! – подтвердил я, (Конечно!)
И немец, посмотрев ещё раз по сторонам.поднял руки вверх, как положено. Елизар обыщи его для порядка! Документы мне! Трофеи разделить на братию.

Солдату мой приказ пришелся по душе (понравился). Документы и всякие бумажки солдату не нужны. Немец пришел в себя окончательно, когда Елизар прошелся у него пальцами по бокам и карманам.
– Ну вот теперь гут! – сказал я и сделал немцу знак рукой, чтобы он опустил свои руки.
Перед нами стоял немец лет тридцати. (я посмотрел документы и)Я спросил его насчет обоза (где их обоз), почему он отстал (от обоза), сколько солдат и повозок в обозе, куда они следуют? Отправить немца в тыл под конвоем (солдата) я просто не мог. У меня шесть солдат и каждый из них на счету (на вес золота). Не было никакого смысла распылять своё войско на части. Если бы не ветер и не холод я остался бы с немцем на месте и стал (своими солдатами) поджидать на дороге свой батальон. Но ветер, летучий снег и лютый мороз погнал нас вперёд на деревню. Я надеялся, что обоз уже ушел из деревни. Оглядываясь по сторонам, (вперед и назад) мы двинулись по дороге. При подходе к деревне мы свернули в овраг. Немец шел под охраной (лично Уварова) солдата. Чтобы фриц не сбежал, он привязал его за ногу верёвкой. А другой конец держал в руках, намотав его себе на ладонь. Я посмотрел на эту пару связанную одной верёвочкой, рассмеялся и сказал:
– (Он Уваров) От тебя и так не сбежит. (Батальонное начальство увидит, будет повод прицепиться). И зачем тебе поводок, когда у тебя есть винтовка.
Троих солдат и немца я оставил на дне оврага, а с тремя другими полез по склону (оврага). Мы выползли на бугор поросший мелким кустарником, от сюда хорошо была видна утопшая в снегу деревня (и отдельные дома). Мы долго смотрели вдоль улицы и не заметили никакого движения. Вопрос стоял так: или немецкий обоз прошел мимо, не останавливаясь, прошел мимо деревни, либо немцы с мороза сразу разбежались по домам. Я смотрел вдоль улицы и думал (на ней как будто все вымерло). Может немцы затаились? Ждут пока мы войдем в деревню. Что делать? Ждать до ночи? Или сейчас идти? Что лучше? Рисковать (своей и) солдатской жизнью ради того, чтобы забраться сразу в избу? А для чего это нужно? Время покажет своё! (Встать и пойти? Или не ходить? Смерть поджидает нас на каждом шагу!) Каждый неверный шаг будет стоить нам жизни! Я сидел за кустом, смотрел вдоль деревни, перебирал (варианты) в памяти подходящие моменты думал и прикидывал. Но мои догадки были одна хуже другой. Когда убивает! Убивает, не подряд не каждую минуту. Наступает какой-то момент ты делаешь необдуманный шаг и получаешь пулю. Раз часовых около домов нет какие могут быть сомнения?
– Ну что, Елизар, пойдём в деревню или будем здесь в снегу сидеть.
– Надо идти! На ветру все замерзнем! – сказал он и (как будто в этом) утвердительно покачал головой.

(был абсолютно уверен)
– В случая обстрела быстро отползем назад! (и отойдем к оврагу). В такую пургу точно на мушку не возьмешь (они из деревни на нас не пойдут). Да и не знают они сколько (много ли) нас здесь в овраге.
– Всё это верно! – сказал я.
Сказать-то сказал, а сам (сидел за кустом) смотрел на деревню и не двигался. Елизаров молчал.
Может в последний момент мелькнет где фигура немца? – подумал я. Подумал и сам себе ответил: – в такой мороз они бы давно показались между домами.
Умирать легко. Когда ты смерть не ждешь, и она хватает тебя за горло сразу. А когда ты её ждешь, когда тебе самому нужно идти на встречу ей, смерть кажется мучительной и невыносимой. (Человек уже не живет, если видит, что она неотвратима.)
Боевое задание Максимова на разведку дороги я выполнил. А вообще разведку в глубине расположения противника в отрыве от своих войск должна была вести полковая разведка, (подчиненная непосредственно Максимову). В данном случае меня Максимов заставил выполнить (я выполнял с солдатами) несвойственную нам функцию. Сидя в снегу за кустом, я перебирал в памяти разговор с Максимовым. "Пойдёшь в разведку, войдешь в деревню и займёшь оборону!" – сказал он мне. "О выполнении приказа лично мне доложишь»
"Каким образом?" – спросил я. "Пошлёшь посыльного ко мне, а с остальными займёшь оборону". Я улыбнулся и посмотрел на него (ему в глаза).
"Неужель вы сами не видите, что у меня не рота, а всего шесть (человек) солдат. Разведку дороги я проведу. В деревню войду, если она не занята немцами. А держать оборону не буду.
– Ладно! – сказал Максимов
– Разведаешь дорогу, войдешь в деревню и действуй по обстановке!На войне жизнь пехотинца мало что стоит. Боеспособность полка определялась количеством штыков в стрелковых ротах. Какая тут тактика и стратегия, когда в сорок первом воевали с винтовками наперевес. Боевые приказы отдавать легко и просто (отдавались ясно и просто).
– Видишь деревню?
– Какую?
– Вон ту!
– Вижу!
– Вот пойдешь и возьмешь её!
– А как её брать?
– Ты что, первый день на фронте? Теперь тебе ясно? Это приказ дивизии! (Кончай разговоры и давай вперед!)
– Чиво? Чиво? Мы сами знаем, что патронов мало!
– Что мы делаем? Наверху знают, чем мы занимаемся. За тебя отвечаем (и за тобой следим)! Жизнь командира роты не стоила ничего (каждый день висела на волоске). Противогаз с гофрированной коробкой стоил дороже. Химик полка имел строгий приказ собирать противогазы после боя. А раненых солдат и лейтенантов некому было подбирать. Они сами ползли, истекая кровью в санроты. Убитых в снегу вообще не считали. Против их фамилии в списке ставили крестики (и считали что они списаны на войне).

Спросите в полку штабистов наших, где похоронены солдаты и лейтенанты. В похоронках названия деревень и населенных пунктов были указаны, а где на самом деле остался лежать убитый солдат, этого никто не знал.
– За этими ротными только смотри.(приходится подгонять. Что за народ! Так и хотят от дела отлынить)! – вспомнил я крик и ругань комбата.
– Что ты сказал? – кричит он в трубку.
– Взять деревню не можешь?
– Хватит лежать! Ты все бока пролежал! Роту подымай! Лежит под деревней и не чешется!
– Что-что? Ты мой голос по телефону не узнал?
– Кузькину мать знаешь? А! Теперь и голос признал? Я этого и сейчас ожидал. Подойдёт батальон и начнётся внушение. Мы вошли в деревню, когда стало смеркаться, деревня оказалась пустой. Наших на подходе не было видно. (Вот досталось бы мне от комбата). Деревня, как деревня. Что о ней говорить. Она и сейчас стоит у меня перед глазами. Главное тут другое. Как с шестью солдатами держать оборону в ней? Как расставить часовых на посты? С двух сторон к деревне подходит наезженная дорога. Немцы могут появиться (в деревне) с любой стороны.
– Елизаров – позвал я своего зама.
– Раз ты мой заместитель, пройди по деревне, наметь посты и поставь часовых! Посмотри в домах, не висят ли где ходики. Смену часовых по часам будем (делать) производить. Ветер и снег теперь гудел и метался в печной трубе. В такую ночь немцы на дорогу не сунуться. В темень и метель с дороги легко сбиться. По одному часовому на концах деревни вполне, будет достаточно. Пока Елизаров ходил по деревне, искал ходики и намечал посты, я расчертил лист бумаги и составил график дежурства. В каждой графе указал фамилию и время смены. Пусть меняются по часам. В расписании постов указано, кто, где стоит, когда и кто кого меняет. Раньше я не составлял такие списки. В роте на передовой обычно идёт все само собой. На этот раз, при нехватке людей, список будет действовать на солдата как разводящий начальник караула. Елизаров принес и повесил ходики. Каждый перед сменой подходил к столу, водил пальцем по бумаге, ногтем упирался в строчку со своей фамилией, смотрел на часы и отправлялся на пост.
– Ну вот порядок Елизаров! – сказал я,
– Теперь можно и нам с тобой отдохнуть. Немца положим на лавку (в углу). А мы с тобой завалимся спать на деревянную кровать. (Один солдат остался дежурить внутри. Он сидел у стола)

Один солдат остался сидеть у стола при горящей коптилке (он докурил внутри) и двое легло на полу у печи. Ночь прошла без происшествий. Утром Елизаров затопил печь. В избе стало тепло и сыро. Харчей у нас с собой не было. Три, четыре сухаря на брата и горсть (щепоть) махорки на всех. Солдаты нагребли из-под пола (чугун немороженой) картошки. Принесли колодезной воды. И через некоторое время все сели за стол. Горячая картошка чай без заварки и (вдобавок) по одному сухарю для приправки – разве это не царская еда для голодного солдата. Немца посадили за стол и накормили (как солдата) по общей норме. Картошку он ел неумело. Обжигал пальцы. Дул на них и болтал ими в воздухе, морщась от боли.
– Опосля еды и чаю, закурить надо! – сказал кто-то (многозначительно). Я понял, что солдаты наелись (довольны). Днем охранная служба пошла веселей. Двое патрульных на концах деревни (с дорогами). Остальные в избе у печки. Я позвал Елизарова. Мы обошли всю деревню, осмотрели огороды (окрестности) и вернулись в избу Я решил допросить пленного немца подробно. Беседа наша продолжилась целых два дня, потому что в деревню наш батальон и обоз не явились. Вот что рассказал нам пленный. В ночь на 26 декабря по дороге на Климово и Никольское вышел немецкий обоз. В обозе были три упряжки и шестнадцать солдат охраны. Многие из солдат раньше не воевали. В охрану обоза они попали, когда прибыли с пополнением из тыла. До назначения в охранный взвод солдаты служили в разных тыловых частях под Ржевом и Смоленском. В Смоленске стоял штаб группы армий и находились основные склады. 10 декабря по приказу армейской группы в тыловых частях, расположенных западнее Ржева, провели отбор солдат для пополнения передовых частей. К 26-му декабря на фронт отправили всех, кто не имел военной специальности, кто стоял на ногах и мог держать в руках винтовку. Основная часть солдат попала в пехотные роты, а им повезло, их шестнадцать оставили в тылу для охраны обоза. В обозе двое тяжелых (окованных стальными полосами) саней и одна колёсная Фура. В каждой упряжке по паре лошадей. Короткохвостые "Першероны". Они медлительны на ходу, неповоротливы на русских просёлочных дорогах. Это лошади тяжеловесы. По дорогам с твердым покрытием они могут везти многотонные грузы. А здесь на полевых, ухабистых дорогах они быстро устают. Здесь наши низкорослые, подумал я, на брюхе через сугроб переползут. А немецкие породистые для наших дорог не годятся. Дороги у нас в России узкие, ухабистые и кривые, без мостов и обочин, проложены прямо по земле. В пути, что ни шаг, то бугор, канава. А зимой на первый взгляд всё кажется ровным и твердым, а ткни ногой где-нибудь, из-под ног сочится вода.

Для породистых тяжеловесов (першеронов) мосты в три гнилых бревна не годиться. На них они, как правило, ломают ноги. (Матушка Россия тут) Квадратной брусчаткой у нас дороги не принято было мостить. Вот собственно почему немецкие обозы продвигались медленно и часто застревали. В лесах край дороги угадывается по стволам растущих деревьев. А в (снежных/заснеженных) полях (дорога) она растворялись и исчезли под снегом. Через каждый десяток метров снежные бугри и сугробы, Топаешь, ищешь дорогу, а (в лицо) кругом хлещет летучий снег (и режет холодный ветер). Куда не посмотри, кругом дымят (наносы) и (белые) сугробы. Ни деревьев тебе вдоль дорог, ни ограждений. Кругом снежное поле. В воздухе летит белая пыль, под ногами (бежит низовая) скользит позёмка. Вот дорога нырнула под снег и пошла куда-то в сторону. Передние лошади продолжают идти в прежнем направлении. Через несколько шагов они (сползают с дороги) останавливаются, погружаются в рыхлый (белый) сугроб, словно в трясину. Впередисмотрящй форрейтер начинает махать руками, кричать (что-то на ветру). Он остервенело хлещет кнутом дёргает за вожжи, а лошади продолжают сползать под откос, они утопают в снегу по самое брюхо (податливой снежной массе). Первая пара лошадей пытается встать на дыбы, храпит, рвётся, бросается в стороны, бьёт по снежному месиву ногами, ветер срывает с удил белую пену.
– Обозом командует фельдфебель Пфайффер. Видя такую картину, он теряет терпение, выбегает вперёд, подаёт команду:
– Стоять на месте! Он надрывно кричит, но из-за летящего ветра и снега его властный голос (ничего) не слышно. Фелдфебель жестом посылает вперёд группу солдат. Они начинают топтать (снег) и искать ногами дорогу. Передние лошади стоят по брюхо в снегу. Они выбились из сил, дрожат всем телом, дико вращают глазами, фыркают и тяжело дышат. Но вот наконец дорога найдена. Передняя пара лошадей трогается с места. После нескольких отчаянных рывков (прыжков) лошади выбираются на дорогу. Сбруя из толстой кожи трещит на морозе. Звенят стальные цепи упряжек, за первыми санями, повизгивая, выезжают вторые, трогается с места тяжелая колёсная фура. За упряжками, широко расставляя ноги, (размашисто) шагает фельдфебель, за ним согнувшись (сгорбившись) от…(снежного) ветра, плетутся солдаты. Колёса у повозки, повизгивают (на снегу) поют на разные голоса (от снега и сильного мороза). Лошади, раскачивая боками, трясут лохматыми гривами. Они как собаки с обрубленными хвостами виляют ими часто (подхлестываемые ветром). Из ноздрей у них вырываются клубы белого пара. По снежной дороге летит пелена. Дорога едва различима. Жерди с пучками соломы, когда-то расставленные вдоль дороги, вырваны ветром и разбросаны в поле. На передке колёсной фуры (с подлокотниками сиденье. На сидении) растопырив ноги, сидит ездовой.


Шея у него замотана тряпкой, на спине лоскут овчины, под шинель подоткнут (обвязанный вокруг боков веревочкой). Ездовой клониться вперёд от встречного ветра. В одной руке у него связка вожжей, а в другой длинный хлыст, как у циркача. Фельдфебель Пфайффер шеф и главный ляйтер обоза. Солдатам охраны он начальник и бог. Ни один из них не может возразить ему. Шагая сзади, они смотрят в его плечистую спину. Вот один солдат, падая, замахал руками, потерял равновесие, но успел вовремя присесть. А второй не удержался и упал на дорогу. Но он быстро вскакивает и бежит, чтобы занять своё место. Мелкий колючий снег летит вдоль дороги. Порывы ветра настолько сильны, что перехватывает дух. Лица у солдат сине-зелёные, губы распухли, на бровях налипшие шарики льда. Обуты немцы в короткие кожаные сапоги. (В глубоком снегу) Проходя по глубоким сугробам, они черпают снег голенищами. Ветер вырывает у них из-под ног комки снега, подхватывает их, бросает куда-то в сторону и превращает снежную пыль. У немцев на ногах кованые сапоги с широкими голенищами. За голенищу можно засунуть гранату с длинной деревянной ручкой или лопату. Вообще-то странно, почему фюрер обул своих солдат в короткие сапоги. По русской зиме такие сапоги не годятся. Они как черпаки для снега. Сшиты они на совесть из толстой яловой кожи. Подошвы сапог оббиты стальными пластинами с шипами. На каблуках Золингеновские подковы. Но у добротных немецких сапог огромные недостатки. Фюрер вероятно считал, что такой пары сапог солдату хватит, чтобы пройти по всей Европе. Но что было плохо. Головки имели очень малый подъем. Сапог обтягивал ногу. Немцы носили сапоги на тонкий носок. На ноге сапоги (они) не болтались. По европейской брусчатке (в Европе) ходить в них (в летнюю погоду) было удобно. А для русской хляби и лютой зимы, они совсем не годились. Из-за этой мелочи солдаты фюрера обморозили себе ноги. Русский народ по морозцу и в лютую стужу надевал валенки или подвязывал верёвочкой лапти и онучи. Не улыбайтесь. Лапти зимой – первейшая обувка! Я сам ходил однажды во время войны зимой в лаптях. И должен вам сказать, что в них удобнее и теплей чем в валенках. Важно портянки и онучи правильно намотать (Онучи и лапти подвязанные по правилам веревочкой легкие на ногах) В лаптях не идешь, а плывешь по зимней (летишь) дороге. Под ногами земли не чувствуешь, ни где тебе не жмет и веса никакого, легки как перышко гусиное. Советую попробовать, особенно зимой! (Матушка) Руси тогда бетонные дороги не строили. У нас, во многих небольших городах, досчатые тротуары были в ходу. Лужи и канавы стояли поперёк улиц. Через них (некоторые) перебирались по брёвнушкам и дощечкам, брошенным в непролазную грязь. Россия-это огромная земля, бескрайние просторы, дремучие леса и болота. Неприветливо и сурово встретила она пришельцев с Запада. Сгорбилось, согнулось, съежилось от холода доблестное войско Фюрера, обмоталось грязным тряпьём с ног до головы (ноги и руки). Холод не щадил никого (и нас хватал за бока). Мы тоже жались (тряслись) и коченели (на морозе/на снегу). Только у немцев самый последний вшивый солдат всю зиму жил (ночевал) в натопленной избе (хате), а мы лежали на ветру, на снегу. Сила духа (у нас) и закалка у кого была сильней? Наша победа давалась нам невероятной (усилиями) ценой усилий (жизни и крови). Немцам до зимы сорок первого года все давалось легко. Война для них была приятным занятием. Немцев жареный петух клюнул зимой (не клевал, а тут клюнул). У кого дух сильней, тот и выдержал! Вслед за подводой шагает фельдфебель, сзади него, выбиваясь из сил, плетутся солдаты. За спиной у фельдфебеля ни один солдат не смеет пикнуть, что у него нет больше сил, что он окоченел на ветру и не может идти (и по колено в снегу). Для них примером служит сам фельдфебель. Он не сидит в повозке, укрывшись брезентом от ветра и снега. Он идёт по дороге твердым шагом у всех на виду (и размашистым шагом впереди). В присутствии фельдфебеля ни один солдат не посмеет пожаловаться на свою судьбу. (Эти канальи) они боятся роптать и быть недовольными. Кто не здоров или ослаб, (он того не держит) тому место в пехоте. Повадки фельдфебеля солдаты усвоили. У господина фельдфебеля отвратительная манера. Услышав гнусный ропот, и невнятное бормотание, (если он в хорошем настроении, спишет тебя на передовую) он ни о чём не спрашивает, двумя пальцами молча отстёгивает крышку кобуры, волосатой лапой достаёт пистолет и, презрительно сплюнув, стреляет, не целясь в живот. Пусть часа два похрипит, пока испустит дух. Смерть от пули в живот самая тяжёлая и мучительная. Говорят, что на счет недовольных, неустойчивых элементов, потенциальных дезертиров есть особый секретный приказ ставки Гитлера. Снежная пыль летит по дороге. Лица солдат осунулись и побелели (от инея). Дорога под ногами как живая. Белые полосы снега шуршат и дышат и летучей дымкой куда-то уходят из-под ног. Резкий колючий ветер хлещет в лицо. Нестерпимой болью ноют колени. Поперек дороги дымят высокие сугробы. Ноги приходиться вскидывать (выше сугробов вверх) коленями к груди. Снежная пыль застилает глаза. Впереди ничего не видно. Ветер налетает с такой силой, что трудно дышать. Очередной порыв ветра налетает сзади, закидывает на спину полы шинелям. Солдаты давно выбились из сил, а пройдено всего ничего, они не прошли половины. Ноздри забиты снегом. Из носа все время сырость течет. Рот открыть нельзя. Слова нельзя сказать. Дыхнёшь через рот, не успеешь дух перевести, а напор холодного воздуха уже достал до желудка. Да и какой смысл на таком ветру говорить о чем-то вслух. Зачем знать рядом идущему твои мысли и помыслы (слабость души). Снег забирается в рукава, проникает вовнутрь, хватает за ребра.

(Солдаты вобрали в себя шеи, пригнулись к земле). Лютая стужа не щадит никого. Не только короткими сапогами наградил своих солдат бесноватый Фюрер, солдатская шинелишка из зелёной хольцволе /шерсть из древесных опилок продувается насквозь. Ветер, снег и мороз слились в одно ревущее чудо. Неудержимая дрожь пробегает по телу. Прошло то время, когда в начале зимы многие сотни и тысячи, получив обморожение, отправлялись в Германию. Теперь это считалось как членовредительство. Господин Фельдфебель (на ходу совсем) идет и совершенно не горбится. Он идет за повозкой, месит ногами снег под собой (широким размашистым шагом). Посмотреть на него со спины (стороны), это плотная и сильная фигура. У него непреклонная воля. Он не может спокойно смотреть, когда перед ним появляются слюнтяи и нытики. Майор Зайдель приказал ему утром быть в деревне Никольское (с обозом) и он не имеет права опоздать туда хотя бы на час. Он имеет приказ забрать в деревне (весь) скот, пополниться фуражом и не останавливаясь следовать с обозом и скотом на Старицу. Солдаты устали, выбились из сил, растянулись по дороге. Фельдфебель резко останавливается, делает поворот головы, смотрит назад, солдаты мгновенно улавливают его недовольство (желание). Он сверлит их взглядом, стиснув зубы. Солдаты, не дожидаясь его окрика, срываются с места и бегут, догоняя его. Он не кричит и не машет руками. Он сверлит каждого колючим презрительным взглядом. Рука лежит на кобуре. Попробуй не рванись (вперед)! И они, как подхлестнутые бросаются вперед (вслед за ним по дороге). Он с первого дня их приучил к этому взгляду. Но вот Фельдфебель недовольно повел головой. На лице недовольная ухмылка (складка) и сожаление. Ни одного не ухлопал! Вскидывая вверх колени, черпая широкими голенищами снег, солдаты догоняют повозку. Он молча отворачивается. 0н слышит за спиной тяжелое сопение и (облегчение) глубокие вздохи солдат. Он призирает их. Лучшие солдаты Фюрера умирают за Великую Германию. А эти недоноски и свиньи несут службу в тылу. Намотали себе на ухи (на себя) грязные тряпки. На солдат не похожи. На эту нечисть противно глядеть. Среди этого сброда ни одной достойной личности. Попади обоз в засаду или наткнись на русских, разбегутся, как зайцы, эти вшивые вояки. За. Ними смотри, да следи! Они и в плен готовы переметнуться. Что делает там тощий ефрейтор, которого он фельдфебель поставил сзади к приказал подгонять солдат. Приглядеться к нему, так он тоже сгорбился и плетётся в хвосте, как шелудивая собака, Зачем таким уродам присваивают звания, почему их держат в тыловых частях. Всё не так. Всё не нравиться господину фельдфебелю. Настроение отвратительное. Ноет душа. На дороге должно что-то случиться.

Вот почему он шагает вразмашку и со злостью и поддает комья снега сапогом. Впереди на козлах покачивается широкая спада ездового. Вот он откидывается назад, запрокидывает свой длинный хлыст и кончик хлыста пролетает у фельдфебеля у самого носа. Фельдфебель вздрагивает, останавливается и недовольно рычит. Ездовой оборачивается, смотрит на господина фельдфебеля и пытается угадать, чем собственно недоволен его господин. Ездовой улыбается. В оттопыренные щелки рта видны его редкие прокуренные зубы. Исхлестанные ветром лица солдат стали землистого цвета. От тугой боли в глазах и безысходности у солдат выступают слёзы. Они скатываются и тут же замерзают на щеках. Ветер выхватывает из-под ног потоки сыпучего снега. Один раз хлебнув русской зимы, если они останутся живы на всю жизнь запомнят страшную Россию. Солдаты идут подгоняемые ветром. Через некоторое время холод и адские муки пройдут, появиться чувство пустоты и безразличия. Да-да! Это неизбежно придет. Не важно, что ветер и снег летят с новой силой. Важно улучить момент присесть куда-нибудь за сугроб (на корточки), закрыть глаза и не о чём не думать. На тяжелые пеки навалиться сон, как благодать, как избавление. В сугробе забудешь Фатерлянд (Отечество) и родных, окружающий мир больше для тебя не существует. Солдат будет брыкаться, если его снова поставить на ноги. (Его вынули из сугроба, отругали, выпихнули на дорогу, на ветер, на снег. Ноги у него не гнутся, идти он не может). Те, кто успел заснуть в снежных просторах России ушли из жизни без мук и без сожаления. Ни страха, ни горечи при этом человек не испытывает (не перенесли). Засыпали многие и наши и немцы. 3имa не щадила ни тех, ни других. (У тех, кто погибал от пули или осколков, смерть на холодный чудный сон не была похожа). Фельдфебель Пфайфер был закалённый валка. Он побывал во многих Местах. Но такой адской зимы и проклятой дороги он никогда (нигде не пережил) на себе не испытал. Его резал ветер и снег, ему было тоже не вмоготу, но он терпел и не подавал виду. Как случилось так, что немецкая армия в России зимой оказалась раздетой. Он видел русских пленных, на них грубые и тяжелые шинели надеты поверх ватников и ватных штанов. На каждом солдате зимняя шапка и байковые рукавицы. (Они лежали сутками неподвижно в снегу). Пленных запирали в сарай, занесенный снегом, сутками не кормили и они там сидели, как в натопленной избе. Что это за народ? Немцы такого не смогли выдержать. У солдат фюрера под каской летние пилотки. Уши примерзали к стальным ободам.

Немецких солдат отправляли на фронт в полной экипировке (с пополнением совершенно раздетыми). Сапоги им мерили на один носок по подъёму ноги. Каски примеряли по округлости черепа, чтобы они летом не болтались на голове. Набивать тряпьё под каски было некуда. На русскую зиму никто не рассчитывал. Пока фельдфебель думал о касках и сапогах (прикидывал сапоги и каски) от обоза отстали двое солдат. Солдат хватились поздно. У фельдфебеля глаза полезли на лоб, когда ему доложили. Он хотел что-то сказать и затряс головой. Замыкающим шел шелудивый ефрейтор (Нойберт). Он по своим обязанностям должен был следить и подгонять солдат. Ефрейтор не выполнил свой долг. Он пойдёт под суд, как только они прибудут в Старицу. Младшего по чину фельдфебель Пфайфер не имел права проеду (так просто) расстрелять как солдата. Фельдфебель Пфайфер с удовольствием приведёт приговор в исполнение. С великим чувством и достоинством он пустит ему первую пулю, не целясь, в живот. Это его долг перед нацией, Фатерляндом и Фюрером. Это он умеет. С этими вояками по Европе еще можно было идти,a для войны в России они не годились. Дyхoм слабы. Здесь нужны железные нервы и истинный Германский неистовый дух. А таких, как он фельдфебель, остались единицы. Обоз медленно подвигается по дороге. Лошади надсадно храпят. Ветер рвет из-под ног сыпучий снег. Зачем они здесь, зачем сунулись в эту Россию. Сидели бы дома в своих пивных, пили пиво, играли в карты, читали газеты. Бросит кельнер на стол картонные кружочки, подвигает их пальцем, наведет симметрию, не успеешь закурить (сигарету), а потные бокалы с пивом уже стоят перед тобой. Здесь на летучей снежной дороге о жизни странно подумать. К горлу подкатывается твёрдый ком. Хочется кричать, вопить, что нет больше сил. Хочется одно – сесть куда-нибудь в снег и заснуть (просто жить). Грязные тряпки, как холодный удав, намотаны вокруг шеи. Канун Рождества, а немецкая армия драпает на Запад. Зло подёргивая застывшей от ветра щекой, фельдфебель поглядывает на дорогу. Справа и слева пылит белое поле. Жалкое и печальное зрелище видит он. Замотанная тряпьём цивилизация плетётся как шелудивая (полуголодная) стая шелудивых собак. Скорей бы добраться до деревни Николаевское, теплого жилья, позабыть про дорогу и (мороз).
– Матка давай млеко! Матка давай яйки! Матка давай курка!" У немецкого солдата полный и необходимый запас русских слов:
– «Матка. Давай – давай. Яйка. Курка. Млеко. Шпикк. Цап-царап!» Обоз спустился в лощину. Дорога круто повернула на бугор. Сюда ветер и снег не долетают. Снег несется и пылит где-то там (выше) за бугром.

Но, вот зафыркали лошади и люди, заторопились, вперёд. До солдат долетел запах жилья и гари. Через некоторое время показались крыши домов. Ездовые заёрзали на (передках) передних сиденьях. Они замахали руками, показывая в направлении деревни. Солдаты подняли головы, разогнули спины. Они жадно смотрели вперед, обшаривая глазами снежное пространство. Они уже не чувствовали летучего холода, они забыли (обо всем) о нем. И каково их было удивление и глубокое разочарование (несбывшихся ожиданий и надежд) когда обоз вошел в деревню и, не останавливаясь, проследовал дальше в Никольское. Вот собственно и весь рассказ, который в своих показаниях изложил нам пленный немец. Ещё одно обстоятельство нужно бы уточнить. Когда я спросил пленного куда девался второй немец, он пожал плечами и ничего не ответил (мог сказать). Отстали от обоза они вместе, а куда тот ушел? Я остался на дороге – добавил он. Вот собственно и все. Через двое суток нас сменила, подошедшая по дороге, стрелковая рота. Мм забрали пленного и отправились в батальон (искать штаб полка). Я думал меня похвалят за пленного, но в батальоне опять (в штабе полка с Максимовым) вышел неприятный разговор.
– Мне надоело всё время быть перед вами виноватым и оправдываться! – сказал я.
– То это не так, то кому-то не угодил!
– Ладно! Иди, получай пополнение! – (сказали мне).
Я разыскал в тылах полка маршевую роту. прибывшую накануне. В роту мне дали еще полсотни солдат. Так что. громкое название стрелковая рота, состоящая из полсотни и шести обстреляных солдат, вполне реальная боевая единица в наших условиях на фронте. Через неделю я получил еще десяток и стал ударной силой полка.
* * *
Текст главы набирал SSS Сергей@mail.ru
??.0?.1983 (правка)
Декабрь 1941

В этот раз нам поставили задачу подойти к деревне ночью, используя темноту. Пойти с солдатами в атаку ночью дело непростое. В темноте не видно кто где идет, а кто уткнувшись лежит в снегу. Пойди их поищи (в темноте. Попробуй их найди и подними). Я могу остаться с горсткой солдат перед деревней. Что за народ? Они лучше будут лежать под ураганным огнем, чем рывком побегут на деревню. Вот солдатская психология. А может просто страх? (У страха глаза велики). Успех ночной атаки в быстроте. Бросок всей ротой на деревню (можно взять и без потерь). Главное добежать до первых домов. А там дело пойдет (не выдержат, побегут). Но разве солдата убедишь словами? В роту накануне дали новое пополнение (новичков). Все они немолодые. Знают чем занимаются солдаты на войне. Люди все разные. Что у них на уме? (Как они пойдут в ночную атаку?) У меня сотни вопросов и ни одного ответа. Мне бы нужно было отработать с ними ночную атаку, расставить их по местам и погонять их много раз где-нибудь в тылу. Но разве мне разрешат снять роту с обороны, в которой мы лежим в поле на снегу. Накануне был сильный снегопад. Но уже два дня стоит тихая погода. Во время снегопада немцы вели себя неспокойно, усилили свои посты, постоянно стреляли и беспрерывно светили передний край ракетами. Теперь, когда снег с неба падать перестал, когда под взлет осветительной ракеты кругом можно было видеть большое пространство, немцы несколько успокоились и прекратили стрельбу. Перед выходом ночью с опушки леса, я решил раздать солдатам чистые маскхалаты. Немцы привыкли видеть наших солдат на опушке леса в серых шинелях. До самого последнего момента я держал маскхалаты в ротной повозке и не разрешал старшине их выдавать (их солдатам). Пусть немцы привыкнут к серому цвету наших шинелей. Старшина удивлялся, почему я держу их в повозке и никому не даю. Белые маскхалаты это неожиданность для немцев. Появление солдат в халатах застанет немцев врасплох. У них в памяти серые шинели, а перед ними появятся русские в совершенно новом виде. Немцы могут подумать, что к нам подошли свежие резервы. Когда стихла пулеметная стрельба, до нас из деревни долетел негромкий говор немецких часовых. 0 чем они говорили с большого расстояния разберешь. (Поговорить они были любители. Часовые день и ночь болтали вроде как одно и тоже). А вообще немцы были любители поговорить. Они рты закрывали только во время сна и еды. Среди ночи солдаты одели маскхалаты, и рота стала медленно подвигаться вперед. Я решил мелкими группами сосредоточиться в небольшой лощине. Солдат поочередно выводили туда. Из лощины можно будет рывком податься вперед, добежать до огородов и ворваться в деревню. Сначала все шло хорошо. В лощину перебрались без звука. До деревни см н/о

Мурашки ползут по спине. Дыхание сперло. Я продолжаю идти. Каждый шаг считаю последним. Еще шаг и смерть впереди. Почему я должен идти впереди своих солдат и быть им примером, проверять на себе будет немец стрелять или нет. Почему я должен подставлять себя под пули первым? Почему они тащатся за моей спиной? До деревни десяток шагов. В висках тупыми ударами пульс отбивает последние секунды. Сейчас могут грянуть выстрелы, и все кончится. Я подхожу к сараю и исчезаю в темноте раскрытых ворот. Слышу за моей спиной кто-то дышит. В сарае пусто. Внутри снежные сугробы. Сверху с дырявой крыши, из-под снега свисают пряди прелой соломы. Солдаты роты ручейком вливаются в открытые ворота сарая. Солдаты несколько оживились, но стоят настороженно и ловят ухом звуки (слушают). Они рады, что без выстрела забрались вовнутрь. Стоят сбившись кучей и смотрят на меня, что я буду делать дальше. Опять все с начала! Пока я не выйду из сарая, они от сюда не сделают шага вперед. Как будто мне одному нужна эта вшивая деревня. Сержанты жмутся позади солдат. На фронте они тихие и робкие, не то что в тылу. В тылу они глотку дерут на солдат и гнут их в дугу. А тут перед немцем куда девалась их прыть. А что я сейчас один могу сделать с целой ротой. Ну подождите, возьмем деревню, я вас погоняю, поторчите вы у меня в снегу. Старички, те знают, что стоит солдатская жизнь. Я в роте самый молодой. Кричать и выпихивать их сейчас из сарая бесполезно (нельзя). Избы, где находятся немцы от сарая близко. Я рукой показываю куда бежать, а они пятятся назад и тупо смотрят в землю. Но есть среди них такие, которые пошустрей. Человек пять не больше. Они выглядывают из ворот сарая, но боятся сделать первый шаг. Что делать? Не вытаскивать каждого за рукав, подавая коленкой под зад, не вытряхивать их за шиворот наружу. Они стоят и выходить из сарая боятся. Потом взахлеб рассказывать будут, как они рывком ворвались в деревню. Я делаю два шага к стоящей толпе, они отступают на два шага назад в глубь сарая.
– Ну вояки! Мать вашу так! – выпаливаю я в полголоса. Я знаком руки подзываю к себе пятерых солдат и показываю им на ближайшие два дома.
– Я и вы возьмем эти два дома. Остальные пусть бегут дальше в деревню! Пять солдат в знак согласия кивают мне головой. Я оглядываюсь на остальных, матерюсь себе под нос и грожу в их сторону кулаком, поворачиваюсь и с пятерыми быстро выхожу из сарая.

Мы обходим боковой стеной первую избу, и немцы сразу обнаруживают нас, начинают галдеть и открывают стрельбу. Под огонь попадают солдаты, те кто выскочил из сарая последними. Мы стоим за стеной, нас немцы не видят. Теперь когда немец открыл стрельбу, и я могу подать команды во весь голос криком. Я кричу:
– Давай! Быстрей к домам! Давай вперед! В огородах вас всех перебьют. Броском вперед! Я вас пулеметом прикрою!
– Дай огонька вдоль улицы! Бей короткими очередями! – говорю я солдату. Он высовывается из-за угла, смотрит вдоль улицы, ставит пулемет, ложится на снег и ведет огонь короткими очередями. Накануне наступления роты мне прислали ручной пулемет. Полковые при этом сказали:
– Мы усиливаем тебя огневыми средствами! Деревня на этот раз во что бы то ни стало должна быть взята! Я хмыкнул под нос и ответил:
– Один пулемет на роту, и вы это выдаете за огневые средства? Тут двух батарей пушек мало! Сколько стрелковых рот уже легло под Чухино? Под деревней лежат сотни трупов. А вы хотите, чтобы я с одним пулеметом пошел и взял? Не жирно ли будет?
– Не одним пулеметом! У тебя полсотни солдат! Полсотни солдат, как полсотни патрон. Выстрелил, и их не стало! Я подался к углу, посмотрел вдоль деревни, немцы по всем признакам тронулись с места. Белые халаты подобрались еще к двум избам. Я подаю команду, и солдаты вываливают на улицу. Немцы увидели нас и заорали. Это тот самый момент, когда отчаянный вопль сеет панику. Давно мы этого ждали.

Немецкие пулемёты умолкли, (наши выстрелы) слышна только трескотня из винтовок (затрещали). Рота разбежалась и потекла между домов (и сараев). Один прыткий ненец с перепуга налетел на нашего солдата, сбил его с ног головой и ошалело завертелся на месте. Когда немец оправился от удара, он оказался под дулом винтовки другого (подскочившего солдата). Вытаращив глаза, немец не поднял даже руки вверх. Солдат взял его за рукав и потянул в сторону. Немец был без каски, с растрёпанными волосами. Несмотря на винтовочную стрельбу, убитых немцев в деревне не оказалось. Солдат, стоявший около немца оглянулся, немец юркнул и куда-то исчез (из вида). Потом солдат рассказывал;
– Я думал, что никакого немца и не было! Мне это с перепугу показалось! Я первый раз на фронте! А когда к нему подошел тот другой, сбитый с ног (на дорогу) то стало ясно, что немца (языка) все-таки упустили. Серая дымка на небе стала светлеть. Я не рассчитывал, что так легко быстро всё кончиться. Я боялся больших, потерь. Немцы, думал я, не отдадут просто так нам деревню. В роте было с десяток убитых и раненных. Стрельба прекратилась. Последние бегущие немцы скрылись в кустах. По дороге из леса на обозной кляче, запряженной в деревенские сани (розвальни) приехал ротный старшина. Солдаты разбрелись по домам в поисках пищи (оставленных трофей и съестного). Через некоторое время они появились на улице. У каждого за пазухой торчало кой-какое немецкое барахло. Здесь в деревне, в избах на столах, на полу и на лавках немцы оставили (кое-что впопыхах) хлеб, консервы несколько бутылок шнапса. Буханки хлеба на горбушке (с верху) с боку имели четырёхзначные цифры – 1938, 1939, 1940. Солдаты решили что хлеб трёхгодичной выпечки. «Ты смотри! Трёхгодичный запас хлеба!» Резался хлеб легко. На зуб был не чёрствый. Банки консервные были собраны со всей Европы. Тут же пачки сигарет и брошенные немецкие одеяла. В одной избе, она была штабная, на столе стояла пишущая машинка, на полу валялись какие-то бумаги. На широкой лавке вдоль стены стояли два пластмассовых телефонных аппарата. К ним из окон тянулся целый ворох проводов. Здесь же нашли кучу стеариновых светильников, в виде круглой коробочки и торчащего по середине картонного фитилька. (У немцев на войне было все, вплоть до самой последней мелочи. Вот какое количество всякого барахла таскали с собой немцы). На полу около стола валялся солдатский ранец. Крышка на ранце из жесткого оленьего меха. Здесь же под лавкой стояли до блеска начищенные сапоги. Подъем у этих сапог для нашей русской

лапы (ноги) был маловат. Многие прицеливались, но одевать не решились. На вбитом в стену гвозде висел автомат с запасными рожками, набитыми патронами. И наконец, самое интересное, на что все клюнули, на окне лежала целая кипа немецких журналов с цветными картинками. Пока я ходил по деревне, устанавливал посты и определял участки обороны для каждого взвода, в этой самой избе под дружный хохот солдат и ехидные замечания, шел просмотр обнаженных немецких девиц е цветном изображении. На обложке одного из журналов крупным планом был представлен портрет человека с усиками и холкой на лбу. Когда я вошел в избу, по смотрел на фотографию и прочёл надпись, я сказал солдатам:
– Это и есть их Гитлер. Все сгрудились ещё раз посмотреть на него.
– Ну вот теперь мы знаем какой есть их Гитлер. Солдаты, толкаясь, с любопытством смотрели на немецкого Фюрера в военной форме.
– Смотрите братцы! – воскликнул кто-то.
– А он тоже руку держит под пуговицей, за пиджаком. Хорошо, что политрук роты пропадает где-то в тылах полка и уже месяц не кажет своего носа в роту, подумал я. Если бы он сейчас выхватил из рук солдата о дин из журнальчиков, то имел бы веские доказательства и прямые улики морального разложения командира роты. Мне бы контрреволюции не миновать. Кому-то из солдат на страницах журнала попались обнаженные девицы. Солдаты бросили смотреть на Фюрера и сразу заржали. Размалёванные немки натягивающие чулки на тонкие изящные ножки. Они привлекли к себе всеобщее солдатское внимание. От некоторых солдат уже попахивало спиртным. И они громче всех кричали и ржали.
– У этих не то! – сказал старшина, заглянув журнал.
– У этих, товарищ старшина, ни с заду, ни с переду!
– Видали братцы! У немцев бабы длинные и тощие!
– На самом деле как лахудры! – (подтвердил кто-то).
– Сейчас бы сюда мою Дусю! Она их всех своим задом перекрыла!

– У неё во всей фигуре самое главное заднее место! Я сидел и слушал, как солдаты потешались над немецкими девицами. Молодые солдаты стояли несколько позади и слушали (но тоже навострили уши). (Хотя) Сказать им было нечего. Это дело, как и войну нужно (как следует) понять и почувствовать на практике. Шуточное ли дело! Старики про то и про се начистоту выкладывают. Тут ухо держи востро! (не зевай) Академию пройдёшь! Теорию жизни (пройдешь) узнаешь! Я понимал, что после колоссального напряжения и страха, солдаты расслабились. Теперь у каждого на душе и в глазах светилась солдаты что взяли деревню и остались в живых (что он остался жив). Теперь каждый из солдат мог свободно вдохнуть, посмеяться до слез, прихвастнуть, даже выругаться. Солдаты, (уловив мою мысль на лету) стали на счёт баб, перебивая друг друга, сыпать разными словечками. И если бы не связной, прибежавший из взвода, разговорам не было бы конца (быть бы до самого конца). Я подал команду провести смену на постах, дал указание старшине на счет кормежки и пошел во взвод в сопровождении связного, куда меня срочно вызывали. Когда я подошел к избе, где располагался взвод, старший сержант (командир взвода) доложил мне, что немец, которого они упустили, обнаружился в телятнике.
– Он успел нырнуть в полуоткрытые ворота. забежал в хлев и прикрыл затворки (дверь) за собой. Немец решил отсидеться, а потом незаметно выбраться и убежать. Солдаты услышали слабый шорох в хлеву, решили, что немцы в панике оставили в хлеву свиную (какую) живность. Сунулись туда, а там действительно ценная живность сидела на навозной куче.
Я посмотрел на (приведенного из избы) немца, он был без головного убора. Каску и пилотку он где-то потерял. И велел ст. сержанту дать ему немецкое одеяло. Пусть Фриц укроется с головой, а то отморозит уши. Я предупредил ст. сержанта, чтобы славяне не болтались без дела по деревне.
– Часовые на постах! Свободная смена в избах! Сказав связному солдату (ординарцу), что бы он конвоировал пленного, я направился в штабную избу. Сюда из батальона уже протянули связь, и связисты ковырялись с аппаратом. Потом звонок из батальона. Мне, конечно, сделали втык, почему я раньше через связного не доложил о взятии деревни. Сделали это не грубо, как обычно, а несколько мягче, но с укором. У меня на душе просветлело, Я не ждал от них такого обходительного обращения (или обещания наград). В сорок первом это было не в моде. Я был доволен совсем другим, с небольшими потерями занял деревню. Несколько сот солдат полегло под деревней в снегу. Они наступали раньше нас и понесли большие потери. Справа от нас наступали роты 634 полка, Они с большими потерями сумели ворваться в Гостинево. Фронт обороны немцев под Старицей был прорван соседней дивизией. Вероятно, поэтому немцы нам здесь не оказали жесткого сопротивления. «Допрос пленного» Немец был небольшого роста. Волосы тёмные, всклокоченные, Видно не ариец. (Видно) Не нашел времени разложить их на пробор, как это делали другие. Не успел умыться и (причесать их на пробор) натянуть пилотку на уши, а тут по деревне бесконечная стрельба. Он выскочил ночью в пургу и бежал, не помня себя от страха. А ведь он собирался утром привести себя в порядок. (Еще бы! Ему предстояло отправиться в путь.)

Теперь он сидел на лавке и беспокойно ёрзал (на ней). На вопросы он отвечал торопливо, не обдумывая свои ответы. Чувствовалось, что он попав в плен, никак не мог прийти в себя и освоиться с теперешним своим положением. Фамилию, имя, год и место рождения он выпалил на одном.дыхании. Лет ему было около двадцати. Все шло гладко и хорошо. Но когда я спросил его о семье, немец вдруг заморгал глазами, всхлипнул жалостно и заерзал на месте (и неожиданно заревел). Ревел он естественно и вполне натурально. Плакал он от души. Слёзы. Крупные слёзы катились у него по щекам. Он плакал навзрыд, подвывая себе писклявым голосом. Он хотел что-то сказать, пробормотал несколько непонятных, слов слезы несколько раз всхлипнул и заревел с новой силой (и залился опять слезами). Солдаты мои смотрели и (сначала) пожимали плечами, были удивлены и даже опешили. (Плач продолжался)Теперь они смотрели на него снисходительно и даже улыбались. Взрослый мужик, а плачет, как баба. Они смотрели на него, хмыкали и недоумевали.
– Товарищ лейтенант! Пошто он ревёт? Я подождал пока немец немного успокоиться, сможет сказать хоть пару внятных слов. Тогда его можно будет спросить, почему он собственно плачет. Наши его не пинали, прикладом под ребро не толкали, по дороге сюда вели, не били. У нас вообще не было принято издеваться над пленными. Наши солдаты с пленными обращались, как с людьми. Бывали случаи, когда при конвоировании пленного где-нибудь в тылу из-за телег выбегали повозочные и прочие тыловые и замахивались на немца в сердцах, показывая перед дружками свою прыть и патриотические чувства.
– Давай осади назад и полегче! – отстранял их конвоир стволом винтовки.
– Сходи на передок, возьми себе пленного, а потом налетай! А этот не твой! Видал какой прыткий! Тоже, мне тыловая крыса! Причина почему (заплакал этот) ревел немец, нам была неизвестна. И вот он немного успокоился и смотрит жалостно мне в глаза, просит меня, чтобы его отпустили.
– Куда отпустить? В туалет? – переспрашиваю я.
– Нейн-нейн! (нет-нет) Туда к немцам! Домой! На хаузе.
– У меня отпуск! – и он стал торопливо вытаскивать из нагрудного кармана униформы своё отпускное свидетельство. /Урлауб шайн/
– Вот! – тыкал он в бумажку пальцем.
– Я шесть месяцев на восточном Фронте. Мне полонен отпуск. Я вчера получил документы. Я должен ехать домой! Ферштеен зи? – устало доказывал немец.
– Ферштеен! Ферштеен! – отвечая я. Это нам уже ферштейн! «вмец,
– Чаво он говорит? Товарищ лейтенант. – спрашивают меня солдаты.
– Он просит, чтобы мы ого отпустили. Ему нужно ехать домой!
– У него отпуск. Он должен ехать в Германию. (После отпуска он сам к нам вернется).

Солдаты, услышав причину рёва, схватились за животы и закатились дружным радостным смехом. Смеялись они по настоящему до слёз. У немца слёзы от расстройства, а солдат пробило от смеха слезой.
– Такое дело! Многие ржали до коликов в животе. Немец видно усёк, что я перевел его просьбу солдатам. Он посмотрел на них и снова заревел. У солдат по щекам катились слёзы. Плакали все. (Солдаты) И ржали как лошади.
– Ну и потеха! Вот уморил! Ведь всех, стерва довел до слёз! Немец обвел всех внимательным взглядом, заморгал глазами и опять заревел.
– Товарищ лейтенант! Уберите его отселя! Он всех тут нас замертво на полу уложит!
– Ты смотри, в шатаны не напусти! – вставил другой.
– Ведь надо же случилось!
– Ух, мать твою! Больше не могу!
– Вы его спросите… – и солдат валился на пол навзничь и катался по полу дергаясь.
– А куда он должен ехать? И опять под грохот солдатских глоток, под рёв немца, все кто сидели на лавке покатились на пол.
– Ну и денёк! Хуже не придумаешь! После такого и умереть не страшно!
– Вот спасибо! Вот потешил душу! Дай я его поцелую!
Страсти понемногу улеглись. Я прикрикнул на немца, чтобы он наконец перестал реветь и спросил его!
– Скажите пожалуйста! Когда вы в отпуск должны отправиться?
– Чего вы говорите? Товарищ лейтенант.
– Я спросил его, когда он хочет уехать в отпуск домой.
– А он чего?
– Он говорит, что поедет сегодня. Вы, говорит должны меня отпустить немедленно.
Солдаты, услышав перевод, гаркнули дружно.
– Я не то спросил. – сказал я.
– Я хотел спросить, куда он должен ехать. Немец после моей последней фразы заметно повеселел. А солдаты, то один то другой неожиданно фыркали. Кого-то прорвало. К они зашлись снова (торжествующим) смехом. После уточнения ряда вопросов, наконец, было выяснено. Немец сдал своё оружие, простился с друзьями, выпил с ними по шнапсу.
– Наверно навострился к своей длинной и тощей фрау! – сказал кто-то из солдат.
– Фрау! Фрау! – закивал радостно немец.
– Теперь у тебя Фриц другой отпуск! До самого конца войны!
– Вот счастливый человек – добавил кто-то.
– Вернётся домой после войны! А мы?
Немец охотно рассказал, что их 262 пехотная дивизия отступала сода из-под Калинина, здесь на рубеже Старицы их сапёрный батальон должен был отрыть окопы в полный профиль. В батальоне находился представитель из дивизии, он должен был принять у них готовую работу.

Если гер официр тоже в плену у русских, то он может подтвердить, что мне положен отпуск. Из деревни нас вскоре выперли, приказали преследовать немцев. Мы сдали немца и двинулись вперёд. По какой из дрог отходила немецкая пехота, заранее трудно было сказать. Прифронтовые дороги немцы регулярно чистили и обставляли их веками с пучками соломы. Мы день и ночь шли за отступающими немцами, и при подходе ко Ржеву меня сменила другая рота. Она пошла вперёд, резко забирая вправо, а я со своей должен был идти следом за ней (сопровождать обоз). Из подчинения 31 армии мы вышли. Дивизию передали в 39 армию, которая наступала правее Ржева. От одной деревни к другой мы шли за санями и повозками. Мы проходили деревни совсем не тронутые войной. Однажды рота вместе с обозом встала на ночёвку. Меня вызвал начальник штаба полка, и я взглянул на карту района. Полковые нас догнали по дороге в этой деревне. Рассматривая карту, я обнаружил, что мы вторые сутки обходим с севера стороной (правее) город Ржев. Карты на маршрут следования я не имел. Мне сказали, чтобы я запомнил маршрут движения (следования) мысленно. Отправной точкой для дальнейшего движения был правый берег Волги. К сожалению, характерных ориентиров на берегу Волги не было и среди снежных равнин и бугров местонахождение своё трудно было определить. В этих снежных просторах и при не совсем ясной обстановке, когда точно не знаешь где находятся немцы и ты, не имея на руках карты, местности и (без ясного представления где ты) без знания куда нужно в данный момент идти (находишься), трудно выдержать взятое направление. Рота, которая шла впереди, отошла вместе нас на охрану обоза, а я со своими солдатами вышел вперед. Я шел на авось, по памяти и компасу и старался сохранить чувство времени. На каждой развилке дорог, на каждом крутом повороте я должен был стоять и вспоминать пройденный путь (сколько времени мы прошли данный отрезок пути). Тогда я не думал, что логическая нить пути может случайно или вдруг оборваться. Мы вышли из леса и повернули на дорогу. По ту сторону дороги снежное поле и редкие покрытие инеем кусты. Впереди развилка дорог. Я остановился, солдаты легли в снег. Я послал двух связных в тыл, уточнить по какой из дорог мне следует двигаться (следовать). Через некоторое время они вернулись. Мне было приказано взять правее и двигаться в направлении на станцию Чертолино. Когда рота по заснеженному руслу реки Сишки обошла пару деревень и поднялась на бугор, нас обстреляли немцы на подходе к какой-то деревне Мы залегли по обе стороны дороги и после короткой разведки (наблюдения) я послал двух солдат с донесением в тыл. Я просил, чтобы в роту доставили конную упряжку с 45-ти миллиметровой пушкой.

Упряжка пришла. Пушку выкатили на бугор. (Ударили) Она тявкнула три раза вдоль деревни. Этого было достаточно (чтобы). Немцы разбежались в разные стороны. Мы прошли по деревенской улице, вышли за околицу, и повернув строго на юг, пошли в направлении станции Чертолино. Мне показалось, что в этот момент (немцы разбежались в обе стороны) мы прорвали фронт и уходим к ним в тыл. Кроме нетронутого белого снега впереди ничего не было видно. Мы прошли деревню и оказались в зоне нечищеных зимних дорог. Кругом стояла абсолютная тишина. Вслед за нами ротой по пороге (в тыл к немцам) потянулись и другие подразделения. Обоз застрял где-то при переезде через глубокую лощину на подходе к (той) деревне, где мы стреляли из пушки. К утру, в виду того, что мы трое суток не спали, нас сменили другой стрелковой ротой. Мы переночевали в какой-то деревне и утром, следом за ротами нашего полка двинулись дальше (пошли вперед). 119 стрелковая дивизия уходила в глубокий тыл к немцам. Мы проходили нетронутую войной зону (деревни). Навстречу нам на дорогу выбегали ребятишки. У дверных притолок жались бабы и молодухи. Они посматривал на солдатиков и поправляли наспех накинутые платки (полушубки). В некоторых деревнях знали о войне, но ни разу не видели немцев. А тут опять наши пришли! Жизнь кругом была мирная, без волнений, тихая. Весь путь до Шиздерово мы прошли без выстрела. Мы должны были занять оборону в этом районе, а другие батальоны пошли дальше к городу Белый. Весь путь до Белого нала дивизия прошла не встречая сопротивления немцев. По дорогам нередко встречались мужики. (Одного в розвальнях) Один ехал из леса с дровами, другого тащила крестьянская лошадёнка с сеном, оставленном с осени где-то на поле в стогах. Повсюду с раннего утра дымили печные трубы. Пахло свежеиспечённым хлебом, кислыми щами и запахом самогонки. Всеми забытые и отрезанные от войны и от мира, люди жили здесь своими заботами и беззаботной жизнью. Немцы сюда, в непролазные снега не заглядывали. Бабы (судача, не торопясь) на коромыслах в деревянных ушатах носили из колодцев ледяную воду. Мычала скотина, квахтали куры, повизгивали свиньи, голосили петухи и лаяли собаки. Кто мог подумать или сказать, что у молодых и румяных бабёнок на лице была безысходная тоска. У многих мужья сидели при хозяйстве дома. А те, к которым они осенью не вернулись, обзавелись молодыми примнями, как здесь говорят. Многие солдаты и офицеры кадровой службы, попавшие в окружение, скитались сначала по лесам. Потом, постепенно подвигаясь на восток за немцами, они оседали в отдалённых и лесных деревнях. Некоторые пробирались поближе к родным местам, многие доходили до дома. Вдовушки и молодки выбирали работников и дружков, принимали их в дом. Примни жили, работали и трудились, но хозяевами в доме не были. Хозяйка могла в любой момент отказать работнику в харчах, в постели и постое.

Закон частной собственности здесь действовал вовсю. Я хозяин! А ты мой батрак. Знай своё место! (И живи по моим законам) С наступлением зимы беглые солдаты и окруженцы постарались отделаться от своей военной формы. Теперь они ходили в деревенских поддевках, перевязанных верёвочкой. На ногах у них были надеты онучи и лапти. Одежонку и обувку, кто заработал, а кто сменял на целые кирзовые сапоги. Хозяина сразу было видать. На нем тулуп и новая ватная поддевка (сидели ладно). На ногах крепкие валенки, одежка не истерта и без заплат, ходил он по деревне не спеша в развалочку, держался с достоинством, был уверен, что немцы не тронут его. Он не торопился, не суетился, не перебирал торопливо ножками и не перед кем не пригибался, когда ступал на дорогу с крыльца. А примы и батраки, те сновали по деревне неуверенно и торопливо (туда-сюда), часто с опаской. (хозяин на них смотрел свысока, как на работников). Я смотрел на этих здоровых парней и мужиков и мысленно представлял, что ими можно вполне пополнить наши роты. В тех из них, кто успел отпустить длинные волосы и бороды, все равно угадывались молодые и сильные (не дряблые) лица. У нас в ротах было (древние старики) маловато солдат. Лицо, оно как зеркало человеческой души. Глянешь на него и сразу видишь, что человек в годах или юнец с бородой и длинными волосами. Наши хоть и старые, но прошли войну, через смерть и огонь (на передке каждый из них ценился дороже, чем необстрелянный здоровый мужик или парень. Эти сморщенные слабые видом ротные старички). Наши обросшие и небритые, возможно, были физически слабее, но зато были сильны и крепки духом своим. А эти сильные с виду были трусливы (душой слабы и трусливы). Жизнь человека делает всяким, и таким и другим. Попади в окружение, побегай из деревни в деревню на правах батрака, а за тобой, как за зайцем немецкая полицаев немецкая псарня рыщет. От такой жизни не только твердый дух, а и последние мозги потеряешь. Воевать за Родину, это дано от бога! – говорили мне мои старики. Где струсим. А где два раза возьмём своё. Без страха и без робости нельзя. Отваги не будет. Потом чувствуешь, что виноват, что зря струсил и лезешь напролом. Тогда уж и смерть не страшна. Когда знаешь за собой вину (грех свой нужно искупить). – прешь напропалую. Простой неграмотны солдат не всегда мог словами выразить свое философское кредо. Но у каждого внутри оно было. Все идут, и он идет. Нужно,чтоб нашелся, кто пойдет первым. Сложны понятия на войне (русского солдата). Поступки русского солдата неисповедимы. Сегодня третий день января. Савенков неожиданно появляется в роте. Целый месяц пропадал (в тылах полка), а теперь, как на в чём не бывало явился. Теперь он шагает впереди. Он прикинул, что роту могут (теперь) поставить в деревню (на постой) и он сумеет наладить деловые отношения с местными жителями. За парой стаканов самогонки на столе могут появиться: плошка солёных огурцов, чугун варёной картошки, квашеная капуста, а там глядишь, и сало.

День близился к концу. На ночь рота встанет где-то в деревне. Нужно только дом выбрать побогаче, думал Савенков. С хлебосольной хозяйкой. Солдат поставим на ночь в другом доме отдельно. Мне нужно хозяйство забрать в свои руки, прикинул (Савенков) он, а лейтенант пусть командует караульной службой. Тылы дивизии оказались отрезанными. Когда передовые части прошли через глубокий овраг перед той самой деревней, где три выстрела сделала сорокапятка, тыловики с обозами застряли до ночи. И когда обозники со своими клячами выбрались на бугор, немцы ударили с двух сторон и закрыли брешь перед самым их носом (своим фронтом). Снабжение боевых подразделений нашей и дивизии было прервано. Кормить солдат стало нечем, полковые кухни кипятили воду и солдаты могли гонять только чаи. Через некоторое время местное население обложили натуральным налогом. В котелках появилась, картошка, капуста, заправленная ржаной мукой. Мясо и сало расходилось по (другим) высшим каналам. Мы идём по дороге, горизонт постепенно начинает темнеть. Дорога делает крутой поворот, мы выбираемся на пригорок, впереди в низине показалась деревня. Но команды остановиться роте в этой деревне на ночлег, пока нет. Мы проходим мимо последней избы, провожая её задумчивым взглядом. Я иду молча. Разговаривать с Савенковым мне нет охоты. Я давно отвык от него. Когда он догнал роту и поздоровался со мной, то я вместо ответа на приветствие спросил его:
– На курсах повышения званий был? Я думал, что ты явишься в роту, по крайней мере, капитаном.
– Ты опять про своё? Не забывай, мне поручено присматривать за тобой. Не твоё дело, где и сколько я был.
– Выполнял особое поручение? Мне командир взвода связи говорил, что ты всё это время ошивался у них. Я думал, что тебя перевели в связисты.
– Ходить в атаку дело твоё. На то ты и лейтенант. А мое дело смотреть, не сболтнёшь ли ты чего лишнего. И договоримся на будущее, где я был и сколько отсутствовал, это дело не твоё. Я за твоим моральным состоянием буду следить как надо (должен следить). Собираешься убежать к немцам, я во время (должен) доложу. Рота идёт по дороге дальше, мы упорно молчим. За перелеском снова из-за бугра показались крыши. Я представлял себе, как после лёгкой выпивки и сытного ёдова, он приляжет на деревенскую, скрипучую кровать и приятно забудется. Главное для Савенкова это сама его жизнь. А все остальное для него не существует. Атаки обстрелы, раненые и убитые это дело моё. А он Савенков не должен погибнуть. Обстрелы из орудий он не мог переносить.


При посвисте пуль и вое снарядов у него обривалось что-то внутри. Савенков решил. На ротного нужно написать донесение, чтобы ему не было веры. Если он сунется обвинять его, Савенкова, то ему не поверят. За месяц в роте полностью сменилось четыре состава солдат. Считай, сотни три-четыре (солдат). Тех, что Савенков провожал в Поддубье из-за Волги, в живых не осталось ни одного. Выходит, что и эти через две недели погибнут. Свидетелей вовсе не будет (нет). Перед солдатами ему не стыдно. Они не знают его. А что там говорит лейтенант, так это он из зависти и мести (можно сказать что угодно). В это время сзади послышался зычный голос. – Эй, берегись! Я обернулся и увидел, что на нас летела лошадь и лёгкие (ковром обделанные) саночки. Ездовой и два пассажира, одетые в новые полушубки, на рукавах у них отвороты, мех наружу, катили по дороге во всю прыть (пыля снежной пылью). Солдаты сошли с дороги, встали на обочину (по бедра в снегу, пропуская важное). В саночках сидело начальство нашего полка. Росписные саночки на узких стальных полозьях (кованых железом) пронеслись мимо, повизгивая и шипя (шипя и фыркая мимо). Вот они обдали солдат поднятой снежной пылью и скрылись за поворотом. Здесь на снежных просторах все выпорхнули из своих убежищ, ни выстрела, ни посвиста пуль и покатили впереди полка. Смотрите солдатики, ваш командир полка сам впереди. Но когда мы вышли по дороге на прямую линию, лёгкие саночки вдруг затормозили, и один из ездоков помахал мне рукой. Я подбежал узнать, что случилось. О чём говорило мне полковое начальство Савенков не слышал (слышать не мог). Я покачал головой. Саночки тронулись. И рысью умчались куда-то вперёд. Савенков не спросил, о чем я разговаривал с высшим начальством. Он сделал вид, что ничего особенного мне полковое начальство не могло сказать. Но когда рота подошла к развилке дорог и одна из них повернула в деревню, а другая упёрлась в снежный бугор, Савенков понял, что роту на постой в деревню не пошлют. На бугре стояло пустое школьное здание. Все его мысли о добротой хозяйке, о сытной еде и о тёплой избе сразу рухнули. Савенков понял, что в пустой деревенской школе харчами (и всем другим) не разживешься. Он был расстроен и обозлён. Оставаться с солдатами под одной крыш, значит, кроме черпака мутной баланды, ему лично ничего не перепадёт. На виду у солдат не нальёшь себе двойную порцию, если даже старшина и готов на это пойти. А этот идиот лейтенант может одёрнуть. У него на уме одна справедливость. Сейчас лейтенант почиет старшину в… зa хлёбовом. Савенков со злостью выругался, посмотрел на дощатый пол, где ему в углу на полу на голых досках отвели место для ночлега. Ротный выставил караул, назначил разводящего, проинструктировал солдат на случай тревоги и не дожидаясь пока вернется старшина (ушедшего за едой), лёг (спать) на дощатый пол у стены и заснул. На территории школы никто из мирных жителей не жил. Окна и двери были заколочены. Савенков потоптался на месте, поскрёб ногтями в затылке, посмотрел на щелеватые доски пола и нехотя стал укладываться спать. В классной комнате было холодно, сыро и пыльно. Парт в помещении школы не было. Они когда-то были вынесены и сложены в сарай. Я предупредил своих солдат, чтобы школьные парты и книги для растопки печей не трогали. Запаса дров при школе не оказалось. И первую ночь печку практически нечем было топить. По дорогам войны было пройдено много. (Серая масса) Солдаты устали, они сгрудились кучей и заснули на полу. (Солдаты сразу повалились на пол, пустили запах махорки и, конечно русский дух. Здесь русский дух, здесь Русью пахнет!) В комнате пахло всем, и плесенью, и сыростью и тухлыми солдатскими портянками (и портами) и мокрыми протухлыми валенками. Утром, когда стало светать, я вышел на крыльцо подышать морозным свежим воздухом. К спертому воздуху мы не привыкли. Мы ходили, воевали, умирали и спали на снегу. П1ривычка всё время быть на свежем воздухе (дала себя сразу знать/не позволяла в школе) потянула меня на (воздух) крыльцо. Старшина и двое солдат отправились в сарай, нашли там несколько железных кроватей. Вместо матрасов на кровати положили доски.
– Соломки достанем, будет мягко и удобно лежать (и можно нормально на них спать)! – сказал старшина, затаскивая в небольшую отдельную комнату кровати. Я стоял и думал. Может, завтра опять придётся дальше идти. Зачем возиться с (этими) кроватями. Как будто нельзя обойтись и без них. Старшина и солдаты настояли на своём
– Хоть на одну ночь! Чего вам с нами на полу в общей комнате валяться!
– Ладно! Ставьте кровати! Тащите солому! – сказал я.
Старшина сходил в полковые тылы, взял лошадь – привёз с солдатами дров и воз соломы. Нам застелили кровати и (а остальное разбросали) застлали пол в солдатской комнате (на полу). Рота осталась в школе и на последующий день. Нам поставили задачу патрулировать дорогу на Верховье. Наши штабные стояли где-то в Шайтаровщине. Батальон находился в Жизерово. Роты другого батальона стояли в Журах, Демидках, Струево и на льнозаводе на ораине города, в районе больницы. (А другой на окраине занимал оборону) Город Белый лежал в низине (но был укреплен). В нем оборону занимали немцы (численностью до полка). С первой попытки ворваться в город нашим не удалось. Стрелковые роты полка вышли из-под Чукино сильно потрепанными. Наши стрелковые роты имели не больше двадцати человек солдат. Их расположили по деревням на большом расстоянии друг от друга. С Савенковым мы не разговаривали. Он всё время косился на меня.

Во взгляде его я улавливал раздражение и злобу. Он был недоволен своей кроватью. Почему ему мало положили соломы. Там в деревнях (меж изб и баб) он жил по-другому. И сидеть ему здесь с солдатами было незачем. На следующий день он собрался и отправился в деревню, где стоял батальон. Но там он не сошелся со своими прежними дружками. Через три дня вернулся в роту ещё больше раздраженный и злой. И когда он добрался до своей железной кровати, то тут же завалился на неё и (успокоившись) заснул. С этого дня он стал разговаривать без заносчивости и придирок. Я, видя что он несколько переменился, стал ему отвечать. Через несколько дней пришел приказ оставить в школе шесть человек, а остальных передать в батальон. На участке обороны полка были большие пространства не закрытые стрелковыми ротами. Школа опустела. Шесть солдат оставили для несения караульной службы около школы. Савенков упросил комбата перевести его в деревню где стоял полковой обоз. Место на койке занял мл. лейтенант присланный из дивизии. Он был не наш. Жил он вместе с нами. Заводил разговоры на различные темы (лишь бы поговорить). Без него ни один разговор не обходился.
– Я связист – сказал он мне. Я решил проверить его знания по проводной телефонной связи. В училище у нас был специальный класс проводной телефонной связи, и готовили нас по телефонии на совесть.
– Вот сейчас я проверю тебя на счет телефонной связи! – сказал я. Мл. лейтенант растерялся и даже смутился. Он, вероятно, думал, что я в телефонии ничего не соображаю. У него было жалкое выражение лица, как будто он попался с поличным при совершении карманной кражи. Я посмотрел ему внимательно в глаза, махнул рукой и сказал во всеуслышанье:
– По связи у тебя никаких знаний! Интересно, что ты знаешь твердо и хорошо? Мл. лейтенант к вечеру собрался и ушел из школы. В каждой роте контрразведке желательно было иметь своих осведомителей. Мл. лейтенанту видимо и дали задание склонить к этой работе кого-то из солдат. Отлучаться и бегать солдату с доносами не надо. Написал письмо вроде домой и никому в голову не придёт, что в письме он пишет не (поклон) своим (родным) родителям. Там в дивизии это письмишко вскроют. Но ведь так задаром никто не будет фискалить. Ему за исправную службу через три месяца гарантируют перевод на должность в тыл. За это время он должен был завербовать себе замену. И новый писака во всю старался, если его за это время не увивало в бою. Погиб человек а нём не написано, нет он был у нас в роте. Старшина в тылах полка прослышал, что в роту дадут пополнение. Окруженцев по деревням собирают. Когда окруженцев вольют в стрелковые роты, они будут друг другу рассказывать про себя.

Через два дня во двор школы въехали сани. В санях сидело двое. Один полураздетый со связанными назад руками, другой в полушубке с автоматом в руках. На повороте дороги показались ещё двое саней. Среди прибывших был штабник из нашего полка и тот самый мл. лейтенант, который жил среди нас некоторое время. Мне приказали собрать всех своих солдат и построить перед зданием школы. Мне не сказали, по какому поводу они явились сюда. Я сам до догадался по решительным лицам прибывших. По всему было видно, что привезли осуждённого на расстрел. Рядом с ним, держа автоматы в отвес, стояли рядовые из комендантского взвода дивизии. Когда мои солдаты построились, и всё было готово, приехавший из дивизии незнакомый капитан отстегнул планшет, достал бумажку и приготовился читать. Это был приговор военного трибунала. Связанного вытащили из саней, подтащили к краю оврага и поставили на колени. Он был без шапки, без шинели и без валенок, ноги обмотаны портянками. Большая круглая голова и копна мятых жестких волос были наклонены несколько вперёд. Лица его было не видно. Пока читали приговор, он молчал и, чуть повернув голову, косился назад. В бумаге было сказано, что он был у немцев. Потом сбежал от них. Потом снова вернулся к своим. Ему тогда простили и поверили. Под деревней во время атаки он вдруг исчез. Он был ранен, однако вылез из воронки и повернул в сторону немцев. Рана небольшая, через неделю она затянулась. Где он был это время, он не признался. Теперь его поймали и отдали под суд. На другой день он снова бежал и прятался в лесу. Потом вышел на дорогу, и тут его схватили. Зачитав бумагу, капитан спросил его:

– Признаёшь свою вину? Он ответил что-то невнятное. Он по-русски говорить видно не умел. Кто он был, казах, узбек или татарин. Когда его спросили, почему он бежал. Он сказал, что ему было страшно, и он чего-то боялся. Это и сгубило его. В конце приговора было сказано, что за измену Родине и переход на сторону врага он приговаривается к высшей мере наказания – к расстрелу! Это был показательный суд. Для чего они его здесь устроили, я так и не понял. Торжественная часть была закончена, водворилась гробовая тишина. Сейчас начнется концерт. Сейчас живая душа человека отправится на небеса к всевышнему. Куда она попадет? К Христу за пазуху или к Аллаху в святилище. Из всего сказанного я не мог представить, где всё это происходило. Название деревни не зачитали. Месяц и даты не были указаны. Солдаты мои как-то сгорбились, обмякли, стояли растерянные, потупив взор. Они стояли, не шевелясь, не дыша, уперев глаза в землю перед собой. Только эти приехавшие курили, переглядывались, переговаривались между собой. Капитан тот самый, что читал бумагу, подошел ко мне, наклонил голову на бок и сказал негромко:
– Учтите лейтенант! Кто перебежит к немцам, тому пощады не будет.
– А для чего вы мне это говорите?
– Вам лейтенант полезно на это посмотреть! Душа у меня сжалась. На одно мгновение похолодели руки и ноги.
– Я понял, что после доноса Савенкова мне решили в школе преподать моральный урок.
– Мы специально привезли его сюда, – как сквозь сон услышал я слова капитана.
А что собственно он мог написать про меня. Я давно с ним вообще не разговариваю. Савенков мог изложить только своё собственное мнение. И чем злобней и изворотливей, тем неправдоподобнее оно должно быть. Я воевал все это время, водил солдат на деревни. (Свидетелей и подтвержденных фактов у него нет) А по его донесению обо мне может (в конце концов) сложиться неправильное мнение. Мои мысли были прерваны выстрелами. Солдаты из конвоя стреляли в затылок связанного. Он стоял на коленях и храпел. В смуглой шее чернело пулевое отверстие.
– Даже стрелять не умеют – подумал я (сказал я себе под нос) Но крови вокруг отверстия не было. Стреляли одиночными. От первых трёх выстрелов солдат не упал. Он захрапел, замотал головой. Еще две пули вошли ему в затылок. А он не падал, и стоя на коленях, продолжал храпеть. Капитан из дивизии крикнул:
– Кончайте скорей. Один из охранников подошел к связанному вплотную, пустил длинную очередь из автомата и толкнул его в спину ногой. Он ткнулся головой вперёд и неожиданно разогнулся снова. Тогда охранник повалил его ударом приклада в бок. Кто-то незаметно подошел ко мне со спины сзади и негромко оказал:
– Кто из солдат перебежит к немцам, не уйдёт от кары! Я мгновенно повернулся и увидел глаза мл. лейтенанта.
– А это ты? Я так и знал!
– Что я мог еще сказать ему?
Офицеры дивизии засуетились, забегали, вскочили в сани и трогаясь с места, крикнули в сторону солдат охраны!
– Сбросьте его под обрыв!

Тоненько звякнул подвешенный под дугой жеребца колокольчик, сани резко рванулись, офицеры в них дёрнулись и покатили со школьного двора. Конвойные, торопясь, скинули с обрыва неостывшее тело, попрыгали быстро в сани и поспешили наутек. Так прошел ещё один день войны. Но почему-то мне запомнилась два основных момента, связанных со школьным двором в Верховье. Первый, когда мне сзади на плечо навалилась физиономия мл. лейтенанта, говорившего о возмездии. Лицо его я больше никогда не видел и постепенно забыл, а противный запах из желудка и изо рта запомнил надолго. Я вспоминал потом, как перед отъездом они оттащили к обрыву тело убитого. На холодном снегу остались кровавые полосы, освещенные зимним солнцем. Испачкали кровью и пулями весь снег! Второй момент, который защитился мне (когда). Во дворе этой самой школы, (где когда-то остались кровавые полосы) командир дивизии генерал Березин принимал гвардейское знамя (дивизии). Березин и Шершин дали клятву, встали на коленки в том самом месте около обрыва и целовали край красного знамени первыми. Красный отсвет от знамени был виден на снегу потому, что, как и прошлый раз, светило зимнее солнце. Но вернёмся к прошедшему дню. После всего что случилось, солдаты притихли, сутулясь вернулись в комнату и завалились на солому досыпать (сразу спать). Я тоже лёг на свою кровать. Долго лежал с открытыми глазами, смотрел на оживших тараканов, которые ползали около теплой печи. Зачем (они нам) эти тыловики нам испытанным воякам преподали кровавый урок? Через несколько дней меня вызвали в штаб полка и приказали отправиться в Шайтровщину за получением пополнения. Мне вывели из сарая лохматую неказистую лошадёнку и принесли армейское седло. Уложив на спину лошади седло и подтянув под брюхом подпруги, я вскочил в стремя, перевалил ногу через седло и с места рысью погнал по дороге. Лошадёнка послушно бежала по большаку. Устав, она сама переходила на шаг, шла без понуканий, вертела хвостом и мотала головой. Но стоило мне подать тело вперёд, не натягивая поводья, она не дожидаясь пинка по бокам, сама переходила на мелкую рысь. Это была умная и сообразительная лошадёнка. Через каждые два, три дня я ездил верхом в дивизию и приводил от туда десятка по два, по три новобранцев (солдат). Вот кому нужно было показывать сольный концерт! Люди были одеты в пеструю одежонку. Кто в чём. У некоторых на ногах были старые подшитые валенки, у других обмотки с ботинками, а у большинства онучи и лапти. Прибывших сразу распределяли по ротам. Мобилизация в армию проходила так: Рота человек тридцать обстрелянных солдат ночью незаметно окружала деревню. Вокруг деревни выставлялись посты, так чтобы ни одна живая душа ни дорогой, ни полем не могла уйти (убежала) из деревни. С рассветом в деревню приезжали уполномоченные по мобилизации. Выбирали избу. По середине избы ставили лавку и два еврея парикмахера усаживали по очереди призывников-новобранцев. Когда его остригали наголо, уполномоченный регистрируя в книгу предупреждал!
– Поймаем где стриженного наголо – на месте расстрел без суда!
– Всё ясно? Сбежишь поймают сразу!
– Слушай и запоминай! Ты зачислен в 421 полк, 119 стрелковой дивизии.
– Запомни эти две цифры!
– А документы?
– Какие документы? Документы тебе не нужны! В роте тебя и так будут знать! Ты будешь числиться в ротном списке. У командира роты на руках документов нет, а ты всего солдат (на всего рядовой)!
– Следующий! Подходи!
– В стрелковой роте хлёбово выдают без предъявления документов!

– Видал! Он ещё винтовку не успел получить, а требует документы! – не унимался уполномоченный.
– Тебе что важнее? Винтовка или документ?
– Следующий! Подходи!
– Я тут.
– Чего ты тут? Фамилию говори! Из каждой деревни набирали до десятка парней и мужиков, брали и хозяев. К вечеру или на следующий день их направляли для проверки в дивизию. Когда до меня дошла очередь, я получил отсортированную и проверенную партию солдат. Из числа батраков (мужского населения) в деревнях не все оказались пристроены (в хозяйстве). Были и такие, которые болтались без дела. Некоторым, чтобы прокормиться, приходилось слоняться по деревням, обходить всю округу. А какая работа зимой. Когда наши подошли к Белому, некоторые сразу стали проситься в армию. Это были в основном бездомные бродяги. Они с охотой просились в солдаты. Многие смекнули, что будет мобилизация. Но ждали её по-разному. Одни хлебнув вольного воздуха бросали насиженные места и ночами растворялись в снежных просторах, уходили в другие районы, где наши роты не стояли и где у них проживали дальние родственники. Другие, полагая, что пришли их последние денечки, лихо заламывали шапки и начинали упиваться самогоном. И только голодные, бездомные, продрогшие на дорогах бросали свое батратцкое положение и добровольцами записывались к нам (в армию). Добровольцев самостоятельно направляли в Шайтровщину. Такой бездомный бродяга обычно подавался в ближайшую деревню, где стояла рота. Он нерешительно и пугливо смотрел на часового и осторожно, чтобы не потревожить его, спрашивал где и как записаться в солдаты. Доброволец стоял, переминаясь с ноги на ногу, и терпеливо ждал пока часовой ходил в избу доложить начальству. Не все окруженцы были сыты и тепло одеты. В каждой деревне были лишние руки. С наступлением зимы их стало больше. В некоторых домах жили недовольные и злые старухи, у них за кусок хлеба и за пустую похлёбку не раз наломаешь спину. А солдат стоит на посту. Хорошо быть солдатом. Стой и не чём не думай. А эти деревенские при немцах почувствовали себя хозяйчиками. Внешний вид такого бездомного окруженца был разительный. Линялая в заплатках и лоскутах куцая поддёвка, подпоясанная веревочкой! Кусок самотканой тряпки вокруг шеи. Затасканная, по тёртая шапка на голове. Крашенные сушеной черникой с дубовой корой исподние подштанники вместо штанов и плетеные из лыка лапти и онучи, крест на крест обмотанные веревкой. Сколько тряпья было навьючено на таком человеке. Он нёс на себе все, что у него имелось. Ничего лишнего, лишь то, что нужно ему в дороге. Все у него держалось на завязочках и верёвочках. Обросшие и не бритые, похожие на стариков, согнув руки и воткнув их в рукава, странники на русской земле спешили по зимним дорогам, перегоняя друг друга, стараясь перехватить кусок лишнего хлеба из-под носа у другого.

У каждого из них на шее болтался оловянный крестик на льняной сучёной нитке. Нехристей и богохульников на порог не пускали. Им, как ворам не было веры. Они не боятся бога, значить не боятся ничего. А если человек не боится бога, он хуже вора и злодея, хуже лиходея и убивцы. Хозяйки молодые и старые все стали не в меру набожны и жадны. Крестик на шее в ту пору и умение креститься были, как пропуск, как добропорядочный (хороший) знак. Смиренный человек навсяк вызывал сочувствие, сострадание и жалость. Его можно было за корку хлеба заставить целый день работать. Работа, конечно, тяжёлая, но набожный человек не посмеет роптать. Он гнет спину, a хозяин на него рычит. У каждого за спиной висел холщевый мешочек, где помещался жалкий скарб и запас тряпиц и всяких веревочек, кусок черствого хлеба, пригоршня вареной картошки и кружка, чтобы напиться где воды. Матушка Русь, к временам царя Федора вернулась. Переступая с ноги на ногу и постукивая лопатками о хрустящий снег, будущий солдатик уже смелей поглядывал на крыльцо, на нём с минуту на минуту должен был появиться часовой, ушедший доложить в избу начальству, Часовой выходил, пропускал его мимо себя, предлагая зайти для разговора в избу (с начальством), бродяжка теперь у порога не крестился. Он, конечно, нервничал, теребил шапку в руках, здоровался о выходящими из избы солдатами, с поклоном гнул шею, по старой памяти, к чему не привыкнешь, болтаясь как бездомный пес (по дорогам). Но вот его подталкивали в избу. Откашлявшись с мороза и от холода, он спрашивал, не может ли он записаться в солдаты. Постепенно замешательство его проходило, Он слышал свой натуральный голос и начинал рассказывать старшине, где и как попал в окружение. Старшина уточнял кое-что для вида и объявлял ему свое решение!
– Переночуешь здесь в деревне. Разводящий тебе покажет избу! Когда будет кормёжка, вместе с солдатами пойдёшь на кухню! Ночью из деревни не выходить! Переночуешь, а завтра самостоятельно пойдёшь в деревню Шайтровщнну! Знаешь такую? Можешь идти!
– Сычёв! Проводи его на ночлег!
Это были крепкие жилистые парни, мускулистые, голодные, привыкшие к тяжёлой работе (за кусок хлеба). Лапти у них разъезжались на гладкой дороге, они торопливо ими перебирали, держа равновесие телом. И вот они добирались до первой деревни где стояли наши солдаты (штабы) и начинали новую жизнь. Постепенно их вливали в стрелковые роты, выдавали оружие, но у них оставался свой прежний зашарканный внешний вид. Прикрыть их шинелями сразу не могли. Но постепенно они снимали с себя тряпье и лапти, жгли всё это вместе со вшами, разводя костры на снегу. Им выдавали шинели, телогрейки и ватники, валенки, шапки, перчатки и нижнее солдатское белье.

Но по деревням ещё отсиживалось не мало людей призывного возраста, Переход от подневольной жизни примня и постоянных бабских окриков к солдатской службе проходил не у всех одинаково, с охотой и быстро. Новобранца не только нужно было одеть, по ставить в строй, некоторых нужно было с самого начале, учить всей солдатской мудрости. Особенно на счёт страха и паники. «Коли штыком» в нашу программу обучения не входило. Мы сразу учили войне. Многие из них служили кадровую службу (армию). С ними было несколько проще, но испуг первых дней войны нужно было преодолеть в их сознании. Были и такие, которые армии не нюхали. Ничего пообвыкнут, попадут под пули – станут солдатами. За короткий срок роты пополнились рядовым составом. Не хватало только младших командиров и ротных офицеров. Окруженцы все шли рядовыми, не смотря на их прежние звания. Я теперь редко ночевал в расположении роты. Меня всё время посылали то туда, то сюда. Я мотался верхом в седле. Лошадёнка была неказистая, но разумная и привязалась ко мне как собака. Приеду в деревню, в какой-нибудь штаб, закину поводья на луку седла и пущу eё шарить по саням и по сараям сена щипать. Где клок, где охапку выдернет, а сама посматривает и все время следит за мной. Сойду я с крыльца, а она уже здесь. В общем, ходила она за мной по деревне как собачка (не как лошадь, а как дворняжка). Она терпеливо ждала, когда я потреплю её по холке, когда я полезу в карман, достану оттуда кусок сухаря или сахара. После чего мы отправлялись о ней в обратную дорогу домой. Роту перевели в деревню из школы. Роту свою я оставил на старшину и на Савенкова. Савенков был рад, что он один без меня хозяйничал в роте. Старшина ездил по округе, доставал в деревнях кой-какие продуктишки и самогон. Где брал по согласию, где менял на барахло, а где раскалывал (брошенные) тайники и ямы и извлекал оттуда съестное. Помогали ему в этом (местные мужики) бывшие батраки, теперь новобранцы. Война по границы раздела с немцами почти не велась. Немцы не выходили за (свою) черту занимаемого ими района и следили за нами (но зорко следили за нашими, наши тоже не трогали немцев). Стрельбы с обеих сторон совсем не велось. В деревнях в открытую топили печи. Погода долгое время стояла ясная, но немецкая авиация не летала. Потом налетал ветер, небо хмурилось, и неделю подряд бушевала пурга. В один из таких дней, когда в двух метрах ничего не было видно, заблудившийся немец вошел в нашу деревню. Все эти дни из-за непогоды я находился в роте. А может, надобность отпала меня посылать (куда) в штабы. Немец был весь обсыпан белой порошей. Руки глубоко торчали в карманах шинели. Автомат и чехол с запасными рожками болтался за спиной. Немец подошел к крайнему дому, посмотрел вдоль улицы, на улице никого. Он решил войти в крайнюю избу, взялся за ручку, дверь была заперта изнутри.

Снег и ветер хлестал по окнам и стенам изб, (он) немец нуждался в тепле. Он долго блуждал и сильно застыл, выбился из сил и хотел одного лечь, отдохнуть и согреться. Завтра он спросит название деревни и (справится о дороге) доберется к своим. А сейчас поскорей найти живого человека, забраться на теплую лежанку, закрыть глаза и спать. Он прошел несколько домов, увидел в окне слабый свет, постоял у порога, огляделся по сторонам и шагнул на крыльцо. Дверь была полуоткрыта. Немец не предполагал, что в деревне стоят русские. На улице не было ни одного часового. Часовые в деревне были. Они некоторое время ходили на конце деревни вдоль улицы и смотрели за дорогой. Кто пойдет проверять посты в такую погоду (в такую шальную погоду посты проверять, когда глаза снежной порошей лепит). Часовых было двое.Они решили зайти (зашли только) в сенцы, чтобы прикурить. Покуривая, они посматривали в полуоткрытую дверь за улицей, А потом, когда завывание снежной пурги заскребло и завыло ещё сильней, они подались в избу (решили зайти) в избу отогреть озябшие (окоченевшие) ноги и руки. Немец поднялся на заснеженное (укрытое снегом) крыльцо, следов человеческих ног нигде (на нем) не было видно. Из этого дома давно никто не выходил на улицу, решил он и зашел в тёмные сени, прикрыл за собою дверь, она чуть скрипнула. Когда он вошел в избу, его обдало белым паром, и он спросил в непроглядное пространство (не увидел, что за столом сидят двое русских в военной форме).
– Maтка цу хаузе ист? – (спросил он в пространство)
Вьюга за окном продолжала мести и шуршать за стеклом. Часовые, сидевшие (у печи) на корточках на полу моментально (проснулись) вскочили. Они думали, что их окликнули те (двое) что сидели за стоном и играли в карты. По середине комнаты спиной к ним стоял немец (на изготове) с автоматом в руках. А солдаты, игравшие в карты, подняли руки вверх и стали подыматься из-за стола. Немец почувствовал между рёбер твердый ствол русской винтовки. Он нехотя опустил свой автомат, сбросил с плеча ремень и положил его на лавку. У него не было сил бороться и сопротивляться. Он вздохнул теплого воздуха, который стоял в избе, (так) и остался стоять с поднятыми руками. Теперь эти двое, стоявшие за столом с поднятыми руками, увидев перемену ситуации, опустили руки и с облегчением вздохнули. Им показалось, что немца привела часовые. А руки они подняли по ошибке, с испуга. Они рассмеялись, что попали врасплох. Заигрались, мол в карты, не видели. Но смеяться было нечему. Минутой назад немец мог их прострелить из автомата. А теперь, когда они попали вне всякого сомнения в глупейшую ситуацию, они дружно смеялись. Часовые стояли и хлопали глазами, а (они) те за столом радостно заливались смехом, показывали пальцем на немца.

Они были твёрдо уверены» что это часовые привели немца в избу. Один только немец знал, что и как здесь случилось (произошло в избе. Он ясно знал кто, кого и когда брал в пленю Теперь ясно стало одно, он немец). Он немецкий фельдфебель по глупости вляпался в плен (попал/оказался в плен) Я накануне вечером вернулся в деревню. Из школы нас перевели в Большую Кобыльщину. Здесь-то и произошло пленение немца. Когда меня разбудили и доложили о случившемся, я велел старшине немедленно, отправить его в батальон. Штаб батальона стоял в то время в той же деревне, только занимал другое крыло. Спустя некоторое время немца потребовал к себе лично Березин. О чём говорил он с (немцем) ним наедине, кто был переводчиком этой беседы, куда девались протоколы допроса, никто в штабе дивизии не знал. Штабисты меня вызывали несколько раз по телефону и хотели узнать подробности об этом загадочном немце, но я не допрашивал его (и кроме того, что он фельдфебель) и ничего не мог (сказать/ответить на их вопросы) сказать. Я даже фамилии немца не знал. Автомат и обоймы с патронами я (отдал приехавшему генеральскому денщику) сдал в батальон. И вот к утру следующего дня в деревню въехали легкие (шитые ковром) саночки. В сопровождении генеральского адъютанта прибыл в нашу деревню тот самый фельдфебель, которого захватили ночью мы. Почему он вдруг явился сюда? Немцу при мне вернули автомат, (обоймы с патронами,) документы и мелкое барахло, вроде часов, бензиновой (немецкой) зажигалки и фонарика. Может, фотокарточки солдаты оставили у себя? – подумал я. Личный (офицер) адъютант генерала передал мне обоймы с патронами и устно отдал короткое распоряжение. Немца нужно довести лесом до немецких позиций и отпустить. Штабных из полка и батальона в деревню Б.Кобыльщина никого не допустили. Я был (как бы) вроде коменданта пограничной заставы (закрытой полосы).
– Без лишних свидетелей!- объявил мне приехавший адъютант.
– Не теряй времени, лейтенант! Немцу нужно успеть вовремя явиться!
– Ты понял приказ? И никому об этом ни слова! Ни в батальоне, ни в полку ничего не должны знать! Эту операцию проводит лично генерал и ты отвечаешь за неё головой! Я взял с собой четырёх солдат и мы вышли на дорогу. До конца маршрута (рожки от автомата) обоймы с патронами были у меня. Я передам их немцу при подходе к линии немецких позиций. Проводив немца за лес, я вернулся к себе в деревню. Адъютант генерала ждал моего возвращения. С каким личным поручением генерала отправился немец к своим, никто из наших не знал. Ходила устная версия, что немец через неделю вернётся и приведёт с собой целую роту немецких солдат. Прошла неделя, вторая – ни ненца. ни роты не было. (Не сам факт)


Но сам факт отправки пленного немца обратно через линию фронта с генеральским поручением потом сыграл свою зловещую роль. Это случилось потом (в апреле), когда дивизия попала в окружение. А сейчас шел январь, лютый месяц зимы. Через три дня меня снова вызвали в Шайтрощину за получением (в роту) пополнения. Немецкая авиация не летала. Мы жили как в мирное время. Я проводил занятия по стрельбе (и штыковому бою). Я каждый раз брал небольшую группу солдат и выводил ее и низину, за деревню. Солдаты ставили в снег вертикально доски и, целясь, лежа стреляли в них. Пули, конечно, летели мимо цели. Они сваливали непопадание на плохую пристрелку винтовок. Тогда я брал у любого из солдат винтовку, просил повернуть доску ко мне торцом, ложился в снег прицеливался и несколькими выстрелами подряд прошивал её по узкой стороне. Винтовки били отлично. Но дело в том, что при стрельбе в боевой обстановке солдаты не будут целиться, как это делал я. Солдат будет стрелять кой-как и побыстрей. Стреляли обычно с живота. Вот почему на войне прицельные планки и мушки были бесполезны. А чтобы попасть в торцевую часть доски, прорезь и мушку нужно подводить под цель всем телом, двигая задней частью корпуса и ногами. При стрельбе лёжа винтовку доводить под цель руками нельзя. Ложись спокойно. Винтовку держи не напрягаясь. Подтяни ремень. Натяни его локтем. Приложи приклад к плечу и щеке. Вздохни два раза и посмотри, куда смотрит прорезь и мушка. Если в эту точку поставить мишень, то ты можешь делать несколько выстрелов к все пули лягут в десятку. Теперь, не трогая тела, отведи ствол винтовки чуть… рук в сторону и сделай выстрел. Пуля твоя снова попадет снова по цели. Хотя линия прицела была сдвинута немного в сторону. Теперь можно проделать другой опыт. Отведи винтовку чуть в сторону от центра мишени и закрой глаза. Сожми цевьё винтовки руками, сосчитай до десяти и открой глаза. Ты увидишь, что твоя винтовка встала на линию прицела точно в перекрестье мишени, на прежнее место. Хочешь научиться метко стрелять – двигай всем корпусом влево, вправо, вперед и назад. Шевели ногами, двигай заднюю часть корпуса, смещая коленки. Когда мушка и прорезь окажутся точно под целью, закрой для проверки глаза, сосчитай до десяти и посмотри, правильно ли ты прицелился. Если все осталось на месте, делай спокойно выстрел. Спусковой крючок тяни на себя, не торопясь. Все десятки твои! (Учись стрелять братец!) Но учти! (при этом!) Скоро! Хорошо – не бывает. Дня стрельбы нужно иметь терпение, полное спокойствие и выдержку. Хочешь отлично стрелять, пройдешь настоящую (высшую) школу стрельбы, будешь бить немцев только в левый глаз и не иначе. Скажут, из Москвы прислали профессионала снайпера. Солдаты слушали и улыбались.
– Потом в окопах будете целить по другому. Может рассказать вам случай один. Иду я однажды по траншее. Мы только что выбили немцев и заняли её. Подаю команду
– Огонь!
– Так было дело? Антипов!
– Так! Товарищ лейтенант! Как щас помню!
– Смотрю, стоит солдат. Винтовку положил на бруствер. Ствол кверху. Перебирает затвором и стреляет (в небо) и в небо смолит.
– Куда же ты целишься – спрашиваю я.
– Туды. Товарищ лейтенант! И показывает мне рукой в сторону немцев.
– А ствол винтовки куда торчит?
– Как куда?
– Как-как! В небо стреляешь!
– А она, товарищ лейтенант, пуля немца найдёт! У неё траектория кривая.
– Про траекторию ты знаешь! А прицел у винтовки зачем? Ты когда-нибудь прицелом пользовался?
– Приходилось два раза. Нас на сборном пункте в тир водили.
– А что же ты в немцев не целясь стреляешь?
– В немцев, товарищ лейтенант, другое дело! Попробуй высунись! Покажись! Прицелься как в тире! Он тебе из пулемета так резанёт, что мозги потом не соберёшь, каска дырявая будет.
– А ты хоть знаешь, как прицельную планку выставлять? Определять на глаз дистанцию?

– Нет, товарищ лейтенант, мы ей не пользуемся. Зачем она нам на войне? Она нам не к чему! Мы когда нужно трассирующими с живота стреляем! Этот разговор с солдатом мне и после много раз приходил на ум, когда приходилось видеть, как в бою стреляют солдаты. Да и сам я в перепалке стрелял из автомата, не целясь. Дашь трассирующими очередь и смотришь, куда пули пошли. A дай солдатам команду – Огонь! Вскинут они винтовки и откроют беспорядочную стрельбу, не целясь. А если скажешь – Почему стреляете не целясь? (Они всегда могут) Сделают вид, что целятся. Если вот по курам в деревне или по зайцу в лесу, это другое дело. У немецких пулемётов стальные ленты, патроны без закраины, скорострельность приличная. Пока будешь целиться, он врежет тебе и будь здоров (спокоен). Пуля (не только) может продырявить каску, прошить насквозь лопату, которой ты прикрывал нижнюю часть лица, порвать тебе пасть (порвут тебе) и горло. Солдат сам на опыте определяет, что ему выгодно и что бесполезно. Прицел винтовки во время войны совершенно был не нужен. Когда солдат стреляет в тире и видит в мишени дырки, это одно. А стрельба в бою идет впопыхах, на прицеливание нет времени (патроны) не считают). В бою нужно видеть ни мушку и прорезь, а куда пуля вошла (куда она после выстрела воткнулась. Если бьешь из пулемета, ты должен видеть сразу результаты, куда пошли лентой трассирующие) Вообще с прицелами на пулеметах во время войны дали маху. Сколько зря погибло хороших и храбрых солдат (людей). Станковому пулемёту щит совершенно не нужен, он ему как рыбе зонтик, лишняя деталь и все, максиму в бою не доставало дистанционного управления огнём для стрельбы с прямых и закрытых позиций. Если бы во время войны мы имели на Максимах дистанционное управление, то мы бы не дали немцам поднять головы. Я был пулеметчиком, но в настоящий момент из-за отсутствия пулемётов командовал стрелковой ротой (солдатами стрелками). Как-то утром, в один из январских дней меня вызвали в батальон для получения задания. Обычно из батальона прибегал связной. Он явился ко мне и сказал – Вас вызывают к начальству! И ушел к солдатам. Видно у него там были дружки. В батальоне мне объявили, что нужно провести разведку, пройти по лесной дороге, которая уходила в район р.Лучесы и Холмских болот. По дороге проверишь, заходят ли немцы в лесные деревушки, есть ли там население, не стоит ли там партизанский отряд. В лесу на болотах немцы обычно не стояли. Они наезжали туда лишь иногда (и случайно). В полку было несколько пар армейских лыж. Их на всякий случай возили в штабной повозке. Лыжи лежали в санях под брезентом вместе с офицерскими вещами. Так в вещмешках и чемоданах лежали хромовые сапоги, летние фуражки и шинели сшитые по талии. Полковые портные (Абрам и его подручный) трудились в поте лица, что бы не попасть на передовую. Они пороли, (и выворачивали) новые солдатские шинели, (они) не разгибая спины строчили и резали, дымили утюгами. Вначале швейное дело в полку было поставлено слабо, Швы метали вручную, работа подвигалась медленно. Но вот в одной отбитой у немцев деревни мы прихватили швейную ручную машинку и дело пошло веселей. Машинка стучала до ночи. Для работы портных нужно было теплое помещение. Их не обижали. Они были нужные люди в полку. Все штабные были старательно обшиты. Вид у них был по военной моде (приличный и гордый), голос воинственный пропитый и зычный. Шапки они подчеркнуто сдвигали на брови. Рожи у них были нахальные и сытые. В разговоре они резали словами, как шашками. А мы офицеры стрелковых рот имели простые солдатские шинели или полушубки. Мне был показан по карте маршрут и велено было идти в сарай за получением лыж.

Я пошел за писарем в сарай, где стояла штабная повозка. Писарь долго возился под брезентом, пока не выкинул оттуда шесть пар лыж и палки.

– Вот! – сказал он и бросил лыжи на снег около сарая. Выйдя из сарая, он запер двери на висячий замок и не сказав ни слова (ничего) удалился б штабную избу. У него был такой вид, как будто его отозвали от стратегической карты s момент когда решалась судьба целой войны или, по крайней мере, наступательной операции. Я осмотрел каждую пару, подобрал к ним палки. и остался доволен. Крепления у лыж были в полном порядке. Шесть человек я поставлю на лыжи. Это будет моя первая группа. Остальные тоже около шести, пойдут вслед за нами пешком по дороге Если мы в лесу наткнемся на немцев, на лыжах (лыжи нам очень могут пригодиться), (всегда) можно их будет обойти стороной до глубокому снегу. Каждую пару лыж и палки я поставил к стене и сказал часовому, что пришлю старшину, он их заберет попозже. Давно не ходил я на лыжах. Прошел ровно год с тех пор, как нас в училище гоняли на лыжах. Завтра с рассветом предстояло двинуться в лес. В подобную разведку мы шли первых раз. Обычно после наступления на какую-нибудь деревню мы пускались в путь по дорогам, догоняя немцев. Встречали на дорогах засады, несли потери, иногда и сами прихватывали немцев. Всякое бывало на войне. Когда стрелковая рота преследует немцев, делается всё просто: впереди идёт головной дозор, и следом за ним на расстоянии прямой видимости шагают остальные. Никаких боковых дозоров. На войне мы все упрощали. Русский солдат нутром чувствовал, что делать и как. Он шел по дороге, пока не обстреляют. Вот тогда он и решит, соваться вперед или просто отлежаться. И в этот раз я не стал мудрить и разрабатывать план разведки по науке. Четыре солдата встали на лыжи и пошли вперёд. На одних лыжах шел я на других ординарец. Пешая группа в шесть человек двигалась сзади. Лесная дорога, по которой мы шли, была засыпана снегом. (На дороге никаких следов). Идти по такой дороге на лыжах легко. Только пешие отстают. Мы часто останавливались и поджидали заднюю группу, Дорога все время уходила вниз. Заросли леса меняются с просветами. Когда-то здесь за болотом и лесом проходил передний край нашего укрепрайона. Теперь эти бетонные сооружения занимали немцы. Деревья, покрытые пушистым инеем, несколько разошлись, показалась опушка и деревенская изгородь. В деревне проживало несколько семей, но в основном старики, женщины и дети. За деревней, как нам сказали, верстах в двух за болотом проходила дорога, по которой ездили немцы. Старик сказал нам, что немцы заезжали в деревню несколько раз. Потом выпал глубокий снег и с тех пор они не являлись. Я поговорил с дедом о том, о сём, дал солдатам передохнуть. (Солдаты разжились у деда) Дед угостил нас своим самосадом. Табак крепкий, два раза курнёшь и дух перехватывает (переводишь). По возвращенью в Нездорово, я доложил командиру данные о разведке. (Пополненные солдатами роты) Когда стрелковые роты были пополнены солдатами, мой ротный район обороны… взвода теперь стояли на уровне деревень Заболотье, Жиздерово, Б.Кобыльщино и Васильево. В низовые деревин едешь всё время под горку. Сидишь в санях, а лошаденка по дороге мелкой рысью трусит. Как-то вечером, когда я ложился спать, Савенков затеял разговор, что нужно проверить в низовых древних солдат. Никогда он туда не ездил, а тут загорелся нетерпением и успокоиться не может. Пришел старшина и с ним заодно. Поедем – поедем! Надо посмотреть, как там живут наши солдаты.
– Вчера из нашего взвода пришел от туда связкой. Говорит, харчами они там из местных ресурсов богаты.
– Поехали лейтенант! Остановимся где-нибудь в маленькой деревушке. Гнать по дорогам не будем. И в батальоне будут довольны, что не дожидаясь их указаний, проявляешь инициативу – доказывал Савенков. Я согласился. Велел старшине готовить на утро лошадь и сани. Утром я пошел в батальон, сказал, что поеду в дальние взвода с проверкой. Старшина подогнал к крыльцу сани, в них уже сидел Савенков. Ждали только меня. В батальоне не возражали, чтобы я проверил дальние рубежи. – Садитесь, товарищ лейтенант, я вам сенца постелил. Мягко будет ехать.
– Мягко стелешь, да жестко спать (лежать) – ответил я, как-будто, что-то предчувствуя.
– Поедем под горку. Рысью, глядишь, часа через два добежим.
Где-то там, за лесными прогалками находятся небольшие деревеньки. Они расположены в стороне от большаков. Наших солдат таи немного, но устроились они там лучше, чем мы. Живут по избам свободно. На желудке у них сытней и веселей. Лошадь бежала под горку, я сидел и смотрел по сторонам. Места мы проезжали безлюдные занесённые снегом. Я почему-то не думал, что мы можем попасть в засаду к немцам. Часа три катились мы вниз по дороге. И вот между двух перелесков увидел я укрытые снегом крыши.

Повсюду из печных (кирпичных) труб валил сизый дым. Двое часовых, на всю деревню, встретили нас, приветливо улыбаясь.
– Сюда – сюда! – кричали они. Но старшина повернул в другую сторону и подъехал к дому. Савенков спросил старшину:
– Здесь штоль? Видно было, что они между собой о чем-то договорились. Раз с полуслова понимают друг друга. В деревне, где Савенков ни разу не был, у него со старшиной были общие дела.
– А где командир взвода? – спросил я старшину.
– Сначала перекусим, вот здесь у хозяйки, она уже ждёт, а потом и к командиру взвода зайдём. Я пожал плечами. Перекусить не мешает. Мы вошли следом за старшиной в прибранный дом. Хозяйка лет тридцати пяти хлопотала у печи за перегородкой. Мы вышли в сенца, старшина полил нам на руки, что было необычно, мы вымыли руки и он нам подал полотенце. Старшина, покашливая, пригласил нас за стол.
– Это наш лейтенант, командир роты. – представил он меня хозяйке.
– А это прошу любить и жаловать наш комиссар, я вам о нем говорил. Па столе стояла квашеная капуста. заправленная луком и льняным, пахучим маслом, мягкий ржаной хлеб, горячая картошка и несколько кусков сала. Старшина потёр ладони и взглянул на хозяйку, та видно поняла его без лишних слов. На столе появилась бутыль самогона. Наполнили стаканы, хозяйка подсела к столу, мы чокнулись и выпили по первой. Когда налили вторую, а это опять был стакан до краев, вторую я пить отказался. (Хотя четверть самогонки стояла на столе)
– Мне нужно ехать! – сказал я. посматривая на старшину. Старшина быстро согласился. Он перекинул через губу второй стакан, торопливо закусил и добавил. Мы оставим здесь товарища политрука. Завтра я заеду за ним, а мы с вами товарищ лейтенант мигом сейчас весь район обороны объедем. Я взглянул на Савенкова, он продолжал сидеть за столом и лыбился Я хмыкнул, покачал головой и направился к двери на выход. Старшина, одеваясь на ходу, зацепил (опрокинул) рукой еще стакан, схватил горсть квашеной капусты и заправил её пальцем в рот. Капуста торчала у него между губ, как торчит клок сена у лошади во время жвачки, когда она вдруг поднимет голову и смотрит куда-то. Старшина вышел на крыльцо и замахал повозочному рукой, давай мол, сюда к ступенькам. Сани скрипнули, оторвали примёрзшие полозья от снега и подкатили к дому. Мы заехали к командиру взвода, побывали в деревнях, где стояли наши солдаты и к вечеру вернулись домой в Кобыльщину (уточнить по карте).

Прошло около недели, поездку (эту) можно было бы и забыть, но одно неприятное обстоятельство всколыхнуло всё снова. Через неделю меня вызвали в штаб и велели дать объяснение по поводу организованной мной пьянки. Ты оказывается ни с проверкой ездил. Ты морально разложился и спился. Сахар, положенный солдатам, пропиваешь в деревнях.
– Вы что с ума сошли! – с возмущением выкрикнул я.
– Я вообще не пью! Откуда вы это взяли (всё это)?
– Ты лейтенант не крути! В деревне был? Самогонку пил? У нас есть доказательства.
– Какие доказательства? Вы меня на слове не ловите!
– А это что?
– Что?
– Донесение Савенкова. В донесении про пьянку и про сахар прямо сказано.
– Ну и подлец?
– Кто подлец?
– Кто-кто? Савинков! Сам вылакал всю четверть самогонки, сидел в (той) деревне с бабой два дня и на меня всё свалил. Видя моё явное и не напускное возмущение, штабные отпустили меня. Я вернулся в роту. Савенков, как ни в чём не бывало, ходил по деревне.
– Слушай ты! – сказал я ему.
– Как ты мог написать такую гадость?
– Как мог?
– А ты хотел бы, чтобы всё это повесили на меня. Не забывай я всё-таки политработник! А ты кто? Ты просто беспартийный лейтенант. Теперь ты можешь, что хочешь клепать на меня, тебе никто не поверит. Я тебя вовремя скомпрометировал. А если бы они узнали про сахар, что это я, у меня бы партийный билет отобрали. А тебе что? Тебе ничего! Тебя же видели солдаты, когда ты вместе со мной к этой бабе заходил.
– А когда я уехал, не видели! Так что свидетелей, что я там на два дня обитался нет!
– Ну и подлец же ты! На тебе Савенков пробы ставить негде!
Откуда только такие твари берутся. На этом наш разговор прекратился. Я потел спать. Лег на соломенный матрас, долго ворочался, перебирал в уме всю эту историю. На следующий день меня снова вызвали в штаб, и я получил приказ. Рота снимается и направляется в город Белый на смену другому батальону. Утром я построил людей. Старшина проверил наличие солдат, оружия и вещей, всё оказалось на месте. Я подал команду, и рота тронулась по дороге. Мы должны были самостоятельно добраться до деревни Журы, а там нас через Демидки и Струево выведут на передний край обороны к Льнозаводу.
* * *

Город Белый (Калининской области) сам по себе небольшой, но довольно древний. Впервые летопись о нём упоминает в 1359 году. Сейчас трудно сказать, когда здесь впервые появились люди. В те далёкие времена люди селились в основном по берегам рек. Вода была первой необходимостью в жизни людей и транспортной артерией. По рекам Обше, Меже, Западной Двине город имел торговые связи с Западом. Но как повествует летопись, первыми поселенцами здесь были славянские племена. Эти земли принадлежали Киевской Руси. Основным богатством края, как о том сообщает летопись и хроника, являлся лён и белая крупчатая мука. На окраине города стоял льнозавод и мельница. На льнозаводе обрабатывали лён, а на мельнице крутили жернова, мололи зерно и вальцевали муку. Льнозавод во время войны был разрушен. \Повсюду из-под снега торчали ржавые детали трепальных машин. На кирпичном фундаменте покоились каменные опорные столбы, по размерам пролётов и остаткам битого кирпича можно было определить, что собой представлял льнозавод в то время. Это было небольшое строение сарайного типа.\ Мельницу в мае 1942 года немцы сожгли. До этого времени мельница была цела, но не работала. Наши солдаты, державшие здесь оборону, сметали веником с жерновов, лотков и закромов остатки той самой белой крупчатой муки, которая в двух мешках, перевязанных золотой канителью изображена на гербе города Белого.
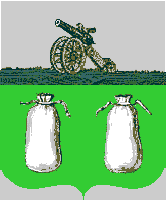
Герб города Белого представлен в виде щита. В верхней части щита изображён герб смоленский. В нижней части изображены два белых мешка с крупчатой мукой. Мешки перевязаны золотыми шнурами, в зелёном, дающие собою знать, что при сей знатной пристани оным продуктом производится великий торг. Мельница времён войны была трёхэтажной и деревянной. Она стояла на берегу реки Обши в том месте, где сейчас валяются белые, как старые кости, круглые жернова. Рядом с мельницей стояли два небольших деревянных домика и деревья. Не было только плотины. \Она была взорвана при отходе наших войск.\ Земля кругом города Белого глинистая и липкая. В распутицу весной или осенью здесь стоит непролазная грязь. поставишь ногу перед собой на дорогу и обратно сапога не вытянешь. подмётки к Бельской земле липнут, как смазанные клеем. В распутицу здесь ни проехать, ни пройти. Перевозка грузов летом по суше требовала наличия хороших мощёных дорог. А их на Бельской земле до наших дней, считай, не было. С одной стороны город окружают непроходимые заболоченные Нелидовские леса, с другой, в сторону Духовщины, – знаменитые Батуринские болота. Взгляните на карту. К северу от дороги Белый – Духовщина простираются бесконечные топи и болота. По теперешним понятиям большак – вполне приличная, мощёная булыжником дорога. А тогда, во время войны, не по всем дорогам можно было и проехать. Зимой, года на дорогах устанавливался санный путь, по большакам ходили гружёные обозы. А летом и в распутицу на недогруженной телеге по такому большаку не проедешь. Большаки на картах в то время были отмечены как улучшенные грунтовые дороги. Местами они были мощёные, местами с непролазной грязью и ямами, кое-где на них стояли мосты, а кое-где их вовсе не было. Четыре дороги выходили из города Белого. Первая дорога, самая ходовая шла на Пречистое и Духовщину. Особенно тяжёлой была дорога на Нелидово. Большак Нелидово-Белый был в плохом состоянии и сильно разбит. Железная дорога обошла город далеко стороной. И город оставался долгое время отрезанным из-за плохой и разбитой дороги. По большаку на Нелидово ездили по настилам из брёвен и гатям. В распутье и непогоду повозки здесь тарахтели по плавающим и крутящимся брёвнам… коричневая жижа и болотная вода выступали между брёвен, когда на них наступала нога пешехода. После войны дорогу начали строить заново. Теперь она имеет внушительный вид. Теперь она везде покрыта асфальтом, где нужно построены бетонные мосты. Третья дорога из города Белого, забираясь на холмы, шла на Пушкари, Егорье, Верховье и дальше на Оленино. Она шла параллельно и вдоль реки Обши. И последняя, четвёртая, ничем не похожая ни на дорогу, ни на большак шла мимо льнозавода и д. Демидки на Шайтровщину и Кобыльщино. когда я говорю о городе Белом, я имею в виду его старую часть. Ту самую, которая расположена на низком левом берегу реки Обши. Город Белый стоит как бы в низине. Вокруг него со всех сторон бугры, холмы и высоты. Перед городом в Обшу впадает река Нача. Сама Обша берёт начало на водоразделе \с отметкой 228\, оттуда вытекает и река Днепр. Истоки их находятся в районе деревни Тишино. Сейчас город расстроился, кругом на холмах появились деревянные дома и заборы. А до войны четыре тысячи жителей Белого проживали в нижней, каменной части города. Во время войны на буграх домов и построек не было. Кругом были голые, изрытые окопами бугры. Сейчас на холмах вокруг старого города появились деревянные дома и целые улицы. Но все они, к вашему сведению, стоят на солдатских костях и могилах. Когда здесь местное население и пришлые начали строиться, рыли ямы под погреба и ставили фундаменты, то они вместе с землёй наверх выбрасывали белые солдатские кости. Они об этом, конечно, молчат. Да-да! Потому что на этих холмах находились наши окопы и проходили наши передние траншеи. Здесь убивало наших солдат. Здесь мы рыли могилы и хоронили своих боевых товарищей. многих оставили мы здесь, на Бельской земле. Многие сотни \и тысячи\ безымянных могил таятся в холмах вокруг города Белого. Теперь на этих местах появились дома и новые улицы. Улицам дали новые имена. Но об одной из них, которая носит имя Березина, \человека недостойного, виновного во многом и перешедшего на сторону немцев,\ я потом расскажу. Бельская земля лежит на границе непроходимых болот и суши. Река Межа и Лучеса опоясывает их. Летом сорок первого года, когда немецкая армия наступала на Ржев, она одной колонной двигалась вдоль железной дороги со стороны Великих Лук, а другой шла из Духовщины по дороге на Белый и Оленино. \Во Ржеве в это время стояла стрелковая рота и взвод сапёров 11-й с.д., который должен был взорвать мост через волгу.\ На ст. Жарковский в то время стоял 143 отдельный разведбатальон 119 с.д., он поджидал немцев в Земцах. Командиром батальона в то время был небезызвестный нам Карамушко. Город Белый обороняла 53 кав. дивизия. Она имела 1100 активных штыков, пять пушек ПТО, 18 станковых пулемётов «Максим» и 27 ручных пулемётов. 3-го октября в городе появился генерал Лебеденко, а 4-го октября город был сдан немецким войскам. 10 октября немцы силами 9 полевой армии и 3-ей танковой группы из района Ярцево нанесли удар на Зубцов и Калинин. 12-го октября 41-ый мотокорпус немцев взял Зубцов, Погорелое-Городище, Лотошино, Старицу. Так для города Белого началась война. Как-то \лет тридцать спустя\ после войны мы случайно 9 мая собрались и поехали в город Белый. и город в памяти остался действительно белым. и по сей день старая каменная часть города выделяется своей чистотой и необыкновенной сверкающей белизной. Здесь, среди белых, как летние облака, домов, в тени узких мощёных булыжником улиц чувствуешь себя связанным с далёким прошлым русской земли. Здесь и воздух свой, особенный, после дыма, гари и копоти Москвы. Но, к сожалению, кое-где эта белая старина завешена и пестрит аляпистыми вывесками. Думаю, что если ими завесить древние храмы, то что останется от торжественного облика первозданной красоты? А эта белая старина не только торжественна и первозданна, она собой патриотична и очень значительна. \Советская Родина – это не только призывы и плакаты, а даже наоборот,\ Это история нашей земли. Если по нелидовской дороге перейти мост через Обшу в сторону города, то здесь среди деревянных построек хозяйственного типа вы сразу почувствуете знакомый запах столовой и кухни. Поверните чуть вправо и вы увидите Бельскую столовую у дороги. На самом деле! Не зайти ли нам сначала туда? Было решено. Мы так и сделали. Если вы здесь отведаете столовских щей со свининой, то надолго запомните их натуральный запах и вкус. Даже чёрный хлеб здесь другого вкуса. А полусладкий столовский чай с жидкой заваркой не имеет здесь привкуса хлорки \как у нас в Москве.\Хотите вы или не хотите, а всё здесь имеет свой натуральный и провинциальный запах и вкус. Когда в январе сорок второго года мы подошли к городу Белому, столовскими щами здесь не пахло. Тогда мы чаще вместо солдатской похлёбки получали немецкие пули, снаряды и бомбы. Даже полбуханки мороженого хлеба не всегда доходили до нас. Тогда, в январе, наши солдаты должны были умирать в окопах голодными. А умирать на голодный желудок, скажу я вам, – дело немыслимое. Нам, конечно, говорили, что с набитым животом ходить в атаку опасно. Ударит пуля в живот и получай заражение крови. Но мы знали другое. Если пуля солдату заденет и по пустым кишкам, то всё равно он долго не проживёт. Ходить на голодный желудок в атаку несправедливо. Даже преступнику, приговорённому к смерти, перед казнью разрешалось заказать себе шикарный обед. Откуда у наших солдат брались моральные силы переносить страшный холод, голод и тяготы войны? Снабжение нашей дивизии было в то время отрезано. Наши тылы остались по ту сторону линии фронта и стояли где-то в районе Нелидово. В январе сорок второго года мы стояли на окраине города и держали глухую оборону. А можно было ковырнуть немца из города, пока снега и морозы держали его по домам. \Мы сидели в мёрзлых окопах и каменном подвале. Со снабжением по-прежнему было плохо. Наши пайки таяли в полковых тылах. Даже махорка, горьковатая на вкус, делилась россыпью по карманам начальства. На передний край доходил только запах её сизого дыма. Савенков, мой зам по пп, часто и надолго уходил по важным делам в тылы полка и батальона. Возвращался в траншею и дышал на нас перегаром самогонки и запахом табака. Мы – это командир взвода старшина Панин, солдаты и я, командир пятой стрелковой роты.\ Наша линия обороны проходила по окраине города Белого. Мы держали немцев в полукольце: винный склад – льнозавод – мельница и часовня около больницы. У немцев был один только выход из города – по дороге на Духовщину. итак, в наших руках была кирпичная часовня около больницы. когда-то в эту часовню выносили умерших. Морг не морг, вроде того. Часовня на два покойника. Солдаты, державшие в ней оборону, спрашивали, что это за кирпичная будка. Часовня находилась от здания больницы всего в двадцати метрах. В больнице сидело до роты немцев. Березину предложили окрестить её кузницей. Он согласился. С тех пор во всех донесениях и отчётах стали писать именно так. кузня! Мы в это название не верили. Ни кузнечных горнов, ни старой наковальни, ни старых подков, ни проволоки, ни гвоздей ржавых нигде вокруг неё не валялось. Из окон больницы немцы постреливали в кузню в открытый проём двери. Лёжа за кирпичным постаментом нельзя было поднять головы. Теперь не ни больницы, ни «кузни». На их месте в земле остались наслоения битого кирпича. Они давно покрылись землёй и зелёной травою. Место, где стояла больница, я нашёл по битому кирпичу. О том, как она исчезла, я расскажу особо. Зима сорок первого года нам запомнилась лютой и голодной. Каждая малая кроха хлеба имела для солдата жизненное значение. Вот почем знакомство с послевоенным городом Белым началось именно со столовки. Мне казалось, вернись я сейчас опять в Белый, и я буду снова там голодать. но столовские щи со свининой развеяли все мои сомнения. В январе сорок второго снег, мороз и метели загнали немцев в натопленные дома. Они не вылезали из них и держали оборону. Без техники они наступать не могли. Танки зимой по глубокому снегу не шли. Моторы глохли на сильном морозе. Топливом для танков у немцев служил голубой эрзац-бензин. В городе и на окраине в руках у немцев были все жилые дома. Немцы были не дураки, они не стали занимать пустой и холодный подвал. Им в голову не пришло, что в каменный обледенелый подвал можно засунуть живых людей и заставить там сидеть целую зиму. Наш генерал рассуждал иначе. Винный погреб он окрестил складом с/х машин и велел посадить туда полроты солдат (с винтовками). Не думайте, что я тогда был недоволен своим генералом. Совсем наоборот. Я верил ему и всем, кто вокруг него крутились. Я тогда всё принимал за чистую монету. Надо значит надо! Для родины, за советскую власть мы на всё готовы! Генерал заткнул полроты живых солдат в каменную могилу, и рука у него не дрогнула, когда он подписал такой приказ. \Он нас за людей не считал.\ Мы тогда были просто солдаты! В подвале сидел взвод, а в «кузню» посадили двух солдат. Двое вроде мало. Доложили ему – он приказал добавить третьего. Что? Тесно? Некуда сунуться? Ничего! Русский солдат, как вша, в любую щель пролезет! А не мешало бы самому Березину и его заму Шершину посидеть денёк-другой в кузне или подвале. Не стал бы тогда Шершин в своих воспоминаниях врать, как сивый мерин. Видно, названия «кузня» и «склад с/х машин» были приятны и созвучны душе генерала. «Захвачена кузница!» – видите, как звучит. \Во время войны офицеры рангом повыше выпивать «не любили».\ Название «винный склад» у начальство вызывало раздражение. Часовня тоже не подходила для обитания живых. Каменная часовня имела всего три стены. Снизу земляной пол и пьедестал из кирпича на два покойника, с возвышением. Впереди пустой дверной проём смотрел в сторону больницы. Немцы из окон больницы простреливали его. Он был открыт для ветра и снега. крыши над головой не было \, колкий снег гулял здесь с утра и до утра\. Трое промёрзших солдат держали здесь оборону. Они по приказу генерала сторожили часовню. \В апреле сорок второго ни генерала, ни часовни не стало\. Немцы Ника не предполагали, что русские заползут в обледенелые стены. Наши стрелковые роты в Белом встретились с немцами в январе сорок второго. Они подошли к городу и стали выдвигаться вперёд. Немцы решительно, пулемётным огнём, пресекли их продвижение. Несколько солдат заползли в подвал и часовню, чтобы переждать обстрел дотемна. Так и сложилась линия обороны. Березину доложили, он приказал держать указанный рубеж – и ни шагу назад! Наша пятая стрелковая рота подошла к городу 20 января. Морозы в ту пору стояли особенно лютые. Снег под ногами скрипел, как мелкое битое стекло. помню, в деревне Шайтровщина навстречу нам вышел штабной из полка. – Я представитель полка! – сказал он деловито – Ты знаешь, лейтенант, куда идти? – В деревню Журы – ответил я. – вот именно! Твоя рота передаётся в распоряжение комбата Ковалева. Постой, постой – подумал я. Это не тот ли самый Ковалев, который был в моей роте на время проверки? Некоторое время назад он вышел из окружения. \-Он из пограничников? – спросил я. – Да! Ты его знаешь? – Приходилось встречаться! Я не стал ему рассказывать, что Ковалев месяц назад вышел из окружения и проходил проверку на вшивость.\ Мы должны были сменить стрелковую роту, которая стояла в обороне на льнозаводе и в подвале винного склада. Остатки этой потрёпанной роты с нетерпением ждали нашего появления на передовой. В деревне Журы я доложил комбату о своём прибытии. – Разведи солдат по избам! Пусть с дороги отдохнут. Смена будет завтра! А ты иди вон в ту избу. Там живут пулемётчики и связисты. Когда будешь нужен, связного пришлю! Не знали мы, что нам предстоит отправиться в ледяную могилу. В избе, куда я зашёл, было темно, жарко и сильно накурено. Здесь находились телефонисты и свободные от несения дежурства солдаты пулемётной роты, командир пулемётной роты ст. лейтенант А.Кувшинов, его замполит мл.политрук П.Соков. В избе оказался и мл.лейтенант, командир той самой потрёпанной стрелковой роты, которую я должен был сменить. Он быстро поднялся с лавки и, улыбаясь во весь рот, пошёл мне на встресу. – Пошлите, лейтенант! /Как я понял, он хотел сказать: «Пошли!»/ Смену проведём и доложим комбату. Я не очень понимал его, почему он, собственно, торопится. – Когда прикажут, тогда и пойдём, – ответил я ему. – Москвичи тут есть? – громко спросил я, так чтобы все слышали. – Москвичи есть! – услышал я голос в углу. – Я москвич! – сказал политрук пулемётной роты соков. Лицо у него круглое. Нос маленький, лоб большой и круглый. Глаза светлые, глубоко посаженные. Он даже в избе не расставался со своей железной каской. Она у него была надета поверх зимней шапки. – Откуда из Москвы? – спросил я. – С красной Пресни! Слыхал, наверное? – Ну как же, знаю! Хорошевское шоссе! Зоопарк! – может, и Третью Магистральную улицу знаешь? – Нет, магистральную улицу не знаю! Политрук предложил мне сесть. – Ты иди к комбату! – сказал я мл.лейтенанту – Его торопи! мне прикажут произвести смену, я пойду и сменю. За мной дело не станет. А приказа пока нет. Я повернулся к Сокову, и мы продолжили разговор. Так я познакомился с земляком. Судьба нас потом свела на войне. Москвичей нас в дивизии было двое. На следующий день мы расстались. Я ушёл с солдатами на льнозавод. Из деревни Журы мы спустились на дно замёрзшей реки Нача и по протоптанной в глубоком снегу тропе пошли в сторону города. Замёрзшее русло реки шло по самой низкой отметке данной местности и служило хорошим укрытием, как дорога на передовую. Здесь была накатана довольно ровная и неширокая полоса по льду. По ней мы обошли несколько бугров, на которых стояли деревни Струево и Демидки. Река здесь имела довольно высокие и крутые берега. Что было там, наверху, из русла реки не было видно. Мы шли по глубокой впадине между покрытых снегом холмов. Где-то в начале пути река Нача слилась с рекой Обша. Ветер гулял по буграм наверху, а здесь внизу было безветренно и тихо. Только мелкий снег, медленно падая сверху, щекотал надбровья, нос и губы. Ветви кустов, утопшие в глубоком снегу и облепленные инеем, не шевелились. Над крутыми высокими берегами нависли причудливые снежные сугробы. Они подступали к самой дороге. Река вместе с дорогой сделала несколько крутых поворотов. \Казалось, что там наверху находятся немцы, а мы – живые маленькие человечки – пробираемся через снежный лабиринт и заходим к ним в тыл. Смотрю на провожатого. Командир сменяемой роты идёт спокойно. По его фигуре можно сказать, что немец ещё далеко. Мы обходим высокий бугор. – Прошли Демидки! – говорит он мне на ходу и показывает в сторону города. Перед нами город Белый. Но вот слева овраг. Дорога поворачивает влево и мы по оврагу медленно поднимается ко льнозаводу. Здесь среди обломков разрушенного кирпичного основания видны занесённые снегом механизмы трепальных машин. За льнозаводом дорога кончается. Дальше идёт протоптанная в снегу тропа. Перед нами две почерневшие от времени бревенчатые избы. Одна покосилась. На другой нет крыши. Отсюда, собственно, начинается наш рубеж обороны. Кроме этих бревенчатых полуразрушенных изб ни справа, ни слева до самого города не видно ничего. Слева от снежной тропы, которая поворачивает вправо и уходит в город, стоят круглые, окутанные белым инеем деревья. Они были не часты, но занимали всё открытое пространство до самого города. Их, видимо, посадили для укрепления почвы, потому что справа от них находился обрыв, а там, за обрывом, лежит низкий берег поймы реки. Эти деревья теперь кое-где сохранились. Большую часть их вырубили после войны, когда здесь начали строиться местные жители. Если у такого отдельного дерева остановиться и внимательно его рассмотреть, то можно увидеть глубокие следы от пуль и осколков. Это следы военного времени. Тогда, зимой сорок второго года, всё пространство до города просматривалось и простреливалось с двух сторон. Стреляли и с нашей, и с немецкой стороны. Хотя, по правде сказать, наши солдаты зря стрелять не любили. Пока целишь мушкой и смотришь на прорезь, выставишь рожу, тебя из пулемётов может прошить. На виду у немцев нельзя торчать. Пространство вдоль снежной тропы, которая шла от льнозавода в подвал винного склада, насквозь простреливалось. Деревья не мешали немцам стрелять по тропе из пулемётов, когда солдаты отправлялись ночью в подвал. От двух покосившихся бревенчатых изб не было видно, где именно в низине находился этот подвал. Как только мы свернули на тропу и подошли к бревенчатым избам, в нашу сторону на уровне плеч тут же полетели немецкие пули. Мы по незнанию оказались на открытом месте. Я остановил роту. Солдаты, не дожидаясь команды, повалились в снег. Команда «Ложись!» подаётся в тылу, при обучении. А на фронте солдатам такие команды не подают. Ты должен сам смотреть и решать, стоять тебе на месте или лежать. Хочешь стой, а хочешь – падай!. За рукав к земле тебя дёргать никто не будет. Когда роту нужно будет поднять, вот тогда на тебя командир заорёт. Потому что с первого слова солдат обычно не шевелится. Солдат с первого слова не вскочит на ноги. Тут не только нужно подать команду, тут нужно по матушке как следует пустить, знакомое солдату словцо. Вот только тогда солдат почувствует, что это касается именно его.\ – Далеко тут до подвала винного погреба? – спросил я мл. лейтенанта? – До склада сельскохозяйственных машин? – уточнил он. – Нет, не далеко! Но по тропе днём туда ходить нельзя. Тут ночью каждый раз убивает! Сейчас подвал, а когда-то это было кирпичное здание в полтора этажа. Подвал имел толстые стены в четыре кирпича и выступал из-под земли на полметра. Единственный этаж, где когда-то была контора, обрушился при \бомбёжке\ (здесь и далее зачёркнутый текст будет помещаться между символами \ \, перед исправленным – прим. наборщика) взрыве. На потолке подвала лежала целая груда битого кирпича. Только один угол, обращённый в сторону города, уцелел от взрыва и торчал над подвалом \как сторожевая башня\. В подвале когда-то действительно хранили спиртное. Об этом нам рассказал солдат нашей роты, он был из местного населения. Подвал имел внутри сводчатый потолок. Внутри было пусто, голый пол и обледенелые стены. Ни печей, ни труб. Морозильная камера, склеп, могила для живого солдата. Сейчас это место огорожено забором. За забором находится Бельский районный заготпункт. Подвал винного склада был самой близкой точкой нашей обороны к городу. Самого подвала \теперь\ не сохранилось. Его взорвали немцы в мае сорок второго года. Как это случилось, пойдёт особый рассказ. Теперь на этом месте остались в земле следы битого кирпича. Но самой ценной реликвией и достопримечательностью войны является железный навес с полукруглой крышей, пробитый пулями и осколками во время войны. Навес и сейчас стоит на своём прежнем месте. Он и сейчас стоит в том самом виде, в каком мы его видели перед собой каждый день. Находился он ближе к немцам. Мы были от него в шагах двадцати. Здесь по фронту проходила линия раздела. Навес – это настоящий памятник тем людям, которые здесь сражались во имя победы на нашей земле. В железной полукруглой крыше есть и мои пробоины. Закрою глаза и вижу их, как знак незабываемого и тяжёлого военного времени. Левей железного навеса стоял деревянный дом. В нём размещалась немецкая пулемётная точка. Опорный пункт немцев. У самой земли в бревенчатой стене была прорезана узкая амбразура. Со всех сторон она была обложена мешкам с песком. Пространство, меньшее, чем двадцать метров между немцами и нашей позицией простреливалось насквозь. Редкие стволы деревьев не мешали стрельбе с их стороны. Когда я с ротой пришёл на льнозавод, то ночью сразу расставил своих солдат по всем точкам обороны, в том числе и в каменный подвал. Сам я тогда обосновался под полуразрушенным бревенчатым домом около дороги, недалеко от льнозавода. Под домом была вырыта небольшая землянка, и на ней лежали три наката брёвен. В землянке имелась печка, прорытая прямо в боковой стене земли. Труба представляла собой пробитое сверху земляное отверстие. В печке ночью горели дрова. Земля и вся боковая стенка за ночь достаточно прогревались. Тепла, которое запасала земля, хватало \до половины дня, не более\ на ночь. Во всяком случае, ночью в землянке можно было сидеть и лежать \без полушубка\, не замерзая. Дымно, смрадно было внутри, но зато тепло и сыро. Через день я ходил в подвал, следил за сменой солдат, возвращался на льнозавод и руководил рытьём траншеи. Со мной в землянке жил \политрук роты\ Савенков. Он часто уходил в Демидки, Струево и Журы, как он говорил, по делам своей работы. Видя, что рано или поздно придётся отправиться к солдатам в подвал, он стал уговаривать комиссара батальона Козлова отправить меня в подвал на постоянное пребывание \, меня, командира роты\. Он, Савенков, останется на льнозаводе и будет руководить рытьём траншеи. Дело это не мудрёное, он с ним справится вполне. А с солдатами в подвале будет постоянно находиться \всё-таки офицер\ командир роты. – Послушай, Савенков! – сказал я, когда прошла первая неделя. – Должна быть справедливость на земле? Теперь твоя очередь отправляться в подвал. Я ходил туда всю первую неделю. Теперь неделю походи ты туда! – Зря пыжишься, лейтенант! В подвал я вообще не пойду. И ты учти, я не твой заместитель. Я политический представитель в роте. Я тебе не подчинён, я за тобой должен следить. В подвал отправишься ты и будешь там сидеть безвылазно. На то есть мнение комиссара батальона Козлова. – Какое ещё мнение? – Такое! Согласованное с комбатом Ковалёвым. Я вчера был в батальоне, и мне поручили передать тебе. Вот я и передаю тебе его решение. – Я твоей болтовне, Савенков, не верю. \Один раз соврал. Кто будет тебе верить?\ Ты врёшь на каждом шагу! – Телефонист! – позвал Савенков, – Соедини меня со вторым! Алё! Товарищ второй! Докладывает Савенков. Лейтенант не желает выполнять ваше распоряжение. Как какое? В подвал идти. Есть! Сейчас передам! На трубку. Я подошёл к телефону, взял трубку, Козлов мне сразу изрёк: – Никакой самодеятельности! Ты идёшь в подвал! Решение по этому вопросу принято. И без разрешения Ковалёва из подвала не выходишь! Всё ясно? Я промолчал. Савенков сиял, он был доволен. Теперь, после звонка в батальон, всё встало на своё место. Опасность быть убитым на тропе для Савенкова миновала. Моральная сторона его не волновала. Он плевал на мораль, когда вопрос касался его собственной шкуры. Он страшно боялся потерять свою драгоценную жизнь. Ему было наплевать, что будут думать и говорить о нём солдаты. На войне каждый человек должен уметь постоять за себя. Не умеешь – сам дурак. Ты командир роты, тебе и пахать! Лейтенанты и солдаты на фронте долго не задерживались. Сегодня они живы, а завтра, глядишь, их уже и в живых нет. Свидетелей не останется. \Чёрные дела не пришьёшь его совести. О чём говорить? Когда совести нет!\ Никто после войны не скажет, что он, Савенков, спасал свою шкуру. Важно у начальства создать о себе хорошее мнение. Он, Савенков, готов пойти на всё, лишь бы протянуть свою жизнь до конца войны. Лейтенанта отправили в каменный подвал, а он, Савенков, стал сам себе хозяин \в отапливаемой землянке в три наката\. Хочешь спи. Хочешь так \себе сиди\ лежи. Перед уходом в подвал я ему высказал своё мнение по поводу его трусости и самосохранения жизни. – Послушай, Савенков! Как только рота идёт на сближение с противником, у тебя возникают неотложные дела в политотделе полка. Политрук должен вместе с командиром роты в атаку ходить. А ты каждый раз скрываешься. Солдаты смеются. В открытую про тебя говорят. Просидел неделю в тылу, явился к начальству, перед начальством ты делаешь вид, что только что из роты явился. А в роте \отсутствовал несколько недель\ ты вообще не появлялся. Как ты смотришь в глаза беспартийным солдатам \и комсомольцам\? Савенков ничуть не смутился, а только раздражённо ответил: – А ты знаешь указание Ставки на счёт политсостава и комиссаров? На фронте должны беречь политсостав. Мы партией поставлены следить за вами, докладывать в политдонесениях, как вы приказы партии выполняете. – Ну ты, наверное, с утра самогона перехватил? – Ничего не хватил! И запомни! Среди вас, среди комсостава много всяких изменников Родины и предателей народа. Мы здесь на фронте на замы и не помы ваши. Мы институт комиссаров. На нас держится фронт и вся тяжесть войны. Мы должны присматривать за вами и давать оценку вашего морального духа. Ты, наверное, забыл, что у тебя судимость, думаешь, что партия будет беречь не мою, а твою беспартийную жизнь? А ты останешься жить до конца войны? Иди в каменный подвал и охлади там свои мозги. А то ту жарко у печки, у тебя мозги разомлели. Морально не устойчив, вот и пускаешься в рассуждения. Разговор оборвался. Кто-то снаружи дёрнул занавеску, висевшую в проходе, застучал обледенелыми валенками. \Я ждал из подвала связного\ Солдат принёс охапку исколотых дров. Я, признаться, конечно, задумался над его словами. Савенков довольно точно определил, где моё место, и чего, собственно, стоит моя жизнь. \А вообще-то я был дурак. Я принимал всё за чистую монету.\ Но я решил про себя. У каждого человека должен быть правильный стержень. Я молча вышел тогда из землянки и пошёл по траншее вперёд. Прошёл два десятка метров открытой траншеей и стал смотреть поверх снега вперёд. Впереди на снегу, возвышаясь, лежал убитый немец. Молодой, светловолосый, в голубовато-зелёном мундире. Немец почему-то был без шинели. Мундир был застёгнут на все пуговицы и опоясан ремнём. Тёмный отложной воротник подчёркивал бледность и молодость его лица. У немца были открыты глаза. Он лежал на спине, откинув голову чуть в сторону, и смотрел в поднебесье. Немцы однажды, когда потеплело, хотели захватить нас врасплох. Человек двадцать перед рассветом решили навалиться на наши окопы. Этот, что лежит, шёл впереди у всех на виду. Он держал себя спокойно и даже с достоинством. Тогда последовали редкие ружейные выстрелы с нашей стороны \часовых, которые рыли траншею\. Немецкие солдаты трусливо попятились назад и повернули обратно. А этот молодой споткнулся и упал. В душе он, видно, не верил, что это может с ним случиться. Метели и вьюги не замели и не засыпали его снегом. А даже наоборот. Он лежал как будто на белом постаменте. Мне казалось порой, что он не убит. А приходит и затемно ложится ночью на это место. Ветер сдувал с него все белые снежинки. Каждый раз я приходил с рассветом в конец траншеи, где мои солдаты долбили мёрзлую землю. Я по обыкновению проверял их работу и смотрел в сторону немца, который лежал на снегу. Его фигура всегда едва касалась снежного покрова. Солдаты, копавшие траншею, тоже посматривали на него. Почему он был по-летнему одет? Почему пошёл в атаку без шинели? Что хотел он показать своим фрицам, шагая впереди? С немецких позиций убитого тоже было видно. Немцы в его сторону не стреляли, боялись \изуродовать пулями его\ пулями порвать ему мундир. Они однажды под прикрытием ночи пытались приблизиться к трупу. Но братья-славяне их вовремя заметили. Поднялась беспорядочная стрельба. У немцев не хватило духу шагнуть ещё ближе вперёд. Я посмотрел на убитого немца, глубоко вздохнул. Русые волосы немца шевелились на ветру. Я вспомнил \подлую возню\ слова Савенкова: «Не забывай, что судимый!». Они резанули меня словно нож. Скорей бы вечер! Теперь мне всё равно! Уйти поскорей отсюда! Чем сидеть \с этой грязной скотиной\ у печки, видеть его, испытывать на тропе свою судьбу, ходить под пулями, лучше отправиться в этот каменный подвал. Лучше сидеть в преисподней вместе с солдатами. В начале ночи, когда совсем стемнело, пришел старшина. Мы вышли на тропу и вскоре добрались до подвала. Я устроился \на тонкой подстилке из тросты льна\ на каменном полу в подвале и сразу почувствовал ледяное дыхание его. Подвал не отапливался, в нём горела только ночная коптилка \из сплюснутой гильзы снаряда\. Полукруглые своды отбрасывали серую тень. Старшина раздал мучную похлёбку, мороженый хлеб, пожелал мне всего хорошего, повернулся и ушёл обратно. Я недолго лежал и думал о жизни. Поворочался, поскрёб за пазухой от надоедливых вшей. С моим приходом в подвал солдаты несколько оживились. Но видя, что я устроился на полу и не собираюсь уходить, ещё больше поникли и приуныли. Они поняли. Если сюда, в подвал, сунули ротного, то их, солдат, из подвала вообще не выпустят. Я подложил под голову чей-то старый дырявый котелок и вскоре заснул. Солдаты потёрлись, повертелись на месте и быстро успокоились. Всё было по-прежнему уныло, вяло, полусонно, неподвижно, холодно и голодно. Люди давно уже промёрзли в этом каменном гробу. Солдаты не роптали. Они видели, что их ротный командир так же, как и они валяется на холодном полу. Я обращался несколько раз в батальон \и непосредственно в полк\ с просьбой выдать на роту ещё одну железную печку. Мне не обещали. И даже сказали: – Всё равно не натаскаете дров! А лучиной подвал не нагреешь. Солдатам это было непонятно. Лёжа на полу, Нои корчились от холода. В подвале стояли часовые. Тот, кто сменялся с дежурства, устраивались спать. Сон на некоторое время избавлял людей от мыслей, от холода, от голода и мук. Камень не только излучал страшный холод, он пронизывал человека до самых костей. От него ломило суставы, болели впадины глаз. Холод остриём подбирался к позвоночнику. В позвонках застывала живая костная жидкость. Если солдата пытались будить, то побудка начиналась с расталкивания и пихания. Солдата долго трясли, приподнимали от пола, только после этого он открывал глаза и удивлённо смотрел на стоявших над ним солдат. Из памяти у солдата от холода всё вылетало. Когда лежишь на боку на каменном полу, то застывает половина лица и вся нижняя часть тела. Она не только застывает, она немеет. И когда тебе нужно встать, пошевелить ты можешь только одной половиной. Рот и лицо перекошены, шея неестественно выгнута. Лицо выражает гримасу страдания и смеха. Рот и лицо искривились, как будто человек передразнивает вас. Хотя каждый, кто это видит, понимает, что это всё человеческие муки, а вовсе не гримасы и злоба, которую можно увидеть на сытых и довольных \физиономиях тыловиков, батальонных и полковых\. Холодным стальным обручем ледяной холод давит на голову, в висках страшная ноющая боль. Глазные яблоки не шевелятся. Если я хочу посмотреть в сторону, я поворачиваю туда всё тело. Потом, окончательно встав на ноги, начинаешь ходить по подвалу. Так постепенно оттаиваешь и подаёшь свой голос. Все двадцать солдат в подвале напрягали свои последние силы, но никто не роптал. Великий русский народ! Великий русский солдат! \А там, в тылу, наши начальнички жевали куски свиного сала, прихлёбывая наваристым бульоном\ Некоторых солдат приходилось менять совсем. Появлялись больные и раненые. Их по одному отправляли на льнозавод. В каменном подвале, где мы сидели, потолок и стены были покрыты белым инеем, слоем льда от дыхания людей. Иней оседал на холодный кирпич стен и сводов. Печей в подвале не было. Это была самая близкая точка, расположенная к немцам. Мы стояли друг против друга так близко, что вряд ли кто-то видел перед собой немецкие позиции ещё ближе, чем мы. Мне довелось потом до конца войны воевать на передке, но нигде и никогда мы не стояли от немцев так близко, как здесь. И это не эпизод, не остановка на два-три дня, мы здесь держали оборону, считай, не меньше полугода. И что хотел я ещё добавить. Немцы сидели внутри бревенчатого дома и день и ночь топили печь. Их часовые стояли снаружи и за углом. \Встретишь вот так когда-нибудь фрица, ты его никогда не видал, а по голосу узнаёшь. Вот как долго и близко стояли мы друг от друга\. Немцы на постах без умолку разговаривают. Закашляет немец, пустит струю в штаны, возьмёт шипящую с дребезгом высокую ноту, а у наших солдат в подвале душу выворачивает от голода. Обожрались черти! Жрут, как лошади! Стоят \смолят\ и воняют под себя на посту. Наши солдаты точно определяли на слух, когда немцам в дом приносили еду, когда они выходили после еды покурить и повонять на свежем воздухе. – Вот сволочи, третий раз сегодня обедают! – говорил кто-нибудь из солдат. А те, кто лежали на каменном полу, начинали ворочаться. Как огневая опорная точка, наш подвал никакой особой ценности не представлял. Он был во всех отношениях для нашей обороны не удобен. Он был далеко выдвинут от основной линии обороны. Каждый выстрели из узкого подвального окна в сторону немцев оборачивался для нас каждый раз новыми потерями. При первом же выстреле с нашей стороны немец открывал бешеный пулемётный огонь \из нескольких пулемётов\ и бил \по несколько часов подряд\ со всех сторон по тропе и по всем окнам подвала. Сотни трассирующих, бронебойных и разрывных сразу врывались вовнутрь подвала, от стен летели брызги, пули со скрежетом и визгом рикошетили по каменным сводам. Деваться было некуда. Все ложились на пол, отползали в углы, но кого-то задевало \хорошо, если легко\. Лучше не стрелять – рассуждали солдаты. Наш подвал занимал исключительно невыгодное место. Тропа, по которой ходили солдаты в подвал, на всём протяжении пути простреливалась немцами. В своём конце тропа подходила к боковой стене подвала, обращённой к немецкой пулемётной точке, обложенной мешками с песком. Немецкую пулемётную точку, к сожалению, нам нечем было подавить. Для того, чтобы попасть в подвал, нужно было на виду у немцев подойти к боковой стене, повернуться к ним лицом, опуститься на колени, лечь на землю и, скользя на животе по снегу, отталкиваясь руками, попасть ногами в узкое отверстие слухового окна., которое было расположено в стене у самой земли. Попав в окно ногами и подаваясь задом в подвал, солдат протискивал своё тело через узкое отверстие. Даже ночью, при плохой видимости, немцы могли заметить неосторожное движение солдата, который по тропе подбегал или подползал к этой стене. \Все, кто шли в подвал или возвращались обратно, перед выходом на тропу надевали чистый маскхалат\ Немцы знали, что с наступлением темноты мы пойдём по тропе к подвалу и обратно. И они охотились за нами. Снежная тропа была утоптана и местами даже обледенела. Вдоль тропы с одной стороны возвышалась небольшая бровка. За ней можно было в некоторых местах лежать или ползти. В подвал каждую ночь ходил старшина роты и его помощник повозочный. Повозочный на спине нёс термос с солдатской похлёбкой, а старшина тащил на плече мешок с мороженым хлебом. Некоторое время спустя, когда уходил старшина, в подвал отправлялась группа солдат на смену. Они меняли солдат, отсидевших в подвале неделю. С наступлением темноты немец \набивал патроны в металлические ленты и\ начинал обстрел наших людей вдоль тропы. Попадали под пули в основном боязливые и нерасторопные. У них не хватало выдержки, соображения и мгновенной реакции, как у нашего старшины. Он тоже рисковал каждую ночь. Но ходил осторожно, и в то же время решительно. Каждую ночь на тропе \солдаты расплачивались своей кровью\ появлялись убитые и раненые. \Этому делу словами не научишь, хоть ты ему кол на голове теши\. Утром немцы прекращали стрельбу, утомившись за ночь. На посты вставали другие расчёты. \Они тоже знали своё дело\ Короткими очередями из пулемёта они перебивали нам телефонный провод и связь с подвалом обрывалась до самого темна. Утром, как обычно, телефонист брал телефонную трубку, продувал её, прокручивал ручку вызова и клал трубку назад. Кричать в трубку «Алё! Аля! Алю!» было бесполезно. Телефонист нехотя подымался с пола, подходил нагнувшись ко мне. Я лежал на полу, с другом углу за аркой, и он докладывал мне: – Связь перебита, товарищ лейтенант! – Ладно! Ступай!-отвечал я ему хриплым голосом, но ворочаясь и не поднимая головы. Телефонист медленно уходил на место, ложился около аппарата и закрывал глаза. Дел и забот в подвале у него до следующей ночи не было. Ночью сменщик протянет провод, и он уйдёт к себе в Журы, где размещался его взвод связи. У окон подвала стояли наши часовые и дежурный пулемётный расчёт \пулемёта «Максим»\. Остальные лежали на полу \и спали\. Сон сохранял в человеке \тепло и\ жизненные силы. Жизнь в подвале замирала до ночи. Печей в подвале не было. Дрова в подвал доставить было невозможно. Топить и разводить костёр на полу было нечем. Подвал всю зиму не топился. Наверху было за тридцать, а в каменном мешке больше того. Тридцать градусов легче переносить лёжа в снегу. А внутри каменного подвала излучение холода прошибало и пронизывало всё тело насквозь до самых костей. Солдат кормили один раз в сутки. Постоянное недоедание и переохлаждение вводили солдат в тяжёлую дремоту. Без телефонной связи было спокойней. Из батальона не звонили. Мы были целиком отрезаны от мира. – Товарищ лейтенант! – Ну что? – Немцы могут ночью навалиться сверху, сунут в окна гранаты и бутылки с горючей смесью. \Связи никакой! В батальоне и полку не будут знать, что с нами случилось!\ Все мы сгорим или задохнёмся в дыму. – \Мы, конечно, можем забиться в дальний угол, надеяться\ Немцы в подвал не полезут! \Мы будем сидеть, подыхать и наивно надеяться, что нам вот-вот окажут помощь полковые или наши батальонные. А им до нашего пожара в подвале далеко, не видать и давно наплевать. В батальоне, в полку и дивизии, считай, везде сидят умы и стратеги. У них беззаботная жизнь в тепле и сытости. Мы надеемся, что они придумают, как вызволить нас из огня. Им сообщат об этом, а они и в ус не дуют\ На то и война, чтобы солдаты стояли насмерть! \Березин\ Никто не допустит, чтобы по вине разгильдяя ротного лейтенанта солдаты живыми оставили подвал. За каменными стенами в четыре кладки можешь умереть, но никак не сдать своих позиций \ради того, чтобы остаться в живых\. \Практически никто никакой помощи нам не собирался оказывать\ – На то мы и стрелковая рота, чтобы \от немца защищать батальонных, полковых и тылы\ держать оборону. На нас, на стрелковых ротах держится весь фронт \в то время, как у нас\. За нашей спиной \скрывались от немцев батальонные, полковые, дивизионные и фронтовые тылы\ сидят командир батальона и полка. И если стрелковая рота не выдержит и дрогнет, и солдаты разбегутся, то, считай, фронт на нашем участке будет открыт. \И затыкать его дивизии нечем\. \Я, конечно, по молодости надеялся и верил, что нас в тяжёлую минуту от напрасной гибели спасут. Но я, как всегда в те дни во время войны, себя обманывал. Я даже рассчитывал, что мне в критическую минуту дадут разрешение отойти на льнозавод. Но это было не так. Самовольный отход, трибунал или героическая смерть с солдатами – выбирай, что лучше! Что для тебя без суеты и хлопот. За \всю войну\ весь период боевых действий в наступлении, я ни разу не видел и не слышал, чтобы командир полка по соображениям тактики и сохранения жизни солдат дал приказ или молчаливое согласие стрелковой роте отойти с занимаемых ею позиций. Мы отходили только тогда, когда весь полк вместе с обозами бежал в тыл раньше нас. Когда ни батальонных, ни полковых уже на месте в помине не было. А если в критическую минуту сидели на месте, и работала связь, то сколько ручку аппарата ни крути, сколько в батальон ни звони, тебе всё равно никто не ответит. Ну и что ты будешь делать, когда приказа нет на отход. На том конце провода сидят и слышат твой взволнованный голос, но сделают вид, что оборвана связь. Такова правда войны! От неё никуда не уйдёшь! Представьте на миг, что к подвалу подошёл немецкий танк. Подошёл, приглушил мотор, опустил ствол орудия и направил его в окно у земли, через которое мы лазаем в подвал и наружу. Артиллерии в полку нет. По танку ударить прямой наводкой нечем. Вы поднимаете телефонную трубку и вызываете батальон. На том конце кто-то сопит и дышит, но голоса своего не подаёт. Знает, что ты об отходе просить разрешение будешь. Я как-то имел такой разговор с комбатом по телефону, что солдаты не выдерживают сидеть в ледяном подвале. – Ты должен воевать, а не звонить по телефонам! На тебя что, немцы нажимают? Ты просто трус, смерти боишься! Запомни одно! Ты должен воевать и держать оборону. Что-что? Ты сидишь в ледяном подвале? Ну и что! А я вот задыхаюсь от жары в натопленной избе и сижу, ничего. Не удивляйтесь, на войне и не такое бывало. – Что ты говоришь? У тебя на исходе патроны? А ты что же такой сякой, мать твою за ногу! Ты почему об этом раньше не подумал?! Комбат тебе патроны должен носить? Надеяться нам было не на кого. Постепенно мы это усвоили. Ударь немец покрепче, и все наши умники и стратеги разбегутся по лесам и болотам. Сбежит к немцам и наш старикашка \комдив\. Сбегут штабники, прихватив с собой капитана медслужбы с женой военврачом, перебегут на сторону немцев. Всё это будет на самом деле, но будет потом, в апреле сорок второго года. А пока был февраль на носу. Зимние ночи долгие. В начале февраля они особенно лютые. В каменном подвале со мной сидело человек двадцать солдат. Из них трое пулеметчиков и один телефонист. Командиром пулемётного расчёта был сержант Козлов. Высокого роста парень, с тёмными добрыми глазами. Худое лицо его было всегда спокойно и сосредоточено. О чём он думал тогда, сидя вместе с нами в подвале? Солдаты-стрелки группами через каждую неделю менялись. Без смены сидели пулемётчики, я и старшина помкомвзвод. Телефонисты тоже дежурили по очереди. Сутки один, на вторые сутки другой. Наступила ночь, протянул в подвал телефонный провод, утром перебило его – и лежи до темна, жди, когда придёт очередная смена. С наступлением полуночи смерть ходит по тропе и собирает свои поживки. Человек её заранее чувствует, думает о ней. Каждый, сидя в подвале, думал, что его завтра убьёт на тропе. Ни одна ночь не проходила без жертв. Убьют на тропе, вынут мёртвое тело из подвала, какая разница, где ты погиб, важно, человека больше нет. В батальоне был ещё один Козлов. Этот сержант-пулемётчик, а тот, не буду пока о нём ничего говорить. Внутри подвал был совершенно пуст. Голые стены, каменный сводчатый потолок и узкие слуховые окна на уровне земли. Станковый пулемёт «Максим» стоял в коне пережней стены и смотрел стволом в город, где по улицам за забором ходили и ездили немцы. В уцелевшем углу над подвалом стояли два наших дежурных солдата. Каждая небольшая подробность имеет тоже важное значение. Потому в этом углу как наверху солдаты тоже иногда расставались с жизнью. Полукруглые своды подвала имели солидную толщину. Сидя внутри подвала под сводами мы не боялись прямого попадания снаряда. Стокилограммовая бомба не пробила бы его. Мы опасались другого. Немецкие пушки, которые вели огонь прямой наводкой, досаждали нам иногда. Они стреляли по окнам и могли попасть в подвал. Однажды днём мы испытали на себе такой обстрел из тридцатисемимиллиметровой пушки. Снаружи летела штукатурка, брызгал, как сталь, холодный кирпич, но попасть в окно после девяти выстрелов немцам удалось только два раза. Слишком далеко от подвала стояла их противотанковая пушка. Пушка лёгкая, при выстреле прыгала. Прицелом тут ничего не возьмёшь. Стрелять нужно только по стволу, ловить удачу. При каждом наружном ударе снаряда, стены и своды подвала гудели, как колокол. Два снаряда всё-таки ворвались вовнутрь. Они ударили в опорную колонну и \сплюснутые, отвалились на пол\ разлетелись на куски.\ И если сказать правду, немцы не знали, сколько снарядов влетело вовнутрь. При первых же выстрелах около стены образовалось облако брызгов и дыма. Немцы стреляли осколочными. Термитными и фугасными. В дымном облаке очертания окон исчезли. При каждом новом выстреле немецкая пушка вертелась и прыгала. А когда не видишь своих результатов, начинаешь раздражаться и допускаешь ошибки. Сделав около десятка выстрелов, немцы прекратили стрельбу. Они, конечно, на нас нагнали страху. Ещё бы! Пара раскалённых снарядов влетело в окно и шарахнуло по каменному своду. Мы в этот момент лежали в дальнем углу. Хотя стоять в рост за сводами было куда безопасней. Но наперёд никогда не знаешь, где опасно, где потеряешь, а где найдёшь свою собственную жизнь. Немцы увидели, что результаты обстрела неважные и стрелять из пушки прямой наводкой перестали совсем. Чтобы был эффект, нужно ствол орудия поставить в десяти метрах от окна. После этого, они против одного нашего пулемёта «Максим» поставили три пулемёта и били из них по одному окну. Огненный шквал трассирующих пуль ворвался внутрь ослепительной пеленой. Треск свинца о камни, завывание и скрежет пуль при рикошете внутри придавили солдат к полу. Мы из подвала в сторону немцев стреляли довольно редко, и поэтому немцы по городу ходили почти в открытую, не боясь ничего. Мы пытались как-то расширить боковое окно, через которое мы спускались в подвал. Но кирпичная кладка была настолько прочна, что её не брали ни лом, ни кирка, ни взрывчатка, ни гранаты. При взрыве фугасной гранаты от стены отлетели лишь мелкие брызги. Когда ночью по тропе пробегал солдат, он оказывался перед каменной стеной подвала. Я тоже чувствовал себя около этой стены, как осуждённый на смерть, каждый раз, когда подходил к ней, возвращаясь со льнозавода. И это чувство не покидало меня и повторялось снова и снова, когда я приближался к ней, чтобы нагнуться к низкому проёму и просунуть ноги в него. Я чувствовал, что меня поставили к стене на расстрел. Вся стена вокруг оконного лаза была избита пулями и усеяна щербинами. Каждый из нас, подходя к стене, считал секунды, что вот сейчас последует пулемётная очередь и ты получишь удар свинца. У человека, подбежавшего к стене было одно желание – успеть побыстрее просунуть ноги и тело через узкое окно, проскочить, как мышь, в подвал. \Зимой мы все были одеты тепло и солидно. Ватники под шинелью, полушубки на офицерах\. Зимой мы были одеты в ватные одежды. Подбежав по крутому склону к подвалу, человек упирался руками в стену. После чего он поворачивался в сторону немецкого пулемёта и опускался передним, как перед иконой, на колени. Ложился на снег и пятился задом, стараясь попасть ногами в узкое окно. Каждый старался просунуть себя через узкий лаз как можно быстрее. Каждую секунду он мог увидеть пулемётную вспышку огня. Сидишь в подвала, смотришь на боковое окно и видишь, сначала показываются валенки, потом протискивается задняя часть с задранной к голове шинелью. Теперь можно сказать, что солдат, собственно, весь в подвале, не хватает только рук, плечей и головы. Но по солдатским штанам трудно определить, кто этот солдат, как его фамилия. В подвал приходили старшина с мороженым хлебом, повозочный с термосом, телефонист с проводом в зубах или два-три стрелка солдата, прибывших на смену другим. Когда подбежавший просовывал в дыру свои бока, голова и плечи торчали снаружи, а он уже болтал ногами и нащупывал пол. Небольшого роста солдаты не доставали ногами, их подхватывали за ноги и протаскивали в подвал. Все, кто сидел в подвале, при свете мерцающей коптилки с интересом смотрели на пришельца с того света. Его должны были убить, а он остался в живых. Солдаты-стрелки и телефонисты, не ходившие на смену в подвал ни разу, опускались в подвал, как в преисподнюю. Обычно на смену стрелков приходили раз в неделю по двое-трое. Двоих больных или промёрзших солдат отправляли на льнозавод рыть траншею. Кроме солдат в подвал являлся старшина и повозочный, они раз в сутки приносили на себе солдатскую еду. Солдаты, которые шли на смену, прихватывали с собой по охапке льняной тросты. Охапки небольшие. С большой не пройдёшь по тропе. Немец может заметить. Льняную тросту брали себе на подстилку. Охапку пихали в вещмешок или за пазуху шинели. Руки у солдата при ходьбе по тропе должны быть свободными. Старшина и повозочный в подвал являлись ночью. Солдатскую еду в тылах \переснаряжали\ переоценивали. Пока она доходила до солдата, её ополовинивали. Даже я, командир роты, не могу выступить в защиту солдатского пайка. Мне тут же делали внушение по телефону. Почему я на передовой среди солдат развожу такие контрреволюционные разговоры. После этого меня вызывали в батальон на беседу по поводу солдатской кормёжки. И я понял. Если я по телефону высказался о пайках, то меня в тот же день заставляли пробежать по тропе туда и обратно. Вызовут, и я должен идти под пули. «Нужно молчать», – подумал я – «а то каждую ночь будешь бегать туда и обратно» Бывали случаи, когда, подбежав к наружной стене, солдат не успевал лечь на живот или ложился и не попадал сразу ногами в отверстие и тут же получал две-три очереди свинца. Пуля в живот – самая страшная и мучительная смерть человека. Иногда солдат успевал лечь и просунуть ноги в окно, но, получив очередь свинца, оставался лежать неподвижно. Некоторые успевали просунуть в подвал ноги, бока и туловище, но в последний момент хватали воздух ртом, захлёбываясь собственной кровью. Были и такие, которые, достав ногами до пола, начинали хрипеть и валились с окровавленным лицом на пол. Другие, просунув в лаз ноги и плечи, оставались в дыре своеобразной затычкой. Тем, которые подбегали к дыре вслед за ними, деваться было некуда. Они метались у внешней стороны, пытаясь увернуться от пуль. В окне торчал убитый. К нему в первый момент ни снаружи, ни изнутри нельзя было приблизиться. Пули визжали вокруг обвисшего тела. Потом тело втаскивали в подвал. И если солдат был ещё жив, ему делали перевязку. \ Ночная охота на наших солдат имела определённый расчёт нагнать состояние испуга и страха. В батальоне грозили своим нерадивым солдатам, что отправят их подвал на перевоспитание.\ Немцы убивали на тропе и у стены подвала не всех, кто попадал под прицел. Они выбирали определённое время и били остервенело длинными очередями. Чаще убивало солдат в том месте, где тропа круто спускалась к подвалу под горку. Солдаты по-разному передвигались, ходили и бегали по тропе. У каждого был свой способ. Один срывался с места и бежал напропалую. Другой, обливаясь потом, полз, не поднимая головы. Важно было живым добраться до подвала. Это, считай, был день твоего рождения. \Идёшь оп тропе и вдруг натыкаешься на ползущего перед тобой солдата и тебе деваться некуда, надо сходить в снег и обходить.\ или такой случай. Двое бегут навстречу друг другу. Тропа узкая, как одноколейная железная дорога, как разъехаться, как разойтись? Кто кого на тропе должен пропустить? \А ты сзади подстёгивает тебя пулями в спину.\ Когда немцы начинали бить вдоль тропы, трассирующие пули попадали в места оледенелой корки, разлетались рикошетом во все стороны и вверх. Так немцы нащупывали пулями узкую полоску тропы и поджидали на ней свою очередную жертву. Некоторые новички солдаты, наслушавшись страшных рассказов об этой тропе, боялись вообще выходить на тропу. Они весь путь, дрожа от страха, преодолевали ползком на животе. Тропа от льнозавода до подвала работала только в одну сторону в какой-то данный момент. В подвал звонили по телефону и сообщали, что двое солдат ползут по тропе. \Тропа на всё это время, считай, была занята.\ Мы старались не допускать встречного движения. При неожиданных встречах на тропе часто бывали потери. Кроме бега сломя голову и ползанья по-пластунски существовал ещё один способ передвижения по тропе. Он заключался в ходьбе плавным гусиным шагом, без резких движений \без малейшего вздрагивания, даже когда в твою сторону пули летят\ Этим способом пользовались трое. Я, старшина роты и его повозочный. У нас троих хватало выдержки идти по тропе, не торопясь, делая плавные, едва заметные движения. Старшина роты появлялся в подвала каждую ночь. Он морально и духом был сильнее других. Он до тонкостей знал, где и когда можно ждать обстрела. Наденет чистый маскхалат и не делает резких движений, и немец его не увидит, когда по тропе идёт. Но не у всех хватало воли ходить этим способом. Мелькнуло что-то впереди. Всмотрелся немец в белый мрак ночи. Кто-то пригнулся с испуга. И он весь на виду. Сделал короткую перебежку, упал на тропу, немец тебя тут же увидел и взял на прицел. \Ждёт, когда ты встанешь\. Чем сильнее и напряжённее немецкий часовой будет вглядываться в снежную даль, тем меньше он увидит и вскоре совсем ослепнет. От напряжения у часового в глазах зарябит. Мы это знали и тонко использовали. Случалось и так. Даст немец на пробу очередь по тропе и смотрит. Не дрогнет ли кто на ней, не присядет ли от страха. Трассирующие пули идут иногда прямо в тебя. При виде их ты медленно останавливаешься. Замираешь на месте и ждёшь, когда они пролетят мимо. Ты можешь, конечно, одну из них получить по ногам. Но если ты не выдержал, дрогнул и пригнулся, считай, что вся порция свинца у тебя в животе. Немец обычно бьёт под обрез насыпной бровки из снега. Любое резкое движение может выдать тебя на тропе. Вобрал голову и шею резко в плечи, дрогнул спиной, пригнул чуть хребет к земле, подогнул от страха ноги, поскользнулся, взмахнул в воздухе руками и получай порцию свинца. Вот так ходили мы по тропе туда и обратно. И так каждую ночь, каждый раз идёшь испытывать свою судьбу \под немецкими пулями, на окраине города Белого\. Разуму и воле можно подчинить всё: и опасность, и боязнь, и даже невыносимый страх смерти. Мне этот способ хождения по тропе потом очень пригодился. Как-то собираюсь выйти на тропу, и мне сообщают, только что на повороте убило двоих. Тропа в двух местах проходит по голому склону. Попасть под внезапный обстрел в этих местах – дело простое. Голые места мы со старшиной проходим, как говорят, не дыша. А те, что ползли, попадали под пули. Каждую ночь кто-то из солдат на тропе ловил свою пулу. Каждую ночь кто-то платился здесь своей кровью или жизнью. Мы собирались поставить забор вдоль тропы. Пусть бьют, не глядя, вслепую по забору. Забор из досок и деревянных щитов. Нонам запретил его городить командир полка: – Что за передовая линия, закрытая спереди забором! Мы хотели бровку тропы обложить мешками с песком. Но мешков с песком у наших снабженцев не оказалось. Мы продолжали рыть к подвалу траншею, подкапываясь под мёрзлый слой земли. За день непрерывной работы вперёд продвигались не более трёх метров. В светлое время под мёрзлым слоем разводили огонь. Оттаивали замёрзший верхний слой и разбивали его ломами и кирками. Взрывчатки на эту работу нам не давали. Костров по всей длине тропы разводить не разрешали. Я хотел из отдельных костров поставить вдоль тропы дымовую завесу и оттаять вместе с тем землю во многих местах – комбат обругал меня дураком. После этого я успокоился и на всё наплевал. Работа с рытьём траншей продвигалась медленно. Однажды с рассветом пулемётчик сержант Козлов встал за пулемёт. Он решил осмотреть полосу обороны немцев. Сегодня он особенно изучал её. Накануне ночью на тропе погиб пулемётчик. Он ночью шёл в подвал с коробкой патронов и нёс запасной ствол для «Максима». Сержанта привлекло одно место, на теперешней улице Кирова, где немцы вдоль улицы ставил новый забор. Решив отомстить за погибшего друга, он тщательно установил на пулемёте прицел и дал в сторону немцев длинную очередь… Трое немцев повалились сразу. Сержант козлов сделал паузу в стрельбе и стал наблюдать, что будет дальше. Через некоторое время к убитым подбежали ещё трое. И когда он был готов уже нажать ещё раз на гашетку, по амбразуре ударили сразу два немецких пулемёта. Сноп искр и огненных пуль ворвались в подвал. Сержант не успел отскочить от пулемётного щита, очередной удар свинца рикошетом зазвенел щитом пулемёта. Как перебило ему горло, никто не видел. От самой челюсти до ключицы горло у него было вырвано, его словно отрезало от шейного позвонка. Сержант отвалился от пулемёта, и кровь из горла хлынула во все стороны. Грудь и лицо его были залиты кровью. При выдохе с клёкотом и хрипом кровь выливалась наружу, над дырой пузырилась красная пена. Кровь текла по груди и стекала на пол. Солдаты бросились к нему, пытаясь забинтовать. Но он замотал головой и сорвал повязку. Он ходил по подвалу, хрипел и истекал кровью. Дикие умоляющие его глаза искали среди нас поддержки и умоляли о помощи. Он метался по подвалу, мотал головой и безумным, раздирающим душу взглядом, остолбенело смотрел каждому в глаза. Никто в подвале не знал, что делать. – Иди на льнозавод! – показывая на боковое окно, говорили ему солдаты – Ты здесь обескровишь, погибнешь! Иди! Возможно, пройдёшь! – сказал я ему. Он слышал наши голоса, понимал, о чём мы говорили. Оборачивался каждый раз и одним взглядом заставлял умолкать говоривших. Солдаты цепенели от ужаса. Сержант умирал у нас на глазах. Он умирал страшной мучительной смертью. Через некоторое время он подошёл ко мне и рукой показал на пистолет, что висел у меня на ремне. Он просил, чтобы я пристрелил его из пистолета, прекратил его страшные мучения. – Что ты, милый! – воскликнул я – Я не могу этого сделать! На, возьми сам и иди куда-нибудь в дальний угол, только не на глазах это делай. Я не могу! Ты понимаешь, не могу! Я не прощу потом себе этого всю жизнь! Сержант всё слышал и всё понял, но пистолета у меня не взял. – Вылезай наверх и иди на льнозавод! Немцы сейчас спят, за тропой не смотрят. Спокойно пройдёшь! – Слушай, сержант! Это твой единственный шанс! Иди во весь рост и ничего не бойся. Но он снова замотал головой. Он не решался выйти наверх из подвала. Он не хотел. Он чего-то боялся. Боялся он не смерти. Она уже стояла у него перед глазами. Он боялся выстрелов. Страшился расстрела. Он храпел и брызгал кровью, он метался по подвалу взад и вперёд. Через некоторое время он ослаб, ушёл в дальний угол, притулился там и затих. К нему никто не смел подойти. Каждый понимал, что он умирает, что жизнь покидает его, уходит медленно и навсегда. Он истекал кровью и никто не мог ему помочь. Он был одинок в своих муках и страданиях. К вечеру старшина Панин (командир стрелкового взвода) поднялся и пошёл в дальний угол посмотреть на него. Сержант сидел в углу, откинув голову к стене. Открытые, полные тоски глаза его были уже неподвижны. Он умер от потери крови. Как можно было его спасти? Как можно было помочь этому человеку? Сержант Козлов погиб на глазах у людей, страшной мучительной смертью. Ночью его тело вынесли наверх, положили у обрушенной кирпичной стены и тихо обложили разбитыми кирпичами. Никакого памятника, никакой надписи на его могиле нет, и сделать этого мы в тех страшных условиях физически не могли. Каменная могила его была рядом с подвалом. Ни звёзд, ни обелиска на его могиле не осталось. После войнё гору битого кирпича сровняли с землёй, когда разбирали битый кирпич на постройку печек и каменных фундаментов домов. Известно только одно – место, где погиб пулемётчик сержант Козлов. А где его могила, теперь никто не знает. Жалко только, что улицу, где погиб этот храбрый солдат, \лицемерно\ назвали именем предателя Березина. Именем старикашки, который летом сорок второго года сумел всю дивизию загнать немцам в плен. Загнал и скрылся в неизвестном направлении. Березин тогда подставил под удар не только 17 гвардейскую дивизию, которая полностью была захвачена в плен, он помог немцам одним ударом расправиться с 39 армией и 11 кавкорпусом. Березину за эти выдающиеся заслуги перед немцами, наши идиоты в городе поставили обелиск. И во всём этом виноват Шершин. Чтобы обелить себя, он после войны начал возвеличивать Березина. Шершину поверили, поставили обелиск. Мне жалко молодого пулемётчика, который погиб в открытом бою лицом к лицу с врагом, с которым тогда сражались в городе белом. Там погибли многие, кто действительно с оружием в руках стоял насмерть в холоде и голоде. Не могу понять только одного, почему память об этом предателе ценится здесь выше, чем отданные жизни и страдания простых солдат, ротных офицеров, который действительно здесь воевали за нашу Русскую землю. «НОЧНОЙ ДОЗОР» Каждую ночь в подвале происходила смена. Каждую ночь в подвале происходила смена. Меняли небольшую группу солдат. Одни, счастливые, уходили из подвала и исчезали на тропе в ночное пространство, другие, почерневшие от холода, молча смотрели им в спины. Были ещё и третьи, которым предстояло завтра покинуть подвал. Они с грустью смотрели на уходящих, но радовались в душе, что им не долго осталось ждать. Завтра наступит и их черёд. Каждый солдат здесь знал, сколько ему осталось просидеть в подвале. Придёт время, и он избавится от холода и адской точки. Пока на замену в подвал шли новые люди, которые ещё не успели побывать здесь, всё, как говорят, терпелось и спокойно переносилось. Каждый ждал тот день, когда наступит и его срок, и он вздохнёт свободно и отправится на льнозавод. Здесь в подвале каждый день казался вечностью. Но вот все свежие люди в подвале перебывали, теперь в подвал должны были идти солдаты по второму разу. Над каждым из них нависла безысходная тень смерти и страха. Никто не хотел возвращаться в подвал. Приказ есть приказ! Старшина роты приносил солдатские харчи, с наступлением темноты собирал новую партию и в ночь выводил на тропу. С ротным старшиной особо не поговоришь. Солдаты на тропу выходили понурые, в подвал приходили подавленными. Одних здесь встречали со смехом, гоготали и держались за животы, другие сами влезали в окно, улыбаясь, корчили рожи и передразнивали смеющихся. Но были и такие. Они тихо сползали на пол из окна и так же тихо и незаметно старались поскорей проскользнуть куда-нибудь в угол. Каждый теперь выбирал себе место по опыту прошлых дней. – Куприянчик! Ты опять попал сюда? – кричали солдаты высокому парню. Он молча отмахивался от них рукой и здоровался со мной. – Ну, ладно, Куприянов! Не обижайся! Я пошутил! Солдаты, сидевшие в подвале, знали, что любая земляная берлога удобней и теплей, чем эта обледенелая каменная могила. На свою судьбу никто не роптал. Беспозвоночные солдаты терпели всё и всё могли снести. Подвал был мерилом человеческих страданий. Кто из солдат в январе там побывал, у того на всю жизнь осталась в памяти зарубка, как глубокая рана. Для наблюдения за немцами мы наверх выставляли двух часовых. Наверху, над подвалом, сохранился небольшой угол между двумя обрушенными стенами. В этом углу, посматривая кругом на город, стояли наши часовые. Зимние дни короткие. В светлое время смену солдат не проведёшь. Двое солдат отстаивали наверху от темна до темна. Ночью часовых меняли два раза. В итоге получалось три смены в сутки. Обязанностью часовых было весть наблюдение. При внезапной атаке немцев часовые должны были выстрелами предупредить нас. Такие порядки были здесь установлены до нас, мы их придерживались и не меняли. Мы опасались, что немцы могут незаметно подобраться к подвалу, забросать нас в окна гранатами. Кроме обстрела входного отверстия и тропы из пулемёта они никаких вылазок зимой в нашу сторону не собирались делать. Но однажды перед рассветом там, наверху, раздался винтовочный выстрел. В подвале в эту ночь дежурил старшина. Услышав выстрел, старшина вскочил, выбрался наверх и огляделся кругом. – Куда ни посмотрю – везде всё тихо! – рассказывал он потом – Гляжу, один из часовых упёрся спиной, сидит в углу. Старшина вернулся и доложил мне. – Товарищ лейтенант! Один из часовых получил тяжёлое ранение, выбыл из строя. – Куда ранен? – спросил я. – В живот! – Как пуля может попасть в живот? Когда нижний край окна находится на уровне груди. Он что? С поста уходил? – Да нет! Как стоял в углу, говорит, так и ранило. – Возьми бинты! У него, наверное, кровотечение. Пойдём вместе, надо посмотреть, что там. Я поднялся нехотя с пола, подошёл к лазу, прислушался, подождал старшину, пока тот ковырялся в мешке, доставая перевязочные пакеты. Но вот всё готово, и мы осторожно полезли вверх. – Пуля не могла пролететь так низко, – сказал я, подходя к раненому. Солдат, опустив голову, сидел в углу. Он откинул к стене обвисшее тело и растопырил ноги. Между ног была видна тёмная лужа крови. Он закрыл глаза, слабо дышал и совсем не двигался. Руками с двух сторон он упёрся в пол. Винтовка валялась откинутая у стены пролома. Я посторонился. Старшина подошёл и нагнулся над ним. Но перевязывать было уже поздно. Я ещё раз оглядел угол и обе части разрушенной стены и убедился, что они достаточно надёжно прикрывают от пуль немецких часовых. Случайная, шальная могла ударить только в голову, в грудь или плечо. Это было необычное и неслучайное ранение. Я понял ч первого взгляда, что это самострел, и что на этот счёт у меня будут большие неприятности. Ковалёв и Карамушко мне этого не простят. Скрыть факт самострела нельзя. Второй часовой потом всё разболтает. Рисковать с этим нельзя. Кто он? Участник или организатор самострела? Солдат, получивший пулю в живот, не дышал и не двигался. Холод и большая потеря крови сделали своё дело. – Ну что, Метрушкин? Как всё произошло? – Я не Метрушкин, я, товарищ лейтенант, Моняшкин. – Ну-ну! – сказал я и забрал из рук Моняшкина винтовку с тёплым стволом от выстрела – Какая теперь разница, Матрёшкин ты или Моняшкин! Меня отдадут под суд, а тебя пошлют в штрафную. Проводи его в подвал! – сказал я старшине, – И поставь около него часового! Ты, брат Моняшкин, теперь арестован. – Вернешься в подвал, будешь сидеть под охраной. Пойдёшь сюда, старшина, возьми с собой двух солдат. Нужно труп убрать. Отнесите его за стену и забросайте кирпичами. Пусть возьмут с собой лопату. Кровь на снегу засыпать снегом надо. А то на психику часовым будет влиять. Всё это я сказал старшине. Старшина с солдатом спустился в подвал. Я остался стоять вместо часового. В ногах у меня сидел убитый при самостреле. Одинокий выстрел в ночи совсем не потревожил немцев. И можно даже сказать, наоборот: они по тропе совсем перестали стрелять. Выстрел всполошил только нас, потому что мы его давно ждали. И теперь вокруг по-прежнему было всё тихо и спокойно. Я смотрел на ночной город, на неясные очертания домов. Немцы тоже побаивались нас. Открыто по городу не ходили. Хотя наши солдаты в их сторону совсем не стреляли. Возможно, где-то и пересекали они открытые места, но разве ночью разглядишь всё точно, разве увидишь, где они идут? Когда-то здесь жили русские люди. В труде и заботах протекала их мирная жизнь. Теперь по улицам города ходили немецкие солдаты. Кто бы подумал, что они вот здесь будут ходить? Что там дальше, за крайними домами? В каких из них стоят пулемёты, в каких живёт немецкая пехота? По первому взгляду трудно сказать. Выходить сюда каждую ночь самому наблюдать до утра нет никакого смысла. Лежать голодным на полу по целым суткам – появится не только апатия и полное безразличие ко всему \но и желание молчаливо сопротивляться\. Даже солдат меняют в ледяном подвале. А я был поставлен в особые условия. У меня не было замены. Не было желания лазить каждую ночь на верх подвала. Я сидел в подвале безвылазно уже месяц. Полковые были довольны, а у меня от холода мозги стали примерзать к черепной коробке. Им нужно было, чтобы я сидел в подвале. Вот я и сидел. Вы приказали мне, вот я и сижу в подвале. Где-то рядом здесь ходят немцы. Собрать бы сейчас небольшую группу, взять ночью да на немцев рвануть. Вполне можно было без потерь захватить несколько домов. А что это даст? Награды для начальства? Рывок может надвое выйти. Захват домов без выстрела и потерь, или все легли под пули немецкого пулемёта. В таком деле, как у фальшивой монеты, две стороны. Чтобы было наверняка, мне нужно самому раз десять с напарником сползать в город. Изучить всё кругом, проверить досконально. А кому это надо? Если я для Ковалёва просто затычка! Но вот заскрипел снег под ногами, старшина с двумя солдатами поднялся на верх и подошёл ко мне. – Сделал всё, как надо, как вы сказали! Убитого унесли. Лужу крови присыпали снегом. Из подвала подняли наверх двух часовых. Они сменили меня и я отправился обратно в подвал. Спустившись в подвал, я подозвал к себе Митрошкина, или, как его, Маняшкина. – Ну что, Матюшкин! Давай, выкладывай. Говори! Как было дело? За что ты убил своего напарника? – Я не убивал. – Советуюу тебе не крутить! Выкладывай сразу всё начистоту и не путайся. Будешь врать – расстрел заработаешь. \Там из тебя быстро врага народа сделают\ Ты уж давай, брат, говори всё начистоту. У солдата блуждали глаза. Он дрожал и хотел взять себя в руки. Он понял, наконец, что его могут присудить к расстрелу. Расстреляют, как врага народе, по законам военного времени. – Вы что, земляки? – спросил я. Он что-то хотел сказать, но начал сбиваться и несвязанно что-то промычал. Потом он передохнул и ответил: – Мы с одного району. Он первый сказал: «Стреляй мне в ногу». – А ты ему взял и засандалил в живот? – Я очень боялся, он сказал: «Стреляй!» Я выстрелил. Он сразу присел. Я очень испугался, когда попал ему в живот. – Вы, наверное, с ним заранее договорились? Ты его в ногу, а он тебя в руку. А почему ты стрелял первый? Он что, тебе угрожал? – Он сказал: «Как ты будешь одной рукой стрелять?» – вот я и выстрелил. Я боялся, что он убьёт меня. – Ну вот что, Моняшкин. Придётся тебе отправиться в полк для беседы к следователю. Старшина, присмотри за ним, я в батальон позвоню. Такого не скроешь! – Стрелявший утверждает, – сказал я по телефону, – что тот ему угрожал. Он боялся, что тот его убьёт. Куда его девать и что с ним делать? Мне приказали немедленно прибыть самому в батальон и лично доставить солдата. Они опасались, что солдат по дороге сбежит. – Давай, собирайся! Пойдёшь со мной в батальон. Заварушка началась. Старшина! Дай мне и ему по чистому маскхалату! Лишнего там не болтай. Рассказывай всё, как было! А то начнёшь путать – подведёшь сам себя под расстрел. Мы по очереди вылезли наверх через окно в боковой стене. Сначала поднялся я, потом он. На тропе мы поменялись местами. Он пошёл впереди, а я сзади. Открытый опасный участок тропы мы прошли с ним безопасно и тихо. Немцы по тропе не стреляли. Командир полка Карамушко в самостреле усмотрел мою халатность и нерадивость. Моя карьера как командира роты тут же лопнула. Я повис в воздухе на неопределённое время. Из полка меня отправили в батальон. Из батальона – опять в штаб полка для дачи объяснений. В полку меня допросили и отправили обратно в батальон. В общем, ходил я туда-сюда, а они делали вид, что это так и надо. Когда я явился в Журы, политрук Савенков был уже в деревне. Он ходил надутый и очень важничал. Он сделал вид, что в самостреле виноват только я. Я не занимался людьми и моральной стороной их воспитания. – Воспитанием в роте занимается политрук. Вот и пускай он это дело расхлёбывает. Моё дело с солдатами воевать! Мне даже сказали, когда я вернулся снова в батальон: – По донесениям Савенкова, тебя можно считать морально неустойчивым. В одном из донесений он даже сообщает, что ты собираешься перейти на сторону немцев. И поэтому он за тебя не ручается. – В чём же это выражается? Где факты? Где доказательства? – А доказательства не нужны. Тебя просто подозревают. – Значит, конкретных фактов нет, а есть домыслы Савенкова и его предположения! А я вот к немцам не ушёл, и идти к ним не собираюсь! – политрук Савенков докладывает, что ты умело маскируешься. – Ну и идиоты! Они, конечно, знали, что в каменном подвале мёрзли люди. И когда я сказал об этом и добавил, что во всём виноваты только они, в ответ услышал поток отборной брани. – Правильно Савенков говорит, что ты морально разложился. Командный состав в ротах почти совсем повыбивало. Офицеры в полках сохранились почти все. Савенков прятался в тылу от самой волги, так что полковые и он сохранились для будущих поколений. Потом, после войны, он будет говорить, что воевал на переднее самом крае. А тогда он твёрдо усвоил формулу военной мудрости: пусть на передке Ванька-ротный сидит. Дело было даже не в том, что он не было вообще человеком, в любой ситуации и всегда он ловчил, виноватыми были другие. Возможно, вы спросите, почему. Потому, что он был трус и цеплялся за жизнь, не гнушаясь средствами. А как же остальные? А остальные, сами видите, сидели в Журах, Шайтровщине и ещё дальше – в Кобыльщине и Жиздереве, хотя полк по фронту был сосредоточен в одну линию на окраине города Белого. Я долго сидел на крыльце, ходил взад-вперёд около избы, пока, наконец, меня не вызвали для последнего разговора. Солдат-верзила с сытой, заспанной рожей, охранявший избу, посмотрел на меня, как будто он знал мою дальнейшую судьбу и по ней решение. Он боднул мне в сторону двери головой, иди, мол, вызывают тебя. Обратно в роту и в подвал я не попал. Меня сняли с должности командира роты и для исправления послали держать оборону на мельницу, что стояла на берегу реки ниже льнозавода. Мельница тоже располагалась, так сказать, на переднем крае. Но, по сравнению с подвалом и часовней, она стояла от немцев на приличном расстоянии. Место тихое. Пули совсем не летают. Мне даже по началу казалось страшно. Я каждую секунду ждал выстрела. На мельнице стоял пулемёт «Максим», находился пулемётный расчёт, жил политрук пулемётной роты Соков. – В качестве кого я туда иду? – спросил я комбата, когда тот окончил со мной говорить. – Ты? – ответил он, что-то соображая. Будешь оборонять мельницу. Вот и всё! – Я что-то не понимаю. На мельнице стоят пулемётчики, и с ними сидит политрук. А что там буду делать я? Вы что, мне даёте роту, взвод или просто пару солдат? – Вот именно, пару! Разрешаю тебе взять в роте двух стрелков солдат. И отправляйся с ними на мельницу. – А кто будет отвечать за оборону мельницы? – Ты, конечно! Пулемёт тебе будет придан, а пулемётчики не твои. – Что-то ты мне, комбат, закрутил голову и запылил мозги. За мельницу отвечаю я, а войск у меня всего два солдата. – Отправляйся на мельницу, потом с тобой решим. Разговор окончен! – А по должности кто я? – По должности ты командир роты! Для усиления гарнизона мне разрешили из роты взять двух солдат. Я дождался вечера, вызвал их из подвала и зашагал на мельницу расстроенный, что так всё случилось и что мне не везло. Нужно же было случиться самострелу! Я много раз был с ротой под страшным огнём, мы попадали в безвыходные ситуации. Но никогда у меня в роте самострелов не было. Кто знает! Может, топнуло человеческое терпение? Может, голод заставил пойти на это? Может, в других ротах и были подобные случаи. Но наши обычно такие дела держали в строгом секрете. На этот раз я сорвался по службе. Судьба уберегла меня от худшего. Я, конечно, этого не знал. Так началась моя новая жизнь! На мельнице я встретил новых людей. Солдат здесь было немного. Пулемётный расчёт, два моих солдата, политрук Соков и я – лейтенант. Вот, собственно и всё, весь наш боевой гарнизон. «МЕЛЬНИЦА» Зима с сорок первого года на сорок второй была на исходе. Ночами по-прежнему было холодно, и мороз солдат на посту пробирал до костей. А днём, когда над снежной равниной вставало солнце, бесконечные кристаллы льда сверкали холодным и тёплым огнём. Солнечных дней становилось всё больше, и его свет чувствовался каждому на щеках. Мельница! Сейчас на этом месте лежат большие и круглые белые камни. Они, как солдатские кости, разбросаны кругом по полю боя. Тяжёлые и шершавые белые жернова вросли в землю и обросли зелёной травою. Иному человеку, наступившему на жёрнов ногой или присевшему на него отдохнуть, и в голову не придёт, что здесь была кровавая война, что именно здесь проходила линия нашей обороны. Вон тот мальчишка, лет двенадцати с удочкой, что устроился у взорванной плотины на берегу реки, разве он думает, что здесь шли бои, что здесь громыхала война, и умирали солдаты? Он больше занят вопросом, почему у него не клюёт. Подошло время, когда люди военного поколения уходят из жизни. Они уносят с собой таны воны. А молодые, что здесь живут, не знают, что такое война. Именно здесь, где лежат белые шершавые жернова, и стоят редкие лиственные деревья, воевали наши солдаты. Деревья стояли и тогда. Они немые свидетели того военного времени. Около мельницы в то время стояли две рубленых избы. В одной избе жили солдаты, а в другой размещались мы. Мы это я и политрук Соков Пётр Иваныч. Мельница была тоже деревянная и стояла недалеко от берега реки в виде высокой башни, похожей на усечённую пирамиду с квадратным основанием. Снаружи она была обшита досками и покрашена в желтоватый цвет. Краской, которая называется суриком. Сверху мельницу прикрывала небольшая железная крыша. По всей высоте мельница делилась на три этажа. Вверх вела деревянная лестница. На каждом этаже стояли жернова. Зерно в мешках подавалось канатным подъёмником на верхний этаж и там через приёмный чердак крюком подавалось к приёмному бункеру. Из бункера по лоткам оно сыпалось на каменные жернова. Вертикальный приводной ствол вращал жернова и уходил под землю. Там стояли зубчатые колёса, соединявшие привод с горизонтальным валом, который шёл от плотины. Плотина была взорвана, и приводы не работали. Я описываю устройство мельницы, потому что я сам по ней лазил и изучал ей устройство. Теперь о войне. До моего прихода здесь, на мельнице, была тишь, гладь и Божия благодать! Немецкие пули здесь не летали. На мельнице стоял станковый пулемёт, но пулемётчики из него не стреляли. Солдаты пулемётного расчёта посменно выходили на пост. Был один пост на всю мельницу, на пулемётный окоп и на два дома, где жили и спали солдаты и их политрук Пётр Иваныч. Пулемётчики сразу признали во мне мастера пулемётного дела и огня, когда я осмотрел пулемёт, сделал им замечания и дал кой-какие советы. Сначала они приглядывались ко мне, а потом постепенно вместе со мной занялись изучением немцев в городе Белом. Немцы не обращали внимания на мельницу. Она стояла как бы в глубине, и с мельницы в сторону города никогда не стреляли. С моим приходом немцы могли заметить необычное хождение солдат. Чего раньше на мельнице никогда не было. Они на всякий случай подкатили противотанковую пушку и поставили её в воротах одноэтажного дома, который и сейчас сохранился со времён войны. Немцы полагали, что на мельнице может что-нибудь произойти. Они обнаружили, что на мельнице вдруг проснулись русские солдаты. Но немцы ошиблись. На мельнице по-прежнему спали во всю. И не просто спали, а спали, кто кого переспит. Пётр Иваныч решил, чтобы я не увлекался чересчур пулемётом, и предложил такую игру: кто кого переспит. Кто встанет раньше со своей кровати, у того от порции хлеба будет отрезана соответствующая доля. Я никогда не предполагал, что из обледенелого подвала я попаду на железную койку и натопленную избу. Мне отвели железную кровать с переплетёнными железными полосами вместо матраса, и поверх этой решётки была наложена подстилка из пахучего льна. Знаете, как пахнет льняная троста или сырая, сплетенная из волокна льна верёвка? Впервые за всю долгую зиму я снял полушубок, ватные штаны и валенки и завалился спать на кровать. После подвала, во сне я увидел райские сны и цветные пейзажи. Политрук Соков был старше меня лет на пять или на шесть. До войны он работал диспетчером в автохозяйстве. В армии не служил. Офицером раньше не был. Имел шесть классов образования, считал, что этого вполне достаточно. Перед войной вступил в партию. Когда началась война, его призвали, направили на курсы политруков и в январе сорок первого направили на пополнение в город Белый. По прибытию в дивизию его направили политруком в пулемётную роту. – Стрелять я не умею и не люблю! – заявил он, когда я прибыл на мельницу, – Я люблю поспать, поесть, и ты около пулемёта не суетись. Немцев не трогай, и огни не будут стрелять! – сказал он мне откровенно. Он был доволен, когда я несколько первых дней валялся в кровати, не поднимая головы. Спать в тепле и на голом каменном полу была некоторая разница, когда от холода и камней ломает хребет, и застывают мозги. Людям, что лежали в подвале, можно было делать операции без наркоза, заморожены они были основательно. Почему-то в деревне в сильные холода люди залезали спать на печку. Ещё с детства помнил я на этот счёт стихотворение. «Зима холодная настала. Сенная возка подошла. Тепла у бабушки не стало. На печке бабушка спала». Политрук соков не возражал, чтобы я опробовал пулемёт в стрельбе. Он не имел ничего против моих наблюдений за немцами, которые я вёл, залезая на верхний этаж мельницы. Петя не знал, что я готовлю немцам кару и акцию возмездия. Он боялся ответных ударов с их стороны. Несколько дней подряд мы рано вставали и по целому дню не слезали с мельницы, потом снова бросали своё занятие и отправлялись спать. Двое суток спали, не поднимая головы. Поднявшись с кровати, я снова шёл в солдатскую избу, садился на лавку и, покашливая, говорил: – Наших солдат на тропе каждый день убивают. Пулемётчик Козлов погиб на моих глазах. А вы всё спите. Кто отомстит за убитых солдат? Пулемётный окоп на закрытой позиции не готов. Знаю, что земля мёрзлая. Долбить приходится. Но без окопа наша затея лопнет. Нужно копать! – мои слова действовали на солдат. Они подымались с пола и были готовы сейчас же отыграться на немцах. Они хотели отомстить за погибшего пулемётчика их роты, сержанта Козлова, который был в подвале. Я рассказал, как он умирал на глазах у меня. – В нашем деле нужны упорство и выдержка. Мы должны выследить немцев и убивать их так, чтобы они и не подумали, что их бьют именно с мельницы. Вести огонь из пулемёта будем с обратного ската. Пули будут бить, а пулемёт не видно. У немцев глаза на лоб полезут. Ты их бьёшь. А откуда? Они понять не могут. – Для этого нужно кривое ружьё! – сказал кто-то из солдат. – Ружьё не ружьё, а баллистическую кривую полёта пули можно использовать. И не только использовать, а применить на практике с умом. И самое главное. Пулемёт нужно заранее пристрелять одиночными трассирующими по выбранной цели. Убивать мы немцев будем за забором на главной улице. – Теперь она называется Кирова. А тогда для нас она была без названия. Она выходила из города на большак в сторону Духовщины. Улица на всём протяжении между домами была перекрыта дощатым забором. За забором по улице день и ночь ходили пешие, и ездили повозки и машины. На заборе в нескольких местах я выбрал прицельные точки. Пулемёт поставили в открытый окоп и пристреляли его одиночными трассирующими. Точки прицела выбрали на заборе, на уровне живота идущего за забором немца. Когда пристрелка была несколько раз проверена, мы вынули трассирующие из пулемётной ленты. При обстреле в забор пойдёт очереди бронебойных пуль. А их в полёте не видно. Я рассчитал всё просто. По моей команда пулемётчик нажимает гашетку пулемёта и в забор летит порция свинца. Гнилые и старые доски, которыми отгородились от нас немцы, для бронебойных пуль не помеха. Доски будут пробиты насквозь без всякой потери убойной силы. По ту сторону забора они сделают своё чёрное дело. Я рассчитал и время полёта пули так, чтобы там, за забором пуля и выбранная жертва встретились. Впервые за забором был убит довольно жирный немец. Он медленно и не торопясь шёл вразвалку по главной улице города. Его фигура мелькнула в прогалке между домов. Я в бинокль с мельницы хорошо просматривал этот прогалок. Помню, как всё началось. Немец прошёл прогалок, а я стал считать его шаги. Я учёл расстояние, когда он подойдёт к выбранной точке прицеливания за забором. Время полёта пули, чуть меньше секунды, тоже учитывалось. Он шёл за забором, а я считал его шаги и в нужный момент подал команду наводчику нажать гашетку пулемёта. Немец успел сделать ещё два шага, пока пули летели к забору. И вот они встретились. Немец получил полную порцию свинца. Ловушка довольно просто и точно сработала. Всё было рассчитано точно. По прогалку между домами мы никогда не стреляли. В прогалок я наблюдал за немцами, выбирал для расплаты очередную жертву. Немцам и в голову не приходило, что именно отсюда мы ведём расчёт шагов выбранной жертвы до смерти. Когда жирный немец попал под пули, к нему со всех сторон кинулись другие немцы на помощь. В прогалок было видно, как туда немцы побежали. Я подал команду взять прицел на одно деление ниже. Пулемётчик опустил ствол и дал длинную очередь. Немцы, видно, кучей собрались около убитого, полагая, что он попал под шальную пулю. Я в бинокль с мельницы видел, что после нашего вторичного обстрела за забором произошла какая-то возня. Появились, видно, новые раненые и убитые. Пулемёт взял прицел ещё ниже, и, поводя стволом, дал ещё несколько очередей. Мы держали улицу под огнём до самого вечера. Короткими и длинными очередями били по забору. С верхнего этажа мельницы было видно, как беспорядочно забегали немцы и заметались по улице при подходе к этому месту. Немцы не догадались, что за ними следят с мельницы, а бьют из пулемёта совсем с другой стороны. Наблюдая за передвижением немцев по улице, мы стреляли всех подряд. Мы меняли время и место обстрела. Мы путали немцев. Определить на глаз темп шага или скорость движения повозки по улице города было нетрудно. Ширина прогалка между краем забора и углом дома по угломерной сетке бинокля составила 0-25 тысячных. Теперь нужно было определить расстояние от пулемёта до забора. Ширину прогалка я решил измерить шагами. Немцы шли по прогалку и отмеряли шаги, а я их подсчитывал. Количество шагов они делали разное. В зависимости от роста и торопливости по моим подсчётам получались разные цифры: 18, 17 и 16. Один толстый немец на коротких ножках прошёл прогалок за 20 шагов. Я взял среднюю величину, 17, и подсчитал ширину прогалка. У меня получилось 12,75 м. По формуле Д= В*1000.н я получил: расстояние от пулемёта до забора – 510 метров. Пуля пролетает расстояние 500 метров за 0,7-0,8 секунды. Усреднённый шаг немец делает тоже за это время. Опережение выстрела составляет один шаг или два корпуса немца, измеряя по животу. Я выбрал несколько точек прицеливания на глухом досчатом заборе. В открытом прогалке мы немцев стрелять не стали. Я подсчитал и другие расстояния от края забора до точек прицеливания. Вот, собственно, и все расчёты! Мне не представляло никакого труда подать команду «Огонь!» в нужный момент. Но остановись немец за забором до подхода к выбранной нами точке, и он бы остался жить. Но немцы знали, что забор находится под обстрелом, боялись попасть под пули и ускоряли, как правило, шаг. Жертва идёт и всегда торопится к своему последнему рубежу. Мы меняли точки обстрела, и это вводило немцев в в заблуждение. \Мы видели, что они, ничего не понимая, затыкали тряпьём дыры в заборе\ Прежде, чем поймать новую жертву, я просидел на мельнице целую неделю. Я изучил все пути, по которым в городе ходили и передвигались повозки. Я составил подробную схему, потому что карты города у меня не было. Мельница, льнозавод и деревня Демидки из многих точек города были хорошо видны. Немцы привыкли, что с мельницы никогда не стреляли. Тем более, что пулемёт мы отнесли ближе ко льнозаводу. Заслуга Петра Иваныча была в том, что он не разрешал раньше своим пулемётчикам стрелять из пулемёта с мельницы. Немцы решили, что наблюдение и стрельбу ведут с льнозавода, и в отместку стали обстреливать два покосившихся домика, где теперь обитал командир роты Макарьин и политрук Савенков. Немцы не знали, откуда точно бьёт пулемёт. Ни днём, ни ночью вспышки выстрелов пулемёта нигде не было видно. По невидимому рою пуль, который врезался в забор, нельзя было определить, откуда бил пулемёт. \Немцы могли построить двойной забор, засыпать его песком или обложить мешками, но, в условиях суровой зимы, это дело выглядело не таким простым.\ Мы не стреляли по легковым машинам, не хотели тревожить и раздражать немецких офицеров. Мы делали своё чёрное дело по малому. Мы убивали немецких солдат. \Для солдат двойной забор никто городить не будет.\ Потери простых солдат на войне никого не волнуют. У немцев за забором проходила основная магистраль. По ней они выходили из города и ездили в Духовщину. В Духовщине в то время стоял немецкий армейский штаб. \Как рассказывал один пленный, на площади в Духовщине был сооружён глубокий связной блиндаж. Он имел прямую связь с бункером в Смоленске. Я видел его потом. И нигде при движении на запад нам не встречались подобные сооружения.\ Но вернёмся к забору! Забор прикрывал улицу и упирался одним краем в дорогу. Он обрывался в том месте, где стоит теперешний интернат. А другая сторона уходила в города и пряталась за домами. Чтобы сбить немцев с толку и заставить поверить в случайный характер обстрела, мы давали короткие очереди иногда просто так, не подлавливая никого. Обстрел вслепую ночью тоже приносил свои плоды. Мы чувствовали, что задели немцев за живое, потому что они начинали озверело бить по двум домикам у льнозавода из пулемётов. Мы ежедневно меняли время обстрела и расчётливо брали свою дань и жертву за забором. Немцы стали тщательно изучать наш передний край. Из больницы, что стояла правее мельницы, они установили постоянное наблюдение. Они пристально следили за нами и готовили нам расплату. \Они воспользовались нашей беспечностью и засекли все ходы и выходы\ Они постепенной узнали, где мы спим, где мы сиди и греемся на солнышке, где и в каких избах у нас топятся печки, где жарим мы тухлые блины и куда потом бегаем, на ходу расстёгивая пуговицы. Тщательным наблюдением немцы установили, когда мы ложимся спать и когда встаём. Откуда утром выходим, потягиваясь и зевая. Теперь мы были у них на прицеле. \Но не на винтовочном и пулемётном, а на оптическом артиллерийском прицеле противотанковой пушки.\ Пушка стояла напротив, в створе ворот одноэтажного каменного дома. Он и сейчас стоит на том самом месте. Посмотрите на столбы в воротах и стены дома. Они все снарядами изъедены. Но немцы не торопились с ответным ударом. Они почему-то медлили и чего-то ждали. Может, сомневались в своих расчётах. Может, собирались нанести удар наверняка. Возможно, они не хотели нас зря потревожить и спугнуть. Их смутило одно обстоятельство. Дело в том, что голодные солдаты, обшарив все закоулки, этажи и лотки на мельнице, наткнулись на большой моток льняного шпагата. Я попробовал крепость ниток на разрыв и пришёл к выводу, что они выдержат приличную нагрузку. Это была кручёная самотканая льняная нить. Мне сразу пришла идея запустить в сторону немцев змея. Если змея поднять вечером, в тёмное время суток, то запуск его немцы в первое время не заметят. К хвосту змея можно будет привязать консервную банку с паклей, намоченной бензином. Ветер в те дни был устойчив и дул в сторону немцев. Накануне целый день мы кололи щепу. Она была особенно хороша из сухих еловых поленьев. Наколотые планки связывали между собой и крепили к ним материю. Настал вечер, мы размотали шпагат. Двоен солдат отошли вперёд. Хвост с банкой зажгли и опустили в яму. Всё шло хорошо. По моему сигналу приподняли змея и пустили кверху. Я немного разбежался, натянул бечёвку, стал подёргивать, и змей набрал высоту. Как и следовало ожидать, самого змея в ночном небе не было видно. Горящая банка стала быстро подниматься вверх. В первый момент немцы её даже не заметили. Огонь подымался всё выше и выше и постепенно уходил в сторону города. Через некоторое время змей уже болтался высоко над головами у немцев. И вот они увидели мелькающий огонь наверху. В первый момент они растерялись \, выстрелили два раза и потом на время притихли\. Они ждали, что вот-вот завоют и ринутся к земле авиабомбы. Но потом они открыли по горящей банке стрельбу. Они били трассирующими изо всех пулемётов. Но в летающую на хвосте змея банку они не могли никак попасть. Огонёк плясал в ночной высоте, всё больше приближаясь к середине города. Бензин в консервной банке и без пакли очень долго горит. Час, два или три. А по огню со всех сторон полетели трассирующие \разных оттенков. Через некоторое время немцы стреляли изо всех видов оружия. Огонь в консервной банке продолжал над городом болтаться.\ Ни одному, даже лысому, фрицу в голову не пришло, что мы дразним их и издеваемся над ними. Они были уверены, что это наш самолёт. И что от мотора огонь виден на выхлопе. Так продолжалось часа полтора. Видя, что огонь в банке начинает гаснуть, я оборвал нитку и отпустил по ветру змея. Подхваченная ветром огненная точка, как яркий уголёк, стала быстро удаляться за пределы города. Немцы, как взбудораженный муравейник, до самого утра не могли успокоиться. Мы от души посмеялись и потешились над ними. Стрельба переполошила и наше, сидящее далеко в тылу, начальство. За ночную потеху мне потом \, когда дознались,\ сделали втык \и последнее предупреждение\. На меня подал жалобу Савенков. Он писал, что я своей расхлябанностью навлёк пулемётный огонь на \его землянку\ расположение их стрелковой роты. Петя Соков как-то при встрече проболтался ему, чем я занимался с солдатами на мельнице. Начальство набросилось на меня за то, что я о запуске змея заранее не поставил их в известность. Они никак не могли понять, почему немец вдруг открыл стрельбу и переполошился. Они даже решили, что немец перешёл в наступление на наш передний край. А от переднего края наши начальники сидели, дай Бог, вёрст за пять, не меньше. Это связисты доложили о стрельбе, что немец открыл огонь по всему фронту наших позиций. На следующий день политрук Соков отправился в баньку в полковые тылы. Придя в Журы, он об этом змее и обо мне рассказал. Этого было достаточно, чтобы я приказом схлопотал строгий выговор с последним предупреждением. Змея я пустил на полную катушку. Нитки все были израсходованы, и второго фейерверка устроить не удалось. На следующий день немец притих. Стрельбу прекратил. \Ему нужно было заменить вскрытую систему огня и расположения огневых точек\. Жизнь на мельнице \после облая и строгого выговора\ снова перешла в сонную колею. Пулемёт водворили на старое место. Политрук Соков Пётр Иваныч был этим доволен. Он всегда считал, что беспокойные дела к хорошему не приведут. – От нас никто не требует убивать немцев, – говорил он.-У тебя руки чешутся! Вот ты и достукался! Я вспомнил тот день, когда впервые пришёл сюда. Тогда я на мельнице появился с двумя солдатами. Здесь надёжно и без обрывов работала связь. Даже дежурного телефониста у аппарата не было. Помню, как я вошёл в небольшой дом, стоявший у мельницы. \Там меня встретил круглолицый, начисто выбритый политрук Соков. Я поздоровался, мы разговорились. Петя, как стал я его называть, был тоже москвич. А на войне земляки – это большое дело!\ Петя оказался вполне порядочным человеком, если о политруке судить по личности Савенкова. Пётр Иваныч не делал людям гадостей, не писал на них лживых доносов. Он был уживчивым и простым человеком. Он сам любил поспать и меня откровенно призывал всё время к этому. Однажды он даже предложил мне пари, кто кого переспит. Мы жили с Петей вдвоём в небольшом бревенчатом доме. У стены, обращённой к городу, по обе стороны от печки стояли две железные кровати. Сухого льна было много. Почти от мельницы до льнозавода под снегом стояли большие стога льна. Длинные высокие, с островерхими двускатными крышами. С наступлением темноты в нашу избу приходил солдат и растапливал печь. Сухих дров хватало. Пилили брёвна в сарае, что стоял около мельницы. Солдаты располагались в другом таком же бревенчатом доме. Тишина! Никакой тебе стрельбы! Лежи, спи, сколько влезет! После каменного подвала жизнь на мельнице показалась мне раем. Всё было бы хорошо, если бы нас кормили досыта. К вечеру на мельницу приходил старшина. Это бы другой старшина. Старшина пулемётной роты. Меня и двух моих солдат баландой снабжал он, а подчинялся политруку и командиру пулемётной роты. Старшина заходил к нам в дом, сбрасывал перекинутый через плечо мешок и ставил термос. Он наливал мне и политруку в котелок железной кружкой похлёбки. Потом клал на стол по куску оттаянного хлеба и уходил в соседний дом, где жили солдаты. Однажды, раздав солдатам харчи, он вернулся обратно и, вынув пачку сухого спирта, обратился к политруку. – Товарищ политрук! На складе предлагают взять вот эти таблетки для разогреву пищи! \На пороге стояли солдаты. Их интересовало, что скажем мы по поводу сухого спирта. Все дружно грохнули, когда услышали слова старшины о разогреве пищи. Мы смеялись, держась за животы.\ – А пищу для подогрева тоже будут давать? – спросил зашедший солдат. \ И опять все дружно заржали. – Ты. Наверное, по котелкам плеснул не больше железной кружки? А они ещё хотят, чтоб мы ждали, пока она разогреется\ – Ну и насмешил, товарищ старшина! – Ладно, помолчи! – Я думаю, – сказал старшина, – что эти таблетки на подогрев пускать нельзя. Их нужно употребить вовнутрь. И старшина взял со стола железную кружку, которой только что черпал солдатское хлёбово, и сполоснул её водой. Он набросал в неё белых таблеток сухого спирта. Подержал некоторое время кружку над горящим огнём, разогрел содержимое и обратился к политруку: – Товарищ политрук, с кого начнём? – Давай с лейтенанта! Он старший по званию. И комендант мельницы. Я посмотрел в кружку. Белые таблетки расплавились и превратились в густую коричневую жидкость. – Запивать нужно горячей водой, – пояснил старшина. Старшина головой махнул солдату, видно, всё было уже обдумано, опробовано и заранее приготовлено. Солдат подал старшине чайник с горячей водой, и тот наполнил ею другую кружку. Я сидел на кровати и смотрел \на манипуляции старшины. Он хотел было направиться в мою сторону, но я\ серую тёмную жидкость. Потом я поставил кружку на стол, показал на сидевшего политрука. – А не отравимся? – спросил политрук. – Ну что вы, товарищ политрук! Я уже четыре раза прикладывался. Я, как только взял у кладовщика три пачки на пробу, так мы с повозочным сразу сняли пробу. Я, товарищ политрук, целый ящик выписал на роту. Они не знают, куда его девать. Никто не берёт. Все смеются. Подпишите мне, товарищ политрук, заявку, а то без подписи кладовщик не даёт. Старшина поставил кружки на стол, достал из нагрудного кармана выписанную накладную и положил перед политруком. – Вот здесь, товарищ политрук! Завтра с утра мы обтяпаем всё это дело. Солдат над гильзой подогрел снова кружку, передал её старшине и отошёл к стене. Политрук опрокинул первую кружку, сделал один большой глоток, не дыша, запил его горячей водой, перевёл дух и, пересев на кровать, откинулся к стене на спину. Он обтёр губы от застывшей массы и недвусмысленно заулыбался. – Теперь очередь твоя! Мне не очень хотелось глотать эту липкую гадость. Но старшина решительно надвинулся на меня. – Товарищ лейтенант, это несолидно! – произнёс он, как бы угадывая мои мысли. Я нехотя взял кружку, хлебнул разогретый сухой спирт, во рту и горле у меня остался жирный, застывший осадок. Такое впечатление, как будто в горле застыла расплавленная сальная свеча. Я стал запивать из другой кружки, но слой воска остался во рту и по-прежнему першил в горле. \Горячая вода больше в горло не лезла.\ В голове затуманилось, и внутри где-то зажгло. – С Вашего разрешения! – сказал старшина и проглотил разогретую порцию из кружки. – Жрать не дают! Курева целый месяц нет! Спирт для подогрева пищи – пожалуйста! На хрен солдату подогревание. Ему побольше и посытней в котелок наливай! А тут таблетки, как больному, пожалуйте. Политрук со мнением старшины был согласен, хотя подобных суждений о кормёжке не высказывал. – Разрешите идти к солдатам? – обратился старшина к политруку. – Иди! Но учти! По одному глотку, не больше! Не беспокойтесь, товарищ политрук. Больше одного глотка никто не получит. \Я было хотел попробовать два раза, да горло заткнуло, еле горячей водой промыл.\ Вечером началась и закончилась проба сухого спирта. Потому что на следующий день, когда старшина с заявкой явился на склад, там уже знали, куда и зачем этот спирт выпрашивали в роты. На ящики с сухим спиртом наложили арест. Сутки на мельнице проходили лениво и однообразно. Но солдаты – народ дотошный. Спит, спит, а потом найдёт себе какое-нибудь дело по душе. В одном из лотков загрузочного бункера, что был на мельнице под самой крышей, солдаты нашли с полмешка немолотого зерна. Когда его ссыпали и замерили ведром, то оказалось ведра три. Приводные колёса на мельнице не работали, огромные жернова вручную не покрутишь. Немолотое зерно приходилось мочить и варить. Но каши, как ожидали, из нерушеного зерна не получилось. Жевали набухшие горячие зёрна. Они скрипели на зубах. Ели молча, старательно жевали. Все были довольны. Добытых трёх вёдер хватило на несколько дней. Ели досыта. Растягивать не захотели. Через неделю всё равно всё кончится. Зерно быстро кончилось, и опять наступили голодные грустные дни. Искали съестное и рыскали повсюду. Проходили дни, но ничего не могли найти. Обычно в голодные дни солдаты на мельнице притихали, расходились по своим лежанкам и больше лежали на боку, чем слонялись без дела. Сонное состояние перекидывалось на всех. Спячка, как болезнь, как зараза, придавливала людей, и они ложились, закрывали глаза и старались ни о чём не думать, ничего не видеть. Если случалось какое происшествие или появлялся вдруг старшина, слышалась перебранка, солдаты начинали подниматься. Так было и в этот раз. Прибежал запыхавшийся солдат и с порога закричал, что он нашёл съестное. – Там в яме пахнет съестным! Немыслимое дело! Его слова долетели до солдат. В одно мгновение всех сдуло с лежанок. -Каким съестным? Где? – Они стояли все на ногах. – Целая яма съестного! – с гордостью первооткрывателя объявил он, – На всех хватит! Я там ломом дыру пробил. Оттуда запах идёт. – Где запах? Какая дыра? – И солдаты толпой подались за открывателем. Потом прислали за мной. – Просят Вас, товарищ лейтенант, определить, пригодна ли она к пище! Я нехотя поднялся, пошёл за солдатом. Ещё не доходя до дыры, я в воздухе уловил дохлый и тухлый запах чего-то непонятного. – Вот, понюхайте! Солдаты ломом и лопатами расширили дыру, зачерпнули ведром густой жижи, подняли наверх и поставили передо мной. Я подошёл ближе, слегка нагнулся, и мне в нос ударил острый запах спёртого гнилого месива. Я посмотрел на содержимое в ведре, и понял, что в яме находятся перебродившие картофельные очистки. Здесь когда-то мыли крахмал и варили патоку. Солдаты, недолго думая и не дожидаясь моего ответа, приволокли с мельницы железный лист, набросали дров, развели огонь, бросили на огонь железный лист, плеснули на него воды и стали поливать вонючей жижей. Она шипела. Облако пара поднялось над ней. Вонь ударила в нос. – Давай, снимай! А то всё съестное сгорит! – закричали солдаты. Горячий, засохший блин палкой спихнули с листа железа, разломали на части и, перебрасывая в руках, дули и остужали. Кусок такого блина подали и мне. Но есть его, пока он был горячим, я отказался. Уж очень зловонный запах шёл от него вместе с паром. – Дуся, подай блинов с огня. Дуся, скорей целуй меня! – запел кто-то из солдат, стоявших сзади. С утра до вечера на железных листах шипела картофельная жижа, пуская пары и едкие запахи. Железные листы снимали с костра, стряхивали в деревянный ящик готовую продукцию, давали ей как следует остыть, в общем, имели суточный запас готовой продукции. К запаху постепенно принюхались. \Дым от костров и вонь стояли с утра до вечера\ Но вот с очередным ведром вместе с очистками на железный лист выплеснули дохлую крысу и блины с этого момента прекратили печь. Дыра в снегу теперь воняла дохлой крысой. К концу февраля старшина стал появляться на мельнице ежедневно. Наши прорвались у Нелидово, теперь тылы подошли. Солдатский паёк стали выдавать регулярно. Как-то к вечеру старшина на мельницу прибыл в весёлом настроении. Он загадочно улыбался и потом объявил, что на всех получил положенную норму водки. Он раздал солдатам водку, отмеряя каждому железной меркой по сто грамм, а оставшееся в котелке поставил на стол и сказал, что это на трёх: на лейтенанта, политрука и на него, на старшину. Петя заглянул в котелок, где плескалась прозрачная жидкость и потёр от удовольствия руки. – Как я прикинул, на каждого из нас в котелке не меньше, чем по двести грамм на брата. Кроме водки старшина принёс хлеб, сахар, махорку и мыло. – Перед таким началом не грех вымыть руки с мылом! – предложил старшина. Он велел солдату принести из солдатского дома чайник с горячей водой. – Давай быстрей! Лейтенант и политрук хотят с мылом умыться! В солдатской избе всегда стоял чайник в подогретом состоянии. Пока мы мыли руки, тёрли лицо и шею, старшина сидел на крыльце и курил, посматривая на нас. – Что-то Вы долго, товарищ лейтенант! Всё остынет! – Конечно! Водочка холодная даже лучше! Умывшись и пригладив волосы, мы вошли в дом и сели за стол. И что же мы обнаружили? Котелок с водкой, что стоял на столе, был пустой. Вот так просто! Был с водкой, а пока мы мылись, оказался пустым. Политрук поднял котелок и погладил его ладонью внутри котелка. Дно было сухое. Он отодвинул его в сторону, посмотрел на то место, где стоял котелок, оно тоже было сухое. Политрук нагнулся под стол, оглядел пространство под столом, нигде никаких следов худого котелка или пролитой водки. На столе стояла похлёбка, лежали сахар, махорка и хлеб. Я посмотрел на Петра Иваныча, махнул рукой, выпил через край подогрётую похлёбку, вышел на крыльцо, сел и закурил. Пётр Иваныч не мг успокоиться. Он предпринял вылазку в избу солдат. Самое главное, как он считал, – по свежим следам найти виновника, а потом и похлёбку хлебать. Виновника искал он долго. До самого вечера. Но всё-таки нашёл. Как он потом рассказывал, солдат вошёл в комнату с охапкой дров. Он обычно приносил дрова для солдатской избы и для избы, где проживали офицеры. Вошёл в комнату, бросил дрова около печки и боком задел стол, где стоял котелок. Котелок чуть не полетел со стола, он удержал его вовремя рукою. Но удержав его от падения, он не мог совладать \со своей натурой\. Он нагнулся над котелком и нюхнул содержимое. Что делать? Он решил немного отпить из котелка. Ему показалось, что тут много на троих. По сто грамм не будет. Тут по двести на брата. Солдат поднёс котелок ко рту, закрыл глаза и уже не мог оторваться от содержимого. Он махнул его одним махом, до дна, и только потом уяснил, что ему за это потом не поздоровится. Солдат попятился задом, бочком, бочком вышел наружу, завернул за угол и ушёл незаметно. Солдат видел, как лейтенант и политрук плескались водой, а старшина, сидя на крыльце над ними подтрунивал. На войне всякое, и не такое, бывает! На войне бывает и так, что нашкодивший солдат потом в бою оказывается самым надёжным товарищем. Но как узнал политрук все подробности \с закрытием глаз\, и почему он не назвал фамилию солдата? А ведь политрук сам заходил за полотенцем в дом и был там некоторое время один. А с другой стороны, как не поверить ему? Пётр Иваныч часто вспоминал, как у нас на мельнице выпили водку из котелка. – Помнишь, – говорил он улыбаясь – как на мельнице у нас солдат котелок водки увёл? Но оставим водку, политрука и солдата, эпизод этот особого значения не имел. Однажды утром со стороны Шайтровщины в направлении города на небольшой высоте показался немецкий транспортный самолёт. Лётчик держал курс на аэродром и снизился до предела, идя на посадку. Он, вероятно, не предполагал, что в черте города сидят наши. По самолёту стали стрелять со всех сторон. Били из винтовок. Зениток в дивизии не было. На подходе к Демидкам самолёт загорелся. Лётчик открыл боковую дверку – снизу всё хорошо было видно – и выбросился с парашютом. Самолёт продолжал лететь, оставляя за собой чёрный хвост дыма. Лётчик медленно опускался к земле. Самолёт пролетел над городом и ударился где-то в землю. Огромные клубы чёрного дыма взметнулись в том месте к небу. Лётчик приземлился между мельницей и льнозаводом, под самым бугром у деревни Демидки. Наши солдаты со всех ног побежали к парашютисту. Немец не сопротивлялся. Он отстегнул парашют и поднял руки. Парашют, ранец и немца приволокли на мельницу. Солдаты, бежавшие из Демидок, к разбору трофей и пленного опоздали. Вскоре на мельницу позвонил комиссар Козлов. Он потребовал немедленно все изъятые у немца вещи доставить в деревню Журы. – Парашют и личные вещи немца пойдут в фонд обороны! – объявил он по телефону – И смотрите, не вздумайте разрезать парашют! Предупреждаю категорически! А то вы разорвёте его на бинты и портянки! Имейте в виду, голову снимем. Строгий приказ начальства подействовал на нас. Мы свернули шёлковый купол, закрутили вокруг него стропы и вместе с немцем под охраной двух солдат отправили в Журы. Ковалёв и Козлов за сбитый самолёт получили награды. Собственно случай простой. Сбили самолёт. Лётчика немца забрали в плен. Шёлковый парашют сдали в фонд обороны. Чья-то пуля попала в самолёт и зажгла ему баки. Но зато некоторое время спустя, батальонный комиссар Козлов уже щеголял в шёлковом нательном белье \и комбат Ковалёв тоже\. И как он при этом пояснял, в шёлковом белье, вши не водятся. Так что две главные персоны батальона стали ходить в вошеотталкивающем белье. И этот случай через некоторое время забылся. В начале марта в воздухе появились первые проблески весны. Снег кругом побурел, вобрал в себя влагу и стал рыхлым. Солдаты выходили наружу босиком, садились на крыльцо, дивились яркому солнцу и под лучами его грели небритые физиономии. Разговор шёл всякий, говорили неторопливо. Мимо, балансируя и перепрыгивая, по разбросанным доскам и брёвнам проходил на смену пулемётчик и опять до вечера, до самой раздачи пищи всё затихало и не двигалось. Весна в этот год навалилась на землю сразу. Однажды дыхнула теплом, и кругом всё оттаяло и потекло ручьями. С крыш зазвенела прозрачная капель, а все мы, солдаты, оказались одетыми не по сезону. На всех ватники, полушубки и валенки. По лужам и мокрому снегу в валенках не пройдёшь. Всем нам в ту пору нужны были кирзовые сапоги и солдатские ботинки с обмотками. Вот и сидели мы на деревянных крылечках. Солдаты на своём, мы с Петром Иванычем – на ступеньках своей избы. Потом от одного дома к другому проложили доски и брёвна. Получился своеобразный деревянный тротуар, по которому ходили с мест на место. А ночью, когда холодало, лужи твердели, и мы ходили в валенках по земле. Печи по ночам в солдатской избе и в нашем доме продолжали топить. В избе было жарко, томительно и душно. Утром со сна вылезали на крыльцо схватить чистого воздуха, подышать полной грудью. Лицо обдувало прохладой, было приятно посидеть на ступеньках крыльца. Новый день начинался на мельнице. Но он, как и все, был похож на другие. Как-то раз к вечеру старшина принёс Сокову старые кирзовые сапоги. Соков попробовал их, они были ему в аккурат, хоть и рваные. Теперь Соков стал уходить по делам в тылы. Иногда день или два он не появлялся на мельнице. Возвращаясь он говорил: – Задержали по политделам! Чем ярче грело солнце, тем голоднее становилось с каждым днём на мельнице, тем чаще политрук соков уходил в батальон по политделам. В Журах стоял штаб батальона, в Шайтровщине – полковые тылы. Там ели, пили, курили и обедали регулярно \, пользовались парными баньками\. Чем занимался там Петя, трудно сказать. Он мне не подчинялся по службе, я его не спрашивал. Я старался не вникать и не вмешиваться в его дела. Разговор на эту тему я не заводил, лишних вопросов оп поводу его отсутствия не задавал, и сам он, когда возвращался на мельницу, о том ничего не рассказывал. Но иногда возвращался и приносил небольшую щепоть казённой махорки. И тогда из газетной бумажки солдат заворачивал козью ножку, раскуривал её и пускал по кругу. Собирались все на крыльце, курили по очереди по одной затяжке. Махорку нам, считай, не выдавали целый месяц. Курнув махрятины и распалив душу, солдаты на следующий день дёргали паклю из стен избы и курили её. От такого курева першило в горле и било кашлем, всю душу выворачивало наружу. Здесь на мельнице, с точки зрения войны по-прежнему было тихо и спокойно. Дистанция между нами и немцами была приличная. Немцы в нашу сторону не стреляли, мы их тоже не трогали. Солдаты на мельнице привыкли к безделью, они даже забыли, что они на переднем крае. Продолжали усердно топить печи, по дощатому полу ходили босиком. В каменном подвале в такую сырость и холод по-прежнему сидели живые люди. Страшный холод и сырость – думал я – пронизывает их, и согреться негде. Траншею до подвала ещё не докопали. Солдаты продолжали бегать и ползать по тропе. Я вспомнил своих солдат и оценил своё теперешнее положение. Подвал в моём представлении был загробным миром. Теперь я не жалел, что меня отстранили от роты. Жаль было только солдат, к ним привыкаешь, особенно в тяжкую минуту. Судьба вырвала меня из каменного подвала, я почувствовал себя живым. И кроме того, я навсегда избавился от \пакостей\ Савенкова. С прошлым было покончено. Комиссар Козлов с пристрастием допрашивал Сокова. – Как там лейтенант? Моральное состояние его ты мне обрисуй! Потом, как рассказывал мне Соков, он отвечал: -Обыкновенное, как у всех! – Ты, Соков, не темни! Вы успели снюхаться? Так ты и говори! У него должны быть выпады против советской власти! А ты мне, как у всех! – Мне кажется, что он грамотный офицер и обыкновенный человек, как и я, преданный нашему делу и Родине. – Ну, ты уж того, перебрал! Ты смотри, политрук! На себя много берёшь! Ты за ним присматривай! Доложишь мне, в случае чего! Пётр Иваныч не был дураком, как думали они. Он просто не имел причин заниматься пакостями и писать доносы. Мы с первого дня подружились с ним. Он видел во мне простого человека. Он не понимал, почему он должен говорить не то, что видел своими глазами. Он был не из числа храбрых людей, а даже наоборот, побаивался пуль и всяких выстрелов \и махинаций начальства\. Он, как и все, любил поесть и поспать. И перед солдатами в своих смертных грехах не таился. Солнце с каждым днём поднималось всё выше. Земля прогрелась, и корка льда сошла с земли. Кругом на полях и дорогах раскисла глина. В распутицу днём не пройти. Солдатские ботинки с обмотками для шлёпанья по грязи лучше, чем кирзовые сапоги. Их зашнуровывал, и они, прилипая к грязи, с ног не сползают. В сапогах шагнёшь иной раз, влезешь в грязь, и один сапог остался торчать сзади в глине. Теперь стой на одной ноге и попробуй попасть снова в голенище. Глина вокруг города Белого жирная и необыкновенно липкая. Шагнёшь в грязь, и ноги поедут в разные стороны, их не поднять, не оторвать. Так и скользишь, пока не присосёт тебя в придорожной канаве. Попробуй, вытяни из грязи сапог. Подал вверх ногу, приподнял немного сапог, как будто оторвал от сапога подмётку. На ноге пудовая тяжесть грязи висит. Мы ждали, пока у нас отберут зимнее обмундирование. Дороги раскисли, подвоз прекратился, с продуктами начались перебои. Жизнь на мельнице шла по-прежнему лениво и однообразно. Но вот однажды на мельницу старшина принёс известие, что под больницу наши начали рыть подземный подкоп. Всё это делалось в тайне и строжайшем секрете. Но чем страшней была тайна, тем быстрей она расползалась вокруг. Двухэтажное здание Бельской районной больницы стояло на самом краю города. Деревянные постройки теперешней больницы стоят рядом, по другую сторону дороги. В сторону реки перед больницей был низкий луг. Справа рядом стояла каменная часовня, которое наше командование переименовало в кузню. Подкоп вели именно из неё. Землю из лаза поднимали в мешках. Мешки ставили вдоль стен внутри часовни, а ночью, когда было совсем темно, мешки уносили и высыпали в тылу, да так, чтобы немцы не заметили выбросы свежей земли. Стены больницы имели полуметровую толщину. Это было самое прочное и нерушимое здание на окраине города. Получив как-то разрешение истратить пару снарядов, артиллеристы решили ударить по окнам второго этажа. Они в Демидках выкатили сорокапятку на прямую наводку. Целились долго, сделали два выстрела и по окнам, конечно, не попали. Они уверяли в том, что стреляли для пробы по стенам. Снаряд при ударе о стену мог только брызнуть штукатуркой, оставив на белой стене рыжее, кирпичного цвета, пятно с разводами во все стороны. Оборону больницы немцы держали не меньше, чем ротой. Это был главный опорный пункт на окраине города. Это чувствовалось по ружейному и пулемётному огню, который иногда шёл из больницы. Лестничная клетка в торце здания располагалась и была обращена в сторону города. Вход и выход из здания больницы не просматривался с нашей стороны. Вниз, в подвал, и на второй этаж вела каменная лестница. Немцы круглые сутки несли дежурство на втором этаже. Рамы в окнах отсутствовали. Комнаты первого этажа были пустые. Битте-дритте, прыгайте в окна, занимайте первый этаж! Наш генерал мечтал выбить немцев из здания больницы. По приказу генерала делались попытки наскоком забрать первый этаж. Однажды вспомнили и про меня. Я на мельнице отбывал наказание. Я как штрафник, должен был доказать преданность \делу партии\ общему делу. В полку по-быстрому собрали штурмовую группу. И во главе её поставили меня. И \вот\ перед рассветом нам приказали занять первый этаж. Нам не сказали, почему предыдущие атакующие группы понесли здесь значительные потери. «Неудачно атаковали!» – сказали нам. Мы бросились в окна, надеясь застать немцев врасплох и полоснуть по ним из автоматов. Нам посулили блага на земле и на небе: «Раненых и мёртвых не оставим, всех заберём!». Окна были расположены невысоко, мы подставили друг другу спины и казалось, что все страхи и переживания были напрасны. \Что мог сделать я, когда мной помыкали, как хотели? Я не мог постоять за себя по своей молодости, неопытности и доверчивости\. Мы попрыгали в окна и заняли переднее помещение от стены до стены. Внутренние перегородки в передних комнатах первого этажа были разбиты. Дальние комнаты и лестничная клетка были забаррикадированы рогатками с колючей проволокой. Хода на лестницу и второй этаж не было. Немцы умело и хитро построили оборону. В потолке первого этажа они пробили дыры для опускания гранат. Как только мы появились в передней комнате, сверху на нас посыпались гранаты. Мы повыпрыгивали из окон при первом же разрыве. Было несколько попыток штурмом овладеть больницей. Каждый раз собирали новые группы, но они несли потери, и взять первый этаж так и не удалось. После каждого такого штурма многие оставались лежать у стены. Кого ранило, и кто сам не добежал до часовни, получал порцию свинца от немцев \и оставался пускать трупный дух, потому что была уже весна\. После меня ещё два раза прыгали солдаты в окна больницы. Мы поддерживали их с мельницы огнём пулемёта «Максим». Мы били по окнам второго этажа, прикрывая свинцом своих ребят, которые прыгали в окна первого этажа. После очередного штурма и нашего обстрела немец готовил нам ответный удар. В тот же день, вечером, когда мы сидели при свете зажженной гильзы и поджидали старшину с харчами, два раскалённых снаряда прошуршали от стены до стены. Они без грохота прошли сквозь бревенчатые стены. Только огонь в сплюснутой гильзе качнулся от их движения. Один снаряд пролетел слева у меня над головой, другой – немного правее, он царапнул слегка угол печки. Понятно, что в тот же миг мы с Петром Иванычем бросились на пол. Через минуту последовали ещё два выстрела. Самих выстрелов мы не слышали. Теперь снаряды шли ещё ниже. Они прошли над самой кроватью, легко проткнули бревенчатые стены и ушли на улицу. Гильза от порыва воздуха погасла. Стены от зажигательного снаряда не загорелись. Немцы, видя, что поджечь дом им не удалось, прекратили стрельбу. Наши кровати были точно засечены. А мы с Петей были хороши! Мы хотели на четвереньках выползти через дверь наружу, а сами в темноте уткнулись головами в противоположную стену. Мы долго ползали и шарили руками по стенам в абсолютной тесноте. Потом, наконец, мы выбрались на крыльцо и вдохнули ночного свежего воздуха. Нехорошо, что мы, офицеры, ползаем по полу. Теперь нам нужно было менять место своей стоянки. За переменой места дело не встало. Солдаты ночью вынесли наши кровати и перетащили их в небольшой отдельный домик ближе ко льнозаводу. Здесь мы поселились и организовали свой новый КП. Организации, собственно, никакой, так, одно название. Солдаты это название принимали за чистую монету. Раз так положено, так и называли. Недалеко от дома в открытом чистом поле я приказал отрыть новый пулеметный окоп. Зачем рисковать пулемётом, их в полку раз-два и обчёлся. Вообще, это была не моя забота. В пулемётной роты был командир роты Кувшинов. Но, странное дело, на мельнице он ни рабу не бывал. Я спрашивал Петра Иваныча, почему Кувшинов не заходит на мельницу. – У него важные дела. Он к милашке в какую-то деревню часто ездит. Наша жизнь довольно быстро вошла в привычную колею. По немцам мы не стреляли. Нам приказано было экономить патроны. Дороги развезло. Подвоза почти не было. И вот, после стольких неудач взять больницу в рукопашном бою, Березин утвердил план подкопа. Для того, чтобы поднять на воздух здание больницы, по расчётам саперов нужно было подложить около двух тонн взрывчатки. При меньшем количестве её мог получиться только пшик. Запасов взрывчатки в дивизии не было. При утверждении плана подкопа было принято решение забрать всё, что можно у артиллеристов, почистить все полковые обозы и склады. \Забрали всё, что было, кроме НЗ, мин и снарядов\. Надеялись, что когда дороги подсохнут, боеприпасы подвезут. Из часовни пехотинцев солдат быстро убрали. Пустили туда \маркшейдера\ и сапёров. Они пришли с лопатами и мешками. Вначале рыхлую землю стали брать из-под мёрзлой корки. Потом, когда земля оттаяла, поставили деревянную крепь и столбы по всему наклонному штреку, \как назвал его маркшейдер\. Подземный лаз уходил под землю и шёл с небольшим наклоном под фундамент больницы. Расчёт был большой. Сапёры пройдут под землёй тридцать метров и окажутся под полом подвала больницы. От часовни до наружной стены больницы по прямой было всего двадцать метров. Лаз подошёл к передней стенке фундамента, и её пришлось обходить, углубляя подкоп. Через несколько дней сапёры обошли фундамент, подрыли под пол подвала и стали выбирать камеру, где нужно сложить взрывчатку. Сапёры, работавшие в пороховой камере, отчётливо слышали звуки шагов и приглушённые голоса немцев, сидевших в подвале. Взрывчатка, мины и снаряды, собранные по всем подразделениям, были уложены, пороховую камеру плотно забили, шнур взрывателя вывели наверх в часовню. Почему я знал все подробности подготовки взрыва больницы, потому что меня заранее вызвали и велели возглавить штурмовую группу, которая после взрыва должна будет броситься и занять развалины кирпича. Я согласился, но оговорил условия. Когда перестанут падать камни и глыбы, отделение разведчиков и группа добровольцев из пехоты пойдут на развалины и займут их. И если немец не будет нас атаковать, я со своими двумя солдатами возвращаюсь на мельницу. Останутся те, кто не ходил на больницу. – Хватит! – сказал я – \Нельзя одним и тем же всё время страдать!\ В подвале лежи! В окна больницы \под немецкие гранаты\ прыгай! Принимаете такой вариант? Я пойду! Я не полковой разведчик, я иду на развалины больницы как доброволец. Моё предложение было принято. Я был доволен. Перед рассветом штурмовая группа в двадцать человек вышла на исходное положение. Две тонны взрывчатки лежали, забитые в штольне под землёй. Когда раздался взрыв, всё здание больницы приподнялось, дрогнуло, и из его середины вырвалось пламя, камни и дым. Боковые стены поползли как-то странно вниз. В высоту метнулось жёлтое облако пыли. Отдельные камни и куски кирпича продолжали шлёпаться вокруг. На больницу мы шли двумя группами. Разведчики справа, а я с десятком солдат – с левой стороны. Наша группа без выстрела поднялась и навалилась на груду кирпичей. Но что не додумали мы и заранее не учли. В густой массе кирпичной пыли дышать было абсолютно нечем. Жёлтая пыль лезла в горло, першила и въедалась в глаза. Немцы не ожидали взрыва и попыток атаковать развалины больницы не предприняли. Двухэтажную больницу с толстыми стенами в доли секунды, как языком с поверхности земли слизнуло. Долго висело мутное облако коричневой пыли. Через некоторое время нам притащили противогазы. В противогазах немного легче было дышать. Прошло часа три, можно было оглядеться, можно было размять застывшие суставы и мышцы. Посмотрев в обе стороны, мы увидели, что в одном месте из-под кирпичей торчит в кованом сапоге нога. В другой была видна рука. Солдаты отвалили кирпичи и потихоньку стали разбирать засыпанных обломками немцев. Откопали и вытащили двух. Они были живые. Немцы были сильно помяты, стонали и охали. Теперь от нас не требовали в фонд обороны их личные вещи. Кто что откапывал, тому то и доставалось. Солдату – часы и портсигар, немцу спасённому – жизнь на этом свете. На следующий день откопали ещё одного \наши соседи разведчики\. Пленные немцы рассказали: в больнице занимала оборону пехотная рота. В подвале сидело около ста человек. Подвал был оборудован деревянными двухъярусными нарами. Подвал обогревался несколькими железными печами. Утром, перед самым рассветом, за несколько минут до взрыва, подвал покинул лишь один человек. Это был их капитан, командир роты. Все остальные попали под взрыв. Двое немецких солдат, которых откопали, стояли на посту на втором этаже больницы. Самого взрыва они не слышали, на некоторое время потеряли память. А те, что были в подвале, остались заживо погребёнными под целой горой битого кирпича. Действительно, если лечь и приложить ухо к груде кирпичей, то из-под земли услышишь удары и скрежет лопат. Немцы оказались засыпанными в дальней части подвала. Они колотили снизу по каменной стене лопатами. Звуки ударов и приглушённые голоса неслись из-под земли. Никто из наших, конечно, и не помышлял рыть яму им навстречу. Мы сверху им для затравки постучали, они отчаянно заколотили нам в ответ. Жалко, что азбуки Морзе мы не знали, а то бы переговоры можно было бы с немцами организовать. На третий день я ушёл с горы битого кирпича. Постукивание из-под земли продолжалось. Как потом рассказали солдаты, стук продолжался около недели. Потом звуки стали слабыми. Видно, у немцев в подвале не хватало воздуха. Через некоторое время ответные удары прекратились совсем. Огромная гора битого кирпича лежала на месте больницы. Немцы, взятые в плен, были уверены, что в больницу попала большая бомба, сброшенная с самолёта. Они не забыли ночной огонёк, который однажды ночью блуждал над городом Белым, когда мы запускали змея. Через неделю солдаты в развалинах выбрали себе норы, обложили их обломками кирпича, и получились бойницы. За то, что я ходил на груду кирпичей, мне даже не сказали спасибо. Начальство наше примерно рассуждало так: раз вошли туда без боя и без сопротивления, контратаки немцев не последовали, потерь наши группы не имели, это мог сделать любой вместо нас. Ничего тут доблестного. А насчёт того, что мы переживали смертельную опасность перед броском, то ведь наши душевные переживания никого не волнуют. Чего зря переживать, когда в тебя не стреляют! Весна была в полном разгаре. Вокруг всё преобразилось и зазеленело. У нас отобрали полушубки и валенки. Для замены обмундирования нам приказали отправиться в тылы полка. Это был мой первый выход в тыл за пределы мельницы. Мы сдали зимнюю форму и получили кирзовые сапоги и вместо шапок – пилотки. После зимней шапки пилотку на голове вроде и не чувствуешь. Мы стояли по-прежнему на мельнице, наблюдая за немцами. С некоторых пор над нашими позициями стали появляться немецкие самолёты. То прилетит костыль (одномоторная стрекоза) и целый день кружит, то появится «рама» – «Фокке-Вульф 111» («Фокке-Вульф-189» – прим. наборщика.) – Смотри, стерва, нюхает! Щупает, где пулемётчики спрятаны! – бросали ей вслед свои слова солдаты. Сначала от самолётов хоронились и прятались. Потом привыкли. Стали ходить в открытую, сидели на крыльце и лениво посматривали в небо, лениво сплёвывали, закрывали глаза, прислонившись затылком к стене, и грелись на солнышке. – Целый день трещит над головой и не стреляет! – А им и не надо стрелять! «Рама», она у них не стреляет, а фотографирует. Она все наши окопы снимает на плёнку. Они без фотографии в наступление не пойдёт. У них в энтом деле порядок. Это у нас сиди и сиди. Потом перед утром придут – давай и давай! Топай в атаку. А у немцев всё заранее. Полетают, сфотографируют, а потома ужо и жди! Недели две кружили немцы над нашей обороной. «Рама» то удалялась куда-то в тыл, то снова появлялась над нашими окопами. И вот наступил день, «Рама» с утра не появилась. Вечером я сказал политруку: «Завтра будь готов ко всему, немцы что-то задумали.» Политрук не поверил. Он даже сказал: – Солдаты в тылу тоже болтают разное. Командир полка велел пресечь разговоры: «Немец в больнице получил хороший урок, он не сможет быстро оправиться!». Никому в голову не пришло, что немцы провели детальную разведку и съёмку с воздуха. На следующее утро моё предположение сбылось. Отсняв многократно наши позиции, немцы подготовили целеуказания для своих пикировщиков. Мы знали, что бомбёжке предшествует обычно воздушная разведка. Но не предполагали, что немцы готовят по нашим позициям решительный и массированный удар. И когда в воздухе перестал кружить «Фокке-Вульф», немецкая рама, не придали этому особого значения. Мы наблюдали за немцами в городе. Но что может увидеть наблюдатель на переднем крае противника? Немцы днём по передку почти не ходили. Глубина их обороны была закрыта забором, домами и постройками. Что делается так дальше, мы не видели и не знали. Передний край кажется сжатым и сплюснутым. Всё, что видишь, то есть только в передней плоскости. А заглянуть за бугор, за крышу, за высоту – это только мечта наблюдателя. Наблюдатель на земле хотел бы заглянуть за обратный скат. Но в то время, в мае сорок второго года, только немцы могли позволить себе такую роскошь – отснять нашу оборону на километры плёнки. Когда я подымался по ступенькам на верхний этаж мельницы и устраивался там для наблюдения на целый день, не имея даже карты города, мне приходилось самому в наглядном масштабе условно рисовать схему на клочках бумаги. Я наносил на свою примитивную схему дома, заборы, улицы и дороги. Но заглянуть за дома и заборы даже с высоты мельницы не удалось. Я мог только предполагать, что там могло быть. Я шарил биноклем по немецкой обороне, но такая разведка мало что давала. Аэросъёмка нашего обороны полка позволила немцам оценить и увидеть очень многое. Во-первых, немцы узнали, что артиллерии на переднем крае у нас нет. Вся оборона полка представляла собой одну линию траншей. Немцы отсняли весь район обороны дивизии и после обработки данных пришли к выводу, что кроме стрелковых траншей, вытянутых в одну линию по переднему краю, у нас нет ничего. Глубины обороны не существовало. Но немцы не ринулись, очертя голову. Они решили проверить наши позиции боем. Немцы не предполагали, что перед ними стоят русские солдаты только с винтовками и противогазами. А две пушки в отдельной берёзовой роще и два пулемёта на переднем крае никакой серьёзной угрозы для пикировщиков и танков не представляют. \Рама «Фокке-Вульф» крутила километры плёнки над пустыми буграми и высотами. Немцы засняли дороги и по весне протоптанные тропинки. По ним можно было судить, кто где сидел, и где стояли штабы\ Немцы знали, в каких домах жило начальство, где располагались солдаты, наши тыловые службы, лошади, обозы и санчасти. Или у русских нет ничего, или они умело и искусно спрятали свою боевую технику и танки. Так стоял вопрос! Немцы должны были сделать пробный шаг. Им нужно было вскрыть нашу систему огня и глубину обороны. Ошибки здесь не должно было быть. Нельзя, например, глухо спрятать орудие. У каждой пушки есть прислуга. И как ни таись, вылезет из земли где-то из своей норы солдат. Свежая тропинка по весенней траве покажет, куда и откуда ходят на смену солдаты. Начало немецкой аэросъёмки совпало со взрывом больницы. Разница была всего несколько дней. Наше командование решило, что немцы с перепуга занялись съёмкой с воздуха \ищут нового подкопа. На этот счёт сочинили даже версию, что проверяют сверху качество нашей маскировки.\ А немцы уде готовили пробный удар. Всё началось с того, что солдаты были заняты с утра своими делами. Кто сидел на крыльце и ковырял в ногах между пальцами, другие занимались более полезным делом: они на нагашниках гоняли надоедливых вшей. Двое солдат отдыхали. Накануне с вечера я послал их рыть новый окоп для пулемета. Перед рассветом туда перетащили станковый пулемёт «Максим». Там же, метрах в двадцати, для нас с Петром Иванычем отрыли узкую щель на случай бомбёжки. Брустверы обложили свежим дёрном. В общем, сделали всё, как надо. Не знаю почему, но мне на ум пришла идея срочно переменить позиции. Возможно, это и спасло от гибели солдат и нас с Петром. На крыльце дома, что стоял на отшибе, мы сидели вдвоём и говорили о войне. А что, собственно, говорить о ней! И вот послышался гул самолёта. Но вместо обычного «костыля», который прилетал с утра, и к которому мы привыкли, из-за города в нашу сторону шло с десяток пикировщиков. Они выплыли из-за облаков и стали перестраиваться в боевую цепочку. Теперь гул десятка моторов стал отчетливо слышен. Наш левый фланг обороны полка простирался за льнозавод и около отдельной берёзовой рощи упирался в большак \, что шёл на Демидки\. Километрах в двух от большака, в этой роще располагались наши две пушки. Правда, пушки наши никогда не стреляли, но стволы их были направлены в сторону большака. Пикировщики прошлись над мельницей, Демидками, льнозаводом и направились именно туда. И вот вся группа в десять пикировщиков навалилась на берёзовую рощу. В считанные минуты они разнесли там всё на куски. Я смотрел в бинокль. Один офицер и два раненых солдата выскочили из облака дыма и побежали в тыл. Орудия, люди, блиндажи, укрытия и лошади, всё, что находилось в роще, всё было уничтожено и смешано с землёй. Самолёты, как стая ворон, кружились над берёзами. Потом они ушли за горизонт. Они не долго отсутствовали. Вот они снова появились над городом и теперь уже нацелились в нашу сторону. Одна группа нависла над Демидками, другая отвернула на мельницу. \Моё предостережение, сказанное, когда летала «Рама», мимо ушей Петра Иваныча, видно, не прошло. Я, конечно, об этом ничего не знал, но он лично, с двумя солдатами проделал лаз под стогом сена.\ Самолёты приближались к мельнице. – Мы под скирдой сделали подкоп, – объявил вдруг Соков. – Подкоп сделали? – Нет, мы выдернули лён над самой землёй, и получилась нора. Я посмотрел на стог льна, такой слой льна бомбой не пробьёт \ и всё-таки колебался, больше верил в узкую щель, отрытую в поле.\ Мимо нас пробежали солдаты, они метнулись в поле к пулемётному окопу. – Из окопа не высовываться! – крикнул я им. Пока самолёты разворачивались и перестраивались, я ещё мог успеть добежать до щели. Но Петя тянул меня за рукав, и я остался сидеть на крыльце \в нерешительной бездеятельности\. Расстояние до скирды было меньшим, чем до окопа. Самолёты перестроились и шли прямо на нас. Теперь было поздно бежать по открытому полю. Лётчик «Юнкерса» \по бегущему легко засечёт цель для бомбёжки\ бегущего видит издалека. Я выругался, что остался на крыльце, плюнул нехотя побежал за политруком. Он, придерживая каску, побежал к норе. Подбежав к стогу льна, он встал на колени и нырнул в нору. Я на войне ходил без каски. И даже, когда попадал под пули, ни разу о ней не жалел. Каска звенела на голове, цеплялась за сучки, мешала думать и сосредоточиться. Под рёв пикирующих бомбардировщиков я подбежал к стенке стога, нагнулся и стал смотреть, где будут бомбить. Я хотел посмотреть, что будет дальше. – Давай залезай! – услышал я приглушённый голос Пети. – Подожди! Сейчас посмотрю! – крикнул я в ответ. Одна группа пикировщиков нацелилась на мельницу, другая нависла над стогами, под одним из которых я и сидел. Цепочка пикировщиков при заходе на мельницу растянулась. Передний самолёт перекинулся через крыло и кинулся к земле, а остальные ещё шли в высоте ровным строем. У каждого лётчика своя определённая цель. Один самолёт стал пикировать на здание мельницы, другой – на отдельно стоящие дома, ещё один за другим устремились на стога льна. Мельница, два дома около неё, сарай и дом на отшибе, в котором мы жили, с первого захода были засыпаны фугасками и зажигалками. Минута-другая – и все деревянные постройки запылали огнём. Взрывами фугасных бомб раскидало крыши, выбило окна и двери. Взмыв вверх, самолёты снова построились, сделали облёт вокруг и теперь пошли на стога, где мы сидели. Я смотрел, как они, набрав высоту, стали срываться к земле, зависая над стогом. Из-под гладкого брюха оторвались две чёрные хвостатые бомбы. Я присел на корточки и подался под стог. Узкая нора в земле шла по самой земле. Политрук и солдаты лён выдёргивали руками. Ход имел два поворота. Я почти ползком в полной темноте подвигался вперёд и, наконец, почувствовал некоторое расширение. – Мы сделали здесь кабину! – услышал я голос политрука. – Давай, ползи сюда! Возьми немного левее! Кабина, как её назвал политрук, имела всего вершок от плеча, так что я, сидя, головой упирался в потолок, а подбородком себе в грудь. Я не мог разогнуть нишею, ни спину. Это было небольшое расширение в конце хода, где нельзя было даже развернуться головой по ходу назад. Добравшись до тупика, я прислушался к разрывам. «Какую глупость я совершил!» – мелькнуло у меня в голове. Зачем я полез сюда? Это политрук затянул меня сюда с перепугу. Мы опали в мышеловку! Ведь я ясно видел, как пикировщик сбросил на стог десяток зажигалок. Я видел, как они оторвались от фюзеляжа и, завывая, посыпались на наш стог. Фугасная лён не пробьёт, в этом можно быть уверенным. Но от зажигалки лён мгновенно вспыхнет, окутается огнём. – Ты куда? – испуганно прохрипел Петя… Развернуться головой к выходу я не мог. Я стал пятиться задом по узкому ходу к выходу. Когда я повернул голову и посмотрел вверх, я от ужаса содрогнулся. С вершины стога ровным фронтом вниз по стене к земле быстро спускалось яркое пламя. Я не просто пламя, а бегущий, как порох, огонь, по сухой льняной костре. Немецкие пикировщики с рёвом неслись к земле, делая второй заход над нашими стогами. От всего увиденного я перестал дышать. Мне нужно было крикнуть политруку, а у меня спёрло дыхание. – Горим, политрук! – крикнул я, выдавив воздух из лёгких и сделав над собой усилие, – Заживо сгоришь! Я бегу! – крикнул я на ходу. Промедли я ещё одну минуту, и мы с политруком сгорели бы во льне. Я бросился бежать через открытое пространство. Бомбы сыпались, рвались вокруг, перед лицом визжали осколки. Взрывы взметали комья земли то впереди, то слева, то справа. Я метался из стороны в сторону, стараясь уклониться от прямого попадания бомб. Вот тень пикировщика скользнула надо мной, и «Юнкерс» с рёвом бросился вниз, пуская бомбы. Ещё раз я рванулся в сторону, бомбы в нескольких метрах одна за другой разорвались справа. Когда смотришь вверх на падающие бомбы, то кажется, что все они летят на тебя. В этом случае нужно смотреть не на бомбы, а на положение летящего самолёта, который их сбрасывает. По положению фюзеляжа можно точно определить линию, по которой они пойдут, и где будут падать. Я мельком взглянул на самолёт и рванулся в сторону. Политрук бежал сзади меня. Под грохот разрывов мы пробежали открытое пространство. Впереди стоял полыхающий дом. Я забежал за него. Высокое пламя и облако чёрного дыма мешало лётчикам увидеть направление, по которому мы побежали дальше. Петя очень нервничал, ёрзал на месте. – Лежи, не шевелись! – прикрикнул я на него – По пустому месту бомбить не будут! Лёжа на земле я огляделся кругом. Мельница была вся в огне. Над домами и стогами взметнулось огромное пламя. К небу, крутясь и извиваясь чёрными клубами, поднимался огненный дым. Всё было охвачено огромным пожаром. Я взглянул вверх на бугор, в сторону Демидок. Там кружила стая немецких пикировщиков. Они образовали над деревней своеобразную карусель. Огромное кольцо из самолётов вращалось в высоте. Из этой карусели, срываясь по одному, самолёты пикировали к земле, бросая бомбы. Сбросив бомбы, самолет стрелой взмывал вверх и тут же пристраивался снова к карусели. Я обратил внимание, что дома в деревне огнём не горели. Немец бомбил деревню только фугасными бомбами. Всполохи взрывов подбрасывали в небо куски кровли, целые брёвна. Вверх летела щепа, пыль поднималась столбом, земля брызгала в разные стороны. Сбросив бомбы и постреляв вдоль улицы из пулемётов, самолёты вскинулись, облегчённые, вверх, построились в цепь, помахали крыльями и удалились за город. Пикировщики «Ю-87» ушли, а вместо них в воздухе появился «костыль», самолёт-разведчик. Мы короткими перебежками, пригнувшись, перебежали в пулемётный окоп. Потом перешли в отрытую для нас с Петром щель. Наконец, я почувствовал себя в полной безопасности. Узкая щель – великая вещь! В неё просто так не попадёшь. По размерам она мала и глубиной по пояс. По ширине она чуть шире твоих плечей. Сядешь, согнёшься, и тебе ни снаряды, ни бомбы теперь не страшны. Передохнув и обтерев пот с лица, я поднял к глазам бинокль, болтавшийся на ремне на шее, и осмотрелся кругом. Теперь мы с политруком сидели среди своих притихших солдат, а не скрывались неизвестно где. В бинокль было видно, что с двух направлений на нашу полковую оборону ползли немецкие танки. Отсюда, из открытой щели в бинокль их хорошо было видно. Я посмотрел в бинокль дальше льнозавода, там в открытом поле находилась траншея соседней роты. В бинокль было видно, как солдаты этой стрелковой роты забегали вдоль своей траншеи. И вот из-за бугра на траншею выполз немецкий танк. Н подошёл к траншее метров на пятьдесят и остановился. Танк опустил ствол пушки и стал им водить вдоль траншеи. Солдаты в окопах притихли и затаились. Танк не стрелял. Бежать и траншеи было поздно. Да и куда бежать? Убежишь в тыл, тебя же потом и расстреляют. Траншея была расположена вдоль линии фронта. Ходов сообщения для выхода в тыл из траншеи не было. Считали, что так лучше, солдаты не убегут. По открытому полю под пулями в тыл не побежишь. Вот они и не бежали. На этот раз бежать было некуда. Был строгий приказ генерала Березина «Ни шагу назад!». И солдаты стрелковой роты в панике назад не побежали. Они только ждали, когда командир и политрук роты выскочат из траншеи и убегут, спасая свои шкуры. И действительно, в этот момент две пригнувшиеся фигуры оторвались от траншеи и побежали \рысью\ в тыл. Офицеров за отход отдавали под суд, а солдат просто в штрафные. Немцы из танковой пушки не стреляли. Позади танка топтались до взвода немецких солдат. Обе стороны выжидали. Немцы выглядывали из-за стальных боков танка и тут же прятались назад. Было явно видно, что немецкая пехота в открытую идти вперёд побаивается. Да что там идти, они из-за танка выглядывать боялись. Но обстановка в такой ситуации была напряжена. «Что будет дальше?» – подумал я. Кто выстрелит первый? Но выстрелов ни с той, ни с другой стороны пока не было. Время как бы остановилось. Вот из траншеи выскочили двое и, пригнувшись, побежали зигзагами по открытому полю к нам в тыл. Им удалось благополучно добежать и скрыться в низине. \Я вспомнил, что у нас в батальоне был мл. лейтенант, не то Мошанян, не то Шаишвили, командиром той самой стрелковой роты. По-видимому он и кто-то ещё вместе с ним бежали в овраг.\ Со льнозавода тоже метнулись две фигуры и скрылись за бугром. Я перевёл взгляд снова на дальнюю траншею. Над траншеей показалась фигура солдата с поднятыми руками вверх. Через некоторое время на бруствер поднялись ещё двое. Немцы не стреляли. Они ждали. Теперь было ясно, что рота солдат, брошенная своими командирами, сдаётся в плен. Через некоторое время вся рота стояла наверху с поднятыми руками. Такое я видел впервые. Я машинально перевёл бинокль и посмотрел в сторону подвала. К подвалу медленно подвигался немецкий танк. В бинокль было хорошо видно, как танк опустил ствол пушки вниз, и не дойдя с десяток метров до подвала, замер, повращал своей башней и повёл стволом. \Ствол его оказался направленным точно в боковое окно подвала\. Немцы с винтовками наперевес и здесь держались сзади танка. И вот внизу лаза в окне мелькнула белая тряпица, и перед немецким танком появилась фигура солдата в серой шинели с поднятыми вверх руками. Взвод солдат, сидевший в подвале, сдался немцам. Не миновать бы мне немецкого плена, будь я там, в подвале вместе с солдатами. Деваться было некуда. Судьба и в этот раз смиловалась надо мной. А здесь, на мельнице, стога, дома и сараи полыхали бешеным огнём. Кругом стояла такая жара, что голову высунуть из окопа было нельзя. К небу поднимались языки пламени и облака чёрного дыма. Кверху летела горящими яркими огнями льняная троста. – Танки сюда не пойдут! – подумал я – Они к огню даже не приблизятся. Посмотрим, что будет дальше, – решил я. Танк около подвала развернулся на месте, выполз на дорогу и отправился в Демидки. \Вот почему во время бомбёжки деревню они не подожгли.\ Один танк поднялся на бугор и встал у развилки дорог. Другой развернулся и пошёл вдоль бугра на Демидки. Из деревни, как горох, в разные стороны побежали словяне. Их, правда, было немного, с десяток, не больше. Это те, кто уцелел после бомбёжки, и кто прибежал в деревню, бросив роты. \Начальство на НП в этот день предусмотрительно не явилось\. Комбат Ковалёв и его зам Козлов Из деревни Журы рванули ещё утром. Я позвонил в Журы ещё до начала бомбёжки, их там уже не было. Но кому из солдат придёт в голову, что батальонное начальство их бросило. Солдаты остались, командиры рот сбежали \, а их заместители, взяв ноги в руки, летели в тыл без оглядки.\ Теперь в деревню вдоль бугра по дороге спокойно и не торопясь ползли два танка в сопровождении пехоты. В бинокль хорошо было видно, что среди немецких солдат один нёс в руках рогатый пулемёт, а двое других несли, следом за ним, тяжёлые железные банки, набитые металлическими лентами и патронами. Я оторвал глаза от бинокля и посмотрел на своих солдат. Они тревожно и выжидательно посматривали на меня. Я погрозил им кулаком, снова приставил к глазам бинокль и стал вслух рассказывать им, что делали немцы в деревне Демидки. Солдаты-стрелки и пулемётчики понимали, что мы отрезаны от своих с трёх сторон. А где теперь, собственно, были свои? Немецкие танки пехота обошли нас кругом и заняли Демидки. Подвал пал, на льнозаводе ни души. Деревня Демидки была у нас в тылу, и в ней хозяйничали немцы. Я вспомнил о груде кирпичей на месте взорванной больницы и перевёл туда свой бинокль. Около кучи битого кирпича стоял немецкий танк, а за танком пехота. Около танка, совсем не прячась, ходили немцы. 45-й гвардейский полк за короткое время, за каких-то пару часов, перестал существовать. \За прорыв подо Ржевом у станции Чертолино и за выход к городу Белый наш 421 стрелковый полк был переименован в гвардейский. А дивизии было присвоено звание 17 гв. с.д. Какой номер теперь будет иметь наш полк, если все его боевые подразделения, стрелковые роты, целиком попали немцам в плен.\ Первый пробный удар немцев – и Березин в один день потерял целый полк. А что будет потом? Как пойдёт дело дальше? Березин настойчиво, беспощадно и с упорством насаждал в дивизии боязнь расплаты и страх, а за самовольное оставление позиций – неотвратимое возмездие и кару судами и расстрелами. Он думал, что сумеет запугать ротных офицеров и солдат и на страхе удержать их на месте. Он думал, что они умрут под бобами и танками, а его, Березина, приказ не нарушат. Он думал, что немцы в наступление пойдёт, как мы через Волгу, сплошной жидкой цепью, и оборону полков построил в одну линию по деревенской прямолинейности. Теперь он получил сполна за самоуверенность и недомыслие. А, может, это был его совсем не промах, как думал я тогда, а совсем наоборот, заранее продуманный ход? В дивизии ходили упорные разговоры, что Березин ночами частенько из штаба пропадал. Возьмёт вдруг тайно ночью вылезет через окно, да так, чтобы личная охрана не заметила. И ищи-свищи! Явятся к нему утром с докладом штабные, глядь, а его и след простыл. Кровать давно холодная и пустая. Бросятся штабные звонить по полкам и нигде не могут его обнаружить. Потом днём через сутки его засекали в солдатской траншее. Откуда он мог туда явиться, никто, и даже солдаты, сказать не могли. К нему тут же на рысях пускались охрана и адъютанты, а где он, собственно, сутки пропадал, боялись спросить. Однажды ночью, разыскивая его, нам на мельницу звонили раз пять. Потом комбат с пристрастием допрашивал, не он ли подал нам идею запустить с мельницы в сторону города змея. Таким манером наш генерал пропадал ночами из штаба дивизии много раз. Где он бывал, никто сказать не мог. Спрашивать его боялись. Офицеры рот и солдаты его сторонились. Он иногда замахивался клюшкой, когда что-либо было не по нему. Солдаты его несколько раз видели, когда он неожиданно появлялся в траншее. Но откуда он являлся, никто точно сказать не мог. Он с солдатами заговаривал. Бывало, постучит клюшкой по сапогу и скажет глухим голосом: – Так-так! – или – Ну-ну! Потом повернётся и спросит: – Где у вас тут телефон, в полк позвонить? Соединяют его, он велит позвонить в дивизию, чтобы за ним лошадь прислали. Генерал уедет, а солдат потом допрашивают \с усердием\, о чём он с ними говорил, кто \на что\ из солдат жаловался генералу, что он говорил, какие давал указания. Солдаты повторяли генеральские слова «Так-так!» и «Ну-ну!», а полковые ломали голову, к чему бы всё это было. Березин ходил к немцам на аэродром, когда наши солдаты на подводах ночью вывозили оттуда голубой немецкий бензин. На аэродроме стояли бочки с бензином и были сосредоточены штабеля снарядов и мин. Немецкие часовые по нашим солдатам и по повозкам не стреляли. Ночью было плохо видно, и могли взорваться штабеля боеприпасов. А днём наши туда не совались. Днём на аэродром садились немецкие самолёты, наши тоже в них не стреляли. Нам нужен был бензин, и стрелять по бочкам с бензином и по снарядам нам тоже было невыгодно. Немцы видели, что мы грузим бензин. Между нами и немцами было на некоторое время установлено бессловесное соглашение. Но потом оно кончилось, немцы поставили пулемёты на подходе к аэродрому. \мы могли бы им за это отомстить, но у нас не было для отстрела снарядов\ Политрук Соков подёргал меня за рукав. – Может, нам уйти отсюда, пока не поздно? Кругом немцы, у нас только один остался проход к реке! Он знал, что за оставление позиций без приказа спросят не с него, с политрук. Он не хотел брать ответственность за отход. Петя хотел остаться не всякий случай в стороне. Я это видел, а он меня торопил. Он боялся, что немцы могут отрезать подход к реке. – Сейчас самый подходящий момент! – подталкивал он меня – Сейчас можно к воде незаметно спуститься! Чего тянешь, лейтенант? – Я тяну? Я смотрю, что будет дальше! А ты забирай своих пулемётчиков и пулемёт, спускайся к реке, и я тебя не видел и не знаю! Но если тебя поймают и поставят к стенке, ты мою фамилию не называй и на меня не ссылайся. Я отвечать за тебя не хочу. Докладывать не побегу! Можешь быть спокоен! Я печёнкой чувствовал, что не надо спешить, что не надо поддаваться его уговорам. Немцы без танков не сунутся сюда. А танки на пожарище, на огонь не пойдут. Появись мы сейчас на другой стороне, попадись мы на глаза своему начальству, если все другие успели смыться и разбежались, нас обвинят в развале обороны полка, нам припишут начало разгрома. В такой ситуации нужно найти дурака или рыжего. «С мельницы сбежал? Да! Бросил свою позицию? Бросил! Полк, отбиваясь, понёс из-за вас огромные потери! Люди погибли из-за вас, паникёров!» На меня свалят всю вину за трусость! \Не возьмёт же на себя ответственность командир полка. Он в окопах не сидел, оборону не держал, от немцев не отбивался. У него руководство общее!\ А мне сейчас нечего бояться. Пулемётный расчёт и мои два солдата находятся на рубеже. Сейчас, именно сейчас, штабным и Березину нужно было найти жертву и покончить с этим делом. Генерал будет сам рыскать по кустам, чтобы поймать простачка и сунуть его под расстрел, чтобы самому оправдаться. Сегодня я снова и ещё раз убедился, \кому вручены сотни и тысячи жизней наших русских солдат. Я снова убедился\ как во главе с командиром полка вся свора штабных разбежалась с перепуга. \Они спасали шкуры и были способны только объедать своих солдат, подставлять их под танки и пули\. А чтобы смертные не роптали, их по всякому пугали и страшили. Теперь вся эта полковая шушера бросила своих солдат и разбежалась по лесам. Я, конечно, не знал, что это была генеральная тренировка перед ещё большим по масштабам бегством. Сегодня я видел, как на большом пространстве без единого выстрела немцы забрали в плен целый гвардейский полк солдат. Фронт дивизии на всём участке был открыт. Немцы запросто, даже без танков могли двигаться дальше. \Передовая линия попала в плен, тылы полка разбежались в панике\. Немцы нигде не встречали сопротивления. Они могли легко и без потерь за один день соединиться со \своей ржевской\ оленинской группировкой. Но немцы всё делали по плану. Они взяли Демидки и дальше не пошли. Это была их первая ошибка. – Уйти с мельницы мы всегда сумеем, – сказал я громко, чтобы слышали все – Здесь до реки рукой подать. А дым и огонь будут валить столбом до самой ночи. И ты меня, Петя, не торопи. Приказа на отход ты не имеешь \На той стороне нас уже ждут, чтобы выловить и на деревню послать. «На» – скажут – «лейтенант, папироску покури». Беломором угостят. «Кури, кури спокойно! Потом гранаты возьмёшь! Вот выкуришь, тогда и давай на деревню! Танки гранатами рвать! Пойдёшь, свою вину кровью оправдаешь!» Эти всю войну чужой кровью воюют Наверняка сидят в кустах на той стороне. Они дурачков хотят наловить. Им всё равно скольких. Двоих, пятерых или десять. Они и двоих на деревню могут послать. Это им сейчас очень нужно. Не пойдёт командир полка или комбат Ковалёв отбивать у немцев деревню. Куда проще поймать в кустах меня, тебя, твоих пулемётчиков и моих двух солдат\ Кругом нет никого. Все разбежались. – Где-нибудь есть. Не все паникёры. – Вот так, милый Петя, сиди пока в своём окопчике и не рыпайся. Будет приказ, пришлют сюда связного, мы отойдём. Ведь Демидки брать ты не пойдёшь. Скажешь, что это дело ротных офицеров. А ты, мол, политрук. В военном деле ничего не понимаешь. Стрелять не умеешь. Не мы сдавали немцам деревню и не наше дело брать её назад. \Если за всеми дерьмо чистить и подтирать, жизнь наша вонючей будет. А она и так пахнет грязной портянкой.\ Ну что молчишь? Солдат в полку больше нет. Всё полковое боеспособное войско здесь перед тобой в окопе торчит! Считай, что ты теперь комиссар полка. – Ну да! – ответил он, а сам смотрел куда-то вверх на деревню Демидки. – Послушай, Петя! Стрелять ты не умеешь, а таскаешь наган? – По Уставу так положено! – пробурчал он. Унылое выражение лица и беспокойное ёрзанье в окопе, постоянное беспричинное вздрагивание поворачивание каски на голове политрука передалось солдатам. Они, правда, не слышали всего разговора, пулемётный окоп был в стороне, но лица у них были тоже напряжены и пугливо сосредоточены. Только я в этот момент шевелил своими мозгами. Наши солдаты тоже готовы были сбежать. А я не хотел поддаваться панике. Мы сидели в окопе, пули не летали, опасности никакой. Я посмотрел на своих солдат, погрозил им кулаком, и они поняли. Почему я должен чего-то бояться? Я прошёл на войне моменты пострашнее. В это время в Демидках снова заворчали моторы. Один танк вышел на окраину, развернулся и пошёл под бугор. – Видел? – сказал я – в нашей обороне нет ни одной плюгавой пушки. Немцы дураки. Они боятся идти вперёд. Они могут пойти сейчас, куда угодно. Наши все разбежались. Их теперь днём с огнём не найдёшь. Я продолжал следить за немецким танком. Вот он прошёл по гребню, скатился под бугор и повернул на льнозавод. – Сейчас он сюда пойдёт! – закричали солдаты. – Пока здесь пожар, танки сюда не пойдут! Всем сидеть на месте! Соображать надо! Мне надоело смотреть за вами! Вы следите за мной! Пока я здесь, ни один из окопа ни шагу! Всем ясно?! Но вот второй танк подался из деревни. Он спустился с бугра по дороге, догнал первый и они вместе, не торопясь, поползли, ворча моторами, в город. – А ты, Петя, боялся! Сейчас бы искупаться после такой жары! Прошло ещё часа два. Стрельбы никакой не было. Солдаты посматривали на меня, я на них. Политрук Петя молчал. – Теперь, наверное, можно уходить на тот берег, – сказал я – Тишина уж очень подозрительная! Бери, политрук, пулемётный расчёт и двигай к реке! Пойдёшь по оврагу ближе к бугру, чтобы из деревни людей и тебя не было видно. Перейдёте речку – сразу в кусты! На открытом месте не болтайтесь! Поставишь пулемёт – и сразу приступить к рытью окопа. Я с двумя солдатами пока останусь здесь. Прикрою вас на всякий случай. Все сразу оживились и засуетились. Нужно было приготовить к переносу станковый пулемёт. Я решил больше не оставаться на мельнице. Здесь можно было просидеть и до утра. Но ветер изменил направление и дым от горящих построек пошёл в нашу сторону, трудно стало дышать. Двое солдат стрелков остались со мной, а пулемётчики с политруком, прикрываясь дымом быстро спустились к берегу Обши. Вот они переправились на самом изгибе реки и скрылись в кустах. Двое солдат, которые остались со мной, были когда-то вместе со мной в подвале. Один высокий, на год старше меня, молчаливый и спокойный. Звали его Паша Куприянов. Сегодня его друзья с поднятыми руками вышли из подвала. Он видел всё сам, как это случилось. – Ты, Паша, посмотри за пулемётчиками, – сказал я ему – Скажешь мне, когда они установят пулемёт на том берегу. Солдат мотнул головой. Другой солдат был поменьше ростом, годами помоложе, но не такой понятливый, как первый. – Пулемёт поставили! – сказал мне солдат \Паша\. Я медленно вылез из окопа, поднялся на ноги и пошёл под бугор. Небольшой ложбиной в виде водослива мы стали спускаться к реке. Дым и пламя не бурлило и не бушевало, как прежде. Подхваченные ветром, разлетались искры и горящие хлопья льна. Чёрный дым стелился по земле. Два стрелка-солдата – вот всё моё боевое войско – следовало за мной к реке. Я шёл не торопясь, опасности никакой, и я хотел показать своим солдатам, раз пули не летят, значит, и бояться нечего. А то, что немцы зажали нас с трёх сторон, обложили нас – поддаваться панике нечего. Я мельком оглянулся назад, мои солдаты шли за мной спокойно и уверенно. Особенно этот высокий парень Паша \мне приглянулся\. Он понимал меня почти с полуслова. Пулемётчики – то были чужие люди. Пулемётчики – это люди политрука. А эти двое прошли со мной через каменный подвал, через нечеловеческие испытании, через невыносимый холод. Когда мы подошли к реке, то увидели, что политрук и пулемётчики поторопились. Они перешли реку вброд, не раздеваясь. И на том берегу видны были потоки воды с их одежды. Я подошёл к воде, сел на берегу, и ничего не говоря, стал раздеваться. Солдаты молча посмотрели на меня, тоже сели и тоже стали снимать обмундирование. Я разделся наголо. Стянул свою одежду ремнём, и держа её на голове, вошёл в воду. У моих солдат кроме белья на голове лежали автоматы \Я выпросил у комбата обменять их на винтовки, когда эти двое ходили со мной после взрыва на больницу\. Я дошёл до середины реки, вода подошла под лопатки. Я сделал ещё пару шагов в глубину, впереди стало мельче. Мы вылезли на берег, быстро оделись, зашли за кусты, пулемётчики ещё выжимали свои портянки. Я поднялся вверх по склону, отсюда хорошо было видно противоположный берег, обгорелый остов мельницы, деревню Демидки и всю остальную окрестность. Войны как будто не бывало. Кругом тишина, ни взрывов. Ни стрельбы. Только над стогами льна и над обгоревшими постройками вокруг мельницы клубился чёрный дым. – Может, это наши бросили этот район и отошли от белого? – сказал политрук – Что-то тихо кругом, и нет никого поблизости! Километра полтора от сюда стояла наша полковая кухня. Пётр Иваныч, видно, от страха успел проголодаться и хотел пойти разыскать полковую кухню. Когда после бомбёжки и вида танков страсти и страхи улеглись, политрук почувствовал голод. И не только он. У всех солдат появился аппетит. \Голодные солдаты, как мотыльки, слетаясь на свет, бегут искать свою полковую кухню. И как только они подсунутся к горячему котлу и протянут свой котелок, их тут же берут за мягкое место. Главное, чтобы запаса пищи солдат не имел. А то просидит дня три-четыре в кустах, поди его разыщи. Начальства из леса вернётся, а солдат на месте нет. Солдата нужно держать всё время впроголодь. Тогда на запах кухни он сам вылезет из кустов. Голодный, он через немецкое кольцо окружения прорвётся. Голод и смерть правит миром солдата. Тот, кто не встал, не поднялся с земли на стук котелка, тот, считай, погиб в бою за свободу Родины. Здесь не «говорили: «Попал к немцам в плен», – здесь считали, убит или пропал без вести. Сгори мы с политруком под стогом сена, нас тоже посчитали бы пропавшими без вести. \ Наше командование и генерал хотели бы иметь под рукой послушных, как автоматы, оловянных солдатиков. Но такого в жизни и на войне не бывает. Об этом могут только мечтать генералы. Генеральская воля – это ещё не закон для солдат. Никто не хочет идти на смерть ради этой воли. И если дивизия потеряла целый полк солдат, то это случилось не по воле случая, а по умыслу генерала. \Но в донесениях картина будет выглядеть совсем иначе.\ В донесениях нигде не будет сказано, что роты без боя попали к немцам в плен. В донесении будет сказано, что в результате тяжёлых боёв дивизия понесла значительные потери убитыми и ранеными. В донесениях врали \Лишь бы в донесениях было складно сказано и как надо.\ Политрук Соков не мог сидеть спокойно. – Слышь, лейтенант! – подошёл он ко мне – Здесь километра за два к перекрёстку дорог всегда подходила полковая кухня. Я возьму с собой двух солдат, возьмём котелки, может, что съестного достанем. – Знаешь что, Петя! Сидел бы ты со своей кухней! Нужно окоп для пулемёта отрыть, а ты никак не успокоишься, у тебя на уме только котелки да кухня. Я поднялся с земли, осмотрелся по сторонам, прошёл вдоль берега вправо и влево, дошёл до края кустов и наметил место для стрелковой ячейки и пулемётного окопа и вернулся на место. – Окоп для пулемёта и стрелковую ячейку будем рыть вон там, на краю кустов. Место там выгодное, с хорошим обзором. А ты, Петя, возьми с собой одного солдата и пройди вдоль берега. Посмотри, кто у нас есть справа \, может, и здесь немцы?\. – Я не умею в кустах ориентироваться, – сказал он и перестал говорить об еде и о кухне. Я взял бинокль и стал смотреть на траншеи, где раньше стояли наши роты. Там не видно было ни одной живой души. Пленных немцы угнали в город, а траншеи и окопы составили пустыми. Из всех опорных пунктов, которые занимал наш полк, немцы расположились только в деревне Демидки. Здесь немцы оставили взвод солдат с винтовками и один пулемёт. Деревня располагалась на высоте, которая господствовала над городом и над всей округой вдоль реки. Сейчас можно было бы переправиться обратно на тот берег, занять снова окопы на мельнице, траншею и хода сообщения на льнозаводе, подвал винного склада и траншею дальней роты. И игра в войну началась бы заново. Оборонять эти рубежи было невыгодно. Поэтому немцы и заняли только деревню Демидки. Теперь стало очевидным, что высота и деревня имеют решающее значение. Вся остальная цепь окопов и траншей, расположенная в низине, не представляла с военной точки зрения никакого решающего значения. А на самом бугре, в Демидках, наши даже не имели ни окопов, ни траншей, ни щелей для укрытия. Там не было ни одного блиндажа, в котором могли бы надёжно укрыться солдаты во время бомбёжки. В деревне находился наблюдательный пункт комбата. Это была обыкновенная деревенская изба, на потолке которой была установлена стереотруба. При первом звуке в небе самолётов, дежурившие там двое солдат \из окружения Ковалёва тут же \ сбежали. Вот собственно и вся система обороны \полка. Она лопнула, потому что всё держалось на угрозах, на ругани, на глотке, на площадной брани, на сытой жизни одних и постоянном голоде других, на шёлковом белье нескольких и на вшах, которые грызли остальных. Одни жили в тепле, спали на перинах, парились в баньках, хлестали себя пахучими вениками, а другие, не веря никому, без сопротивления сдавались в плен. \ Пока я был занят своими мыслями и рассматривал местность в бинокль, солдаты отрыли узкие щели и приступили к рытью пулемётного окопа. Прошло ещё часа два. Окоп для пулемёта был закончен. В это время в кустах послышался треск сухих веток. Кто-то, ломая кусты, шел напролом. Мы прислушались, звуки стали ясней, кто-то медленно приближался к нашему окопу. Позицию я выбрал отличную. К окопу с любой стороны без шума не подойти. И вот сейчас мы издалека услышали похрустывание. Звук шагов становился всё ближе. Я на слух определил, что в нашем направлении движется небольшая группа, человек пять, не больше. И всё же я жестами приказал расчёту повернуть пулемёт в их сторону. Пулемётчики изготовились к бою. Я остался стоять на месте. Мы для идущих по кустам были невидимы. \они в первый момент растеряются. Мы воспользуемся их замешательством и откроем огонь.\ Я в любой момент могу спрыгнуть в щель или окоп. И вот из кустов лицом к лицу вышли четыре человека. Это были свои. Двое солдат с автоматами, капитан штабник и старик в военной форме без знаков различия \, с палкой\. Солдаты, видно сразу, – из тыловых. Потому что, выйдя из кустов выставили свои автоматы, оскалили зубы и растопырили ноги. Солдаты-окопники обычно при встрече нахально не смотрят и в позу не встают. Я молча разглядывал всю эту компанию. – Кто такие? – спросил старик, нахмурив брови, и ковыряя клюшкой землю у ноги. Капитан был аккуратно одет. Сразу было видно, что он штабник. Всё на нём гладко подогнано и ладно сидело. Я ничего не ответил и лишь перевёл взгляд на нетерпеливого старикашку. – Какого полка? – почти выкрикнул он. Я посмотрел на него, и до меня дошло, ведь это передо мной стоит не старикашка, а сам генерал Березин. \Но я не подал вида, что его узнал.\ – Мы с мельницы! С сорок пятого полка! – ответил я. – Здесь кроме вас ещё кто-нибудь есть? – спросил капитан. – Не знаю, не видел! – ответил я. Березин посмотрел на пулемёт, который был направлен на него, и на пулемётчика, который припал к прицелу и ждал только моей команды. – Ну вот что! – сказал он – Пулемёт снимайте! Идите к переправе! Пойдёте брать Демидки! Не возьмёте деревню, просидите под бугром, отдам под суд! Капитан вас доведёт до переправы. Я спокойно посмотрел на генерала. Он стоял в трёх шагах от меня. Я рассматривал его лицо. Раньше я видел его мимоходом, с расстояния. Теперь он стоял передо мной. Меня почему-то приказ взять Демидки не испугал, а даже наоборот, придал мне уверенности и спокойствия. \Раньше я так вызывающе не стал бы вести себя перед ним. \ \Я захотел рассмотреть генеральское лицо.\ Кто этот человек, который посылает нас на смерть. В лице его я должен найти что-то огромное и непостижимое. Но ничего особенного я в этом худом и сером лице не увидел и не нашёл. И даже, откровенно говоря, разочаровался. Он был с первого взгляда похож на деревенского мужичка. На лице какое-то непонятное тупое выражение. \Он приказывал, и мы беспрекословно шли на смерть!\ Я смотрел на него и не верил своим глазам, что этот человек – генерал. Худое морщинистое лицо ничего \кроме зла и растерянности\ не выражало. Сгорбленная фигура его, не говорила, что он сильный и волевой человек. Маленькая лысая голова его всё время вертелась. Он как будто что-то потерял и теперь старался вспомнить место. Вид у него был усталый. Капитан стоял и ждал указаний генерала, а два автоматчика-телохранителя, выпятив груди вперёд, довольные своим положением, смотрели на нас, на людей с передовой, с превосходством. Две группы людей стояли друг против друга, чего-то ждали и настороженно щупали друг друга глазами. И линия раздела между ними невидимо проходила по земле. Генерал смотрел на нас и, видно, хотел определить, способны ли мы взять Демидки и выбить немцев из деревни. Уж очень нас было мало. И артиллерии никакой. Как так случилось, что сам он бегает по кустам вокруг Демидок? Заставил его немец кружить и петлять по кустам. Докатился до такой жизни, что самому приходится собирать солдат и посылать их на деревню \с пустыми руками\. «А где же командир полка? Где наш комбат Ковалёв?» – мелькнуло у меня в голове. Теперь генерал убедился, что командир полка и комбат, и их замы и помы бросили своих солдат и в панике разбежались в панике, кто куда попало. \Генерал стоял и шарил глазами по кустам в надежде поймать ещё с десяток солдат и послать их на Демидки. \ – Чего стоишь? Слышал приказ? – сказал мне капитан недовольно. – Двое солдат пошли к реке за водой для пулемёта. Жду, пока вернутся. Через минуту послышались шаги со стороны реки, и две землистого цвета солдатские каски показались из-за кустов. Заправили водой пулемёт, и я подал команду сниматься. Солдаты быстро разобрали пулемёт, и мы тронулись вверх по кустам за капитаном. Мы долго шли, избегая открытых мест со стороны Демидок, и, наконец, вышли под крутой берег, здесь река делала поворот. Внизу у кромки воды стоял привязанный плот. С одного берега на другой был перекинут канат. По нему, стоя на плоту, можно было перетягиваться на другую сторону. Плот был сколочен из брёвен, на нём могли переехать одновременно не больше десятка солдат. Мы подошли к переправе, около неё лежала ещё одна группа солдат. Около стояли два автоматчика из дивизии. Солдаты, лежавшие в кустах, были собраны из разных подразделений. Тут были и посыльные и связисты. В общем, настоящих солдат стрелков здесь не было. Два политрука сидели рядом на пригорке. Они, видно, сумели уйти из своих рот до начала бомбёжки. \Роты и командиры рот попали в плен. Командирам рот от своих солдат бежать было нельзя, им грозил расстрел за оставление позиций. А эти сидели и на лице испуга не было никакого.\ Сзади на нами появился генерал и предупредил всех, что он будет смотреть за ходом атаки. – Будете сидеть под бугром, живыми вы на этот берег не вернётесь! И не возражать! – прикрикнул он. Всем стало ясно, что их послали на верную смерть. Выйти из-под крутого обрыва на том берегу и пойти по открытому полю, значит попасть под пулемётный огонь. На зелёном поле до самых Демидок ни канавы, ни кочек тогда не было. Все сгорбились, съёжились от генеральских слов. У моего Пети побелело лицо, задвигались губы. Дороги назад никому не было. Мы переправились на плоту и вышли под обрыв крутого берега. Генерал с автоматчиками и капитаном остались на том берегу. Никто из сидевших под обрывом и из тех, что смотрели за нами с того берега, не знали, что немецкие танки из деревни ушли. Все думали, что они там, стоят за домами. В голове у всех было одно: что пришла пора рассчитаться и проститься с жизнью. Никто вины на себе не чувствовал. Деревню сдали другие. Почему же этих посылают на смерть? – Ну что, Петя. Вот ты и нашёл полковую кухню! – сказал я политруку, когда мы присели под обрывом на корточки. Я посмотрел вперёд. К деревне поднималось не круто ровное поле. Я вскинул бинокль и посмотрел на зады сараев и полуразрушенных домов. – Всем приготовиться к атаке! – крикнул я. Солдаты не двигались. Петя пригнулся ещё ниже и уткнулся каской под самый обрез. Я закричал на солдат, а они ещё ниже прижались к земле. – Кто пойдёт со мной? Солдаты переглянулись. «Он что, спятил?» – было написано на их лицах. – Нужны добровольцы! – Я пойду! – сказал высокий худой солдат, это был мой Паша. Второй, что поменьше, молчал и в мою сторону не смотрел. -Дай мне свой автомат! – сказал я ему. Он охотно протянул мне его. – Ну вот, что Куприянов! Пойдём вдвоём. Будешь делать всё так, как я. Я лягу – ты немедленно ложишься. Я перехожу на бег – ты бежишь! Дистанция на расстоянии локтя. Стрелять начинаю я! Всё ясно? Кто ещё? Есть ещё добровольцы? Молчите, твари?! Видишь, нас только двое. Один из солдат протянул мне свою гранату. – Ну что ж, и на этом спасибо! Политрук мой Петя сидел в метре рядом. Из-за обреза бугра он не высовывался, слышал весь разговор, но каски своей мне не предложил. Он её к голове прижал двумя руками. Он не только своим видом показывал, что не собирается вылезать из-за бугра, он даже сделал попытку остановить меня. – Ты что? Тебе надоела жизнь? – сказал он тихо. – Ну, была не была! – сказал я – Пошли, Куприянов! Политрук и другие солдаты вздрогнули при этих словах. Но что, собственно, меня подтолкнуло? Я был судимый, имел пятно. Меня до сих пор считали ненадёжным офицером. Мы с солдатом поднялись во весь рост из-за обрыва и, ускоряя шаг, пошли на деревню. Наши фигуры замаячили над полем. Нас видели все. И те, что сидели под бугром, и те, что стояли на том берегу и ждали нашей общей атаки. Было впечатление, что мы вдвоём идём сдаваться в плен, если на нас смотреть издалека. Все, кто сидел под бугром, смотрели на нас и ждали момента, когда полоснёт немецкий пулемёт. Вот наши фигуры вдруг вздрогнут, и мы захлебнёмся кровью. Всё, о чём я здесь рассказываю, могут подтвердить живые свидетели. После войны мы не раз встречались с Петром Иванычем, и он в присутствии других людей обсуждал со мной этот рискованный эпизод. Он и после войны осуждал меня за этот отчаянный поступок. Мы с солдатом шли во весь рост на немецкий пулемёт, который стоял в промежутке между двумя сараями. Я отчётливо видел, что ствол пулемёта смотрел в нашу сторону, а немец пулемётчик стоял к нам боком и разговаривал с кем-то, кто стоял рядом за углом сарая. Пулемёт у пулемётчика был между ног. Я шёл по открытому полю во весь рост и, не отрывая взгляда от немца, следил за его малейшим движением. Немец смотрел в сторону. Но вот он повернул голову и посмотрел на меня. «Всё!» – мелькнула у меня мысль. Внутри у меня всё мгновенно сжалось. Ноги перестали слушаться. На глаза надвинулась какая-то пелена. Я моргнул глазами, тряхнул резко головой. Немец продолжал смотреть на меня. Я шёл на него не останавливаясь. Мне показалось, что немец даже улыбнулся. Но вот он снова отвернулся и стал разговаривать с тем, кто стоял за углом сарая. На лице выступил пот, спина у меня похолодела. Я перекинул автомат в левую руку, подошёл, как во сне, к углу сарая и метнулся за угол. Солдат повторил мой манёвр. Мы сделали секундную передышку: – Ух! – сказал я – Дышать нечем! – и вышли из-за угла. Немец теперь стоял задом к нам. Мы пошли на него и на пулемёт. Стоило немцу повернуть голову, покосить глазом в нашу сторону, мы были теперь совсем рядом. Но немец стоял полубоком и не взглянул больше в нашу сторону. Немцы не предполагали, что мы нагло, в открытую попрёмся на пулемёт. Но вот немец повернулся проворно, взглянул на меня, я шёл на него и, не целясь, тут же с рук дал в его сторону очередь трассирующих из автомата. Солдат из своего автомата пустил очередь трассирующих тоже в немца. На лице у немца выразился испуг, он вскинулся и попятился за угол сарая. Обе очереди наших трассирующих в немца не попали. – Смотри по сторонам! – крикнул я Куприянову и пошёл на пулемёт. Куприянчик шёл чуть сзади и справа. Он бил короткими очередями по деревне в промежутки между домами, кой-где уже мелькали немцы. Немцы, услышав выстрелы, забегали между домов. Попытка вернуть брошеный пулемёт погубила немцев. Они надеялись улучить подходящий момент и подобраться к пулемёту. Каждый раз, когда они высовывались из-за угла сарая, я давал в их сторону короткие очереди. Пули визжали, щепа летела от края брёвен. А когда перед твоим носом летят пули, страх и дрожь мешает думать и видеть реально. – Стреляй вдоль деревни! Не давай им перебегать между домов! – кричу я. Солдат полон внимания и мгновенной реакции. Смотрю вдоль улицы – перебежки прекратились. До пулемёта мне осталось всего ничего. Я в два прыжка оказался возле него. Металлическая лента была заправлена, как положено. Я опустился на колено, передёрнул ручку и, развернув пулемёт в сторону деревни, дал длинную очередь. Лента заметалась и запрыгала в коробке. Автомат висел у меня на плече. Сплошной смерч огня вырвало из надульника пулемёта. Пули резали землю, рвали щепу с бревенчатых стен домов. Немцы услышали звук стрельбы пулемёта, сорвались с места и побежали из деревни. Они, видно, подумали, что в деревню ворвалась с пулемётами целая рота. Они никак не могли понять, что всего двое русских подняли такой шум и шухер в деревне. Немцы отдельными группами побежали из деревни. А по улице, заливаясь, бросая снопы огня, бил немецкий трофейный пулемёт с металлической лентой. И только когда сидящие под бугром увидели, что немцы по бугру побежали из деревни в сторону льнозавода, они вылезли из-под обрыва и не спеша, рысцой, подались вперёд. Я бросил немецкий пулемёт, перебросил с плеча автомат в руки и побежал догонять толстого немца. Я бежал за ним и стрелял на ходу из автомата. На немце была широкая накидка. Она на бегу раздувалась, пули как бы входили в неё, а немец продолжал бежать и не падал. Я давал короткие очереди трассирующими и видел, как пули входили в накидку и прошивали её. У немца в руках не было ничего. Он бросил свой пулемёт и теперь бежал налегке. Я бегу за ним и с двух рук стреляю на ходу. Даю короткие очереди. Берегу патроны. Немец в пятнадцати метрах впереди от меня. Мне неудобно бежать. Обе руки лежат на автомате. Я вижу, что мы бежим с одинаковой скоростью. Он бежит, посматривая назад. Я даю короткую очередь. Вижу, как пули входят в него. Вот, думаю, сейчас он сделает ещё пару шагов и упадёт. А он продолжает бежать всё быстрее. Даю ещё очередь. Вижу, трассирующие широким веером. Как пчёлы облепили его. Они впиваются, проникают насквозь, а он, как заколдованный бежит и бежит вперёд. Мелькает мысль: «Он заколдован!». «Ну и дурацкая мысль!» – ловлю я себя. Остановиться, прицелиться, взять его на мушку? Потеряешь много времени. Ведь, стервец, ещё дальше убежит. Автомат при стрельбе даёт большой разброс. Перехватываю автомат за середину ложа в правую руку, делаю рывок вперёд, быстро догоняю немца. С хода ударяю его прикладом по шее \попадаю в каску\, немец от удара падает, а я стою на земле и тяжело дышу. Он лежит на земле, пыхтит, сопит и отдувается, и подниматься, как видно, не собирается. Устал и решил отдохнуть. Куда ему теперь торопиться? Я поддеваю его легонько носком сапога, он нехотя поднимается с земли и поднимает руки вверх. И почему-то улыбается. Улыбка расползлась во всю физиономию. Чего тут смешного? Чему он так рад? Доволен, что остался живым! Наши солдаты, попавшие к немцам в плен, наверное, сейчас не улыбаются. Я показал ему знаком, чтобы он опустил руки, и мы, как старые знакомые, не спеша рядом пошли. Я посмотрел в сторону деревни и сказал ему вслух: – Ну, брат, и убежали мы с тобой прилично! Ещё пару минут, и можно было бы сворачивать на льнозавод! Немец, конечно, ничего не понял, но сказал мне в ответ: – Гут! Гут! Когда мы пришли с немцем в деревню на то самое место, где стоял пулемёт, на крыльце окружённый солдатами сидел Куприянов, а рядом у его ног стоял пулемёт. По деревне уже бродили солдаты. Привели ещё двух пленных, с перепугу спрятавшихся в разрушенных домах. Так без единой потери убитыми с нашей стороны была отбита от немцев деревня Демидки. Судьба поставила на грань смерти в начале всего две жизни. Обернись тогда немецкий пулемётчик, и наши две жизни оборвались бы в тот же миг. Но я почему-то чувствовал и был уверен, что мы невредимыми дойдём до угла сарая, где стоял пулемёт. Всё висело на волоске. Но почему я тогда пошёл на такой отчаянный шаг? Возможно, несправедливость и обиды толкнули меня вперёд. Ведь словами Ковалёву и его заму Козлову ничего не докажешь. У них была своя мерка к людям и жизни. Они жили похотью и сытьём и ничего кроме себя не видели. Но что, собственно, произошло? Деревню взяли, а какие награды получили солдат Куприянов и я? Да никаких! А почему? Да потому! В донесении дивизии сдача немцам деревни Демидки не фигурировала. И награждать за неё людей было нельзя. Ну, а может, что другое сказали? Даже спасибо за взятую деревню сказать позабыли. Правда, гораздо позже, потом выразили мне доверие и дали новое назначение, о котором я потом расскажу. Политрук Соков забрал своих пулемётчиков и ушёл с ними в \пулемётную роту\ деревню. В деревню ночью послали полнокровную стрелковую роту, взятую из другого полка, из района Жиздерёво. Мне сказали, что пока я буду располагаться на переправе как резерв штаба дивизии. В деревню притащили полковую пушку, поставили два станковых пулемёта и приказали рыть окопы, щели и строить блиндажи. В деревню назначили нового комбата. Я за оборону деревни лично не отвечал. Я должен был следить за тем, чтобы во время налёта немецкой авиации не пускать на переправу бегущих солдат. Мне добавили ещё четырёх человек, и я со своими двумя и этими новыми расположился под берегом у обреза воды. Мы вырыли щели, построили себе землянку и занялись от безделья глушением рыбы в реке. В деревне немцы оставили два ящика круглых, как картошка, гранат. Ящики стояли под крыльцом одного из домов. Я пришёл в деревню и велел своим солдатам забрать эти трофеи. Солдаты в деревне не знали, для чего мы прибрали два ящика немецких гранат. Никто особенно не возражал, когда мы их забирали. Вот эти гранаты, штук по пять, каждый день мы бросали в воду и глушили рыбу. Оглушенную и плавающую кверху брюхом рыбу собирали нижним бельём. Рукава рубашки и ворот завязывали, два солдата спускались вводу и, растягивая рубашку за подол, вставали лицом против течения и вылавливали ей всплывшую кверху брюхом рыбу. Так обычно работали мы с утра, а днём варили уху и жарили рыбу. С едой мы устроились вполне прилично. Глушили и ели рыбку, не афишируя, знали, что можем нажить себе завистников и стукачей. Через некоторое время кто-то донёс на нас. В дивизии стало известно о нашем ремесле. Меня вызвали в штаб и прочитали мораль. – Я же не свои, я немецкие боеприпасы расходую! – оправдывался я. – Генерал приказал это безобразие прекратить. – сказали мне. С этого дня ни ухи, ни жареной рыбки больше не стало. Вечером часовых у своей землянки мы не ставили. А просто рогатку с колючей проволокой затаскивали в проход у двери. Я ложился на нары и, прежде чем заснуть, долго ворочался и вспоминал всё происшедшее за эти последние дни. Вот я вижу перед собой немецкий танк, медленно ползущий на окопы. Вот он поворачивает башню и направляет стол пушки на сидящих в окопе солдат. Немецкая пехота из-за танка не высовывается. Немцы боятся ружейного огня. Как удержать рубеж, если против танков ни пушек нет, и минное поле отсутствует? А не поставить ли пулемёты на закрытую позицию, так же, как мы били по забору. Всю местность с флангов можно пристрелять. Пристерелянные направления обозначить колышками, тогда можно будет днём и ночью вести огонь из пулемёта. При подходе танков и немецкой пехоты нужно пулемётным огнём отрезать пеших и заставить их лечь. Пули от земли, из-под танка и от гусениц пойдёт рикошетом, прямым или кинжальным огнём можно отрезать от танков пехоту. А танки без пехоты вперёд не пойдёт. Пусть танки бьют по траншее. Свою пехоту можно за это время в щели отвести. Танкистов привлечёт отрытая траншея. Пусть бьют по пустой. Обнаружить пулемёт на закрытой позиции почти невозможно. Пусть пикировщики бомбят пустую траншею, если даже танк останется стоять на прежнем месте. К вечеру он обязательно попятится назад. Хорошо, что он не по десятку танков сразу пускают. И бронетранспортёров у них на этом участке нет. Сидя в траншее, солдаты против танка не выдержат. Тому был совсем недавно наглядный пример. Другое дело отдельные щели и ячейки. Если есть время, таких щелей можно отрыть с большим запасом. С земли и с воздуха их обнаружить почти невозможно. Но тут было одно обстоятельство. Наш солдат воевать в одиночку не привык. Полковой разведчик – другое дело. Он может и против танка отсидеться один в щели. А у необученных словян психология совсем другая. Они все кучей привыкли воевать. Так, лёжа на боку, представлял я себе борьбу с отдельными танками. Через неделю меня вызвали в штаб дивизии, отругали ещё раз за глушение рыбы и объявили приказ о назначении командиром пулемётной роты. – Рота будет оперативно починена штабу дивизии. Четыре станковых пулемёта и приданные к ним пулемётные расчёты будут приданы тебе с двух полков. Политруком в роту к тебе назначили Сокова П.К. Ты его знаешь. Пётр Иваныч улыбался, когда мы встретились снова. Теперь он был официально моим заместителем по политчасти. Укомплектовав роту, через два дня мы получили рубеж обороны. – Рота будет стоять на стыке двух дивизий! – сказали мне – Участок обороны очень важный. Ты будешь стоять на танкоопасном направлении, оседлаешь дорогу из Белого на Пушкари. Ты должен стоять на месте, если даже сложится обстановка, что ни слева, ни справа не будет никого. Ты всё равно должен стоять. Ты с ротой должен погибнуть, а приказа на отход тебе не будет. Ты понимаешь, что от тебя требуется? – Согласен, но при одном условии! – При каком это улови? – Каждый день я буду получать по два цинка патрон. И раз в две недели по запасному стволу. – Как понимать всё это? – Очень просто. Так и понимайте! Каждый день из четырёх пулемётов я буду вести огонь и расходовать по два цинка патрон. Я не дам немцам головы поднять в городе. Если дадите стволы и патроны, я согласен на все ваши условия. – Интересно! – процедил сквозь зубы начальник штаба. Он вышел и через некоторое время вернулся. – Березин сказал, что всё, что ты просишь, мы тебе дадим. – И ещё! – добавил я, – Прошу выдать мне новую стереотрубу. Начальник штаба позвонил в тыл и обо всём распорядился. Если я буду немцев держать под постоянным огнём, подумал я, они не сунутся на этом участке. На передний край с ротой я вышел вечером. Мы оседлали дорогу и приступили к рытью пулемётных ячеек и ходов сообщения. На каждый пулемёт мы подготовили по две позиции. Одну для стрельбы прямой наводкой, на случай атаки немецкой пехоты. А другую – с обратного ската, как это делали мы при обстреле забора с мельницы. Позиция на обратном скате была тщательно замаскирована.
* * *
Глава 14 На стыке двух дивизий
Текст главы набирал [email protected]
15.09.1983 (рукопись)
- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
11.09.1983 – 13 часть "Город Белый"
Где 14-а часть – "Оборона пулеметной роты на стыке двух дивизий"?
15.09.1983 Нет "Пушкарей" № 14 на редакцию.
- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
(Оборона на дороге)

Пулеметная рота оседлала дорогу, которая от Белого уходила на Оленино. Я каждый день получал по 500 патрон для стрельбы. Пулеметы стояли на закрытых позициях. Теперь мы били по городу день и ночь. Четыре станковых пулемета были пристреляны и имели свои сектора обстрела. Вот когда почувствовал немец свинцовый огонь. Город внизу. Мы на буграх на окраине города. Сверху отлично всё видно. Тем более что я вёл наблюдение за городом в стереотрубу. Днём улицы города стразу опустели. Душа радовалась на такую картину смотреть. Чувствуешь в себе силу и уверенность. Ночами мы тоже стреляли. Не давали немцам свободно ходить. Мы чувствовали, что немцы нервничали. Они иногда в нашу сторону открывали беспорядочную стрельбу. Но дело всё в том, что они не видели, где мы с пулемётами сидим. За две недели мы показали немцам, что здесь на дороге у нас сильный опорный пункт. И вот однажды в небе над городом появилась рама. Она сделала облёт нашего района обороны. Через неделю над Демидками появились пикировщики. После интенсивной бомбёжки по дороге из города немцы пустили танки. Я видел в стереотрубу, как из Демидок метнулись мелкие группы солдат. Через час деревня была в руках у немцев. Немецкие танки не стали задерживаться. Они перевалили бугор и не спеша двинули на Журы%%%. [Дивизия оказалась разбитой.] Оборона дивизии была рассечена. Со стороны Оленино на оборону дивизии наступала группа немцев. Артиллерия наша была разбита. Немецкие танки ринулись громить наши тылы. Когда танки появились в деревне, где в %%%%%%%%% лежали раненые, медперсонал и ходячие раненые кинулись кто куда. 17-я гвардейская дивизия была разбита и окружена. Березина последний раз видели в деревне Жиздерево. Охрана генерала попала в плен к немцам. Из деревни Жиздерево вырвался один солдат. Он перешёл линию фронта немцев и рассказал, что генерал Березин до подхода немецких танков скрылся. Мы стояли на дороге Белый-Пушкари. Это была прямая дорога на Оленино. Но немцы на нас не пошли. Они, вероятно, думали, что здесь располагался сильный опорный пункт. Я стоял с пулемётом на дороге. Слева от меня никого не было. Я не особенно волновался, что слева от меня весь фронт открыт.

Я не знал, где в данный момент находятся немцы. Можно было всякое предполагать. Я помнил одно – я должен держать стык дивизий на дороге, если у меня ни слева, ни справа не будет никого. Командир соседней (справа) стрелковой роты прибежал ко мне и сообщил:
– Я с ротой снимаюсь!
– Никуда ты не денешься.
– Как никуда, У меня приказ отходить.
– Я тебя не выпущу по оврагу. Ты понял? Вот два станковых пулемёта. Как только ты со своими солдатами вылезешь из траншеи в овраг, я открываю огонь.
– Ты что? Будешь бить по своим?
– А ты как думал? Вы хотите драпать. А я на вас буду сзади смотреть. У меня приказ держать дорогу.
– Я буду сейчас звонить в штаб полка.
– У тебя есть связь?
– Да!
– Доложи по телефону. Мне нужен тоже приказ вашего полка на отход. Пусть ко мне из вашего полка пришлют штабника с приказом мне на отход. Когда он придёт, я тебя из оврага выпущу. Всё понял? Командир стрелковой роты убежал в траншею. Вскоре он вернулся ко мне с представителем штаба.
– Лейтенант! Тебе приказ нашего майора выходить по дороге на Пушкари. Вот письменное распоряжение. Ты с пулеметами переходишь в наш полк!
Майор мне официально отдал приказ на отход.
(Отход от Белого).
* * *
Глава 15 Отход от города Белый
Текст главы набирал SSS Сергей@mail.ru
11.08.1983 (правка)
… 1942

К вечеру мы получили официальный приказ оставить свои позиции. Пулемётные окопы быстро опустели, хода сообщения остались позади. Было ещё светло, когда мы пригнувшись к земле вышли на поверхность земли, спустились в овраг и пошли в сторону дороги, которая уходила от города Белого в тыл, в сторону Пушкарей (к нам в тылы). Впереди на дороге в ночной темноте шли солдаты соседней дивизии.(нам прикажут занять оборону и мы окопавшись оседлаем дорогу и займем новый рубеж). Станковые пулемёты перед выходом обычно разбирают. Щит, ствол и станину солдаты несут отдельно. Станина – самая тяжелая часть пулемёта. Её заваливают на спину солдату и, он, пошатываясь, шагает с ней тяжело переставляя ноги. Станина Максима имеет довольно ходкие и прочные колёса. На колёсах станину можно легко вести по земле. Но по старой привычке солдат почему-то заставляют её таскать на спине. Солдаты, между прочим, против этого ничего не имели. Думаю, когда солдат идёт по болоту или под ногами у него булыжник мостовой, пни, кочки, поваленные деревья (в лесу), то катить станину на катках неудобно. В таких местах солдат надевает её на себя (шею). А зачем спрашивается по ровной дороге тащить тяжелую станину на себе? Так делали только в мирное время. Берегли матерьальную часть и тренировали солдат на выносливость. На войне в этом не было смысла. Я подал команду снять станину со спины и катить её на катках. Нужно беречь солдатские силы и спины, подумал я. Никто не знает, сколько еще осталось идти. Тяжело ступая, пулемётная рота растянулась по дороге. Солдаты идут молча, шагают медленно и неторопливо. Дорога незаметно начинает подниматься в гору. Обгоняя пулемётчиков налегке, уходят вперёд стрелковые роты. – Эй дорогу! – слышится позади. Солдаты нехотя сходят на обочину дороги, а по дороге (храпя) лошади волокут сорокопятку. Все устремились вперёд, в темноту, спешат и торопятся, обгоняют друг друга. Кто ушел вперёд, кто отстал, не имеет значения. При получении приказа на отход, я договорился с полком, что по дороге пулемётную роту пополнят боеприпасами и продуктами питания. Действительно, представитель полка встретил нас в темноте на дороге, когда мы подошли к какому-то сараю. Он попросил меня пройти к командиру полка, в блиндаж в овраге. Вокруг повсюду шныряли солдаты, они грузили обоз. Командир полка, майор, показал мне на карте место на дороге. – Вот здесь займёшь оборону, у подножья безымянной высоты. Ты должен оседлать дорогу, которая в этом проходит (месте проходила) самом узком 2. месте. (между болотом и крутым подножьем высоты). Я посмотрел на карту и спросил: – Кто справа и слева меня? – Место, где ты будешь стоять, узкое. Кроме пулемётной роты там не будет никого. Справа от тебя болото. Слева крутой скат высоты, за болотом ничейная полоса. А дальше оборону занимаем мы. Телефонную связь дать не могу, связь будешь держать посыльными. Я понял сразу, что моей пулемётной ротой затыкают шоссе, что идёт на Пушкари. – Вы хотите поставить меня в качестве заслона и я должен буду пулемётами отбиваться от немецких танков. – Вы же знаете! Немцы без танков по дороге не пойдут. – Пулемётами против танков, простите, не воюют. – Оседлать дорогу я не боюсь. А держать её без пушек я не буду. После недолгого препирательства майор (уступили) велел отдать в моё распоряжение пушку сорокопятку. – Из артиллерии у меня в полку больше нет ничего. – Ну положим – сказал я, – я видел в полку две 76-ти миллиметровые пушки. Майор помолчал и сказал: – Они не мои! Когда весь полк окончательно снялся и в темноте отошел за болото, когда мимо нас по дороге прошла последняя стрелковая рота, прикрывавшая общий отход, я вывел своих солдат на указанное место и занял позицию. Вскоре из тыла, со стороны леса из-за болота затарахтела повозка и за повозкой следом прикатила сорокопятка. Пушку отцепили от передка, положили на дорогу ящик со снарядами, повозку и передок сразу угнали в тыл. Чувствовалось, что пушку оставили на уничтожение. Ко мне подошел командир огневого взвода, такой же лейтенант, молодой и белобрысый как я. – Здравствуй! – Здорово! – Ну как договоримся? – сказал он мне. – Без выстрела по танку живым от сюда не уйдёшь! Предупреди своих солдат! Кто хоть шаг без моего разрешения сделает, лично из пулемёта расстреляю! Пока пушка цела, вы будете стоять на перешейке! -А если её разобьет? – спросил лейтенант артиллерист. – Разобьёт? Если разобьёт – вы свободны! Но учтите! Без выстрела по танку ни шагу назад! Это говорю я вам твёрдо! Потому что знаю вашего брата артиллеристов. В этот раз вы просто так не уйдете! – Ладно согласен! – ответил лейтенант артиллерист. и обратился к своим солдатам: – Все слышали? 3. Пушку поставили слева от дороги в кювет. Нарубили кустарнику и прикрыли её со стороны дороги. Я решил один пулемёт поставить назад. Прикрыть дорогу с тыла. Со стороны высоты у меня на фланге никого не было. Немцы могли обойти высоту, зайти нам в тыл и неожиданно появиться сзади на дороге. Я подозвал к себе младшего лейтенанта Пискуна и отдал ему боевой приказ занять оборону сзади роты в трёхстах метрах, на дороге. – Чтобы не было ошибки – сказал я ему,- в темноте отсчитаешь расстояние шагами. Отсчитай триста шагов и на обочине справа рой немедленно пулемётный окоп. Окоп рыть в полный профиль. Готовность к утру! Пулемёт сразу поставить к бою. Охранять будешь дорогу и скат высоты. С тыла к роте никто не должен подойти! Ты и солдаты отвечаете мне головой за это! У вас лёгкое задание. Основной удар немцев будет здесь. Вы во время немецкой атаки останетесь в тылу и будете наблюдать за нами. Тебе всё ясно? – Ночью все до одного будете нести дежурство у пулемёта и патрулировать! Спать будете потом, когда рассветёт. На ночь двух солдат поставишь патрулями. Они будут ходить взад и вперёд между ротой и твоим взводом. – Вопросы есть ко мне? – Нет! – Выполняй! Младший лейтенант забрал своих солдат, один пулемёт и ушел отсчитывать шаги в темноту по дороге. Серое утро пришло незаметно. Солдаты всю ночь работали, я был всё время на ногах, и поэтому утро показалось мне почему-то невзрачным, бесцветным и серым. Если накануне с вечера и всю ночь по дороге двигались люди, тарахтели повозки, то теперь вся местность вокруг опустела и вымерла. Зловещая, не привычная тишина навалилась как ожидание. Кругом тихо, ни выстрела! Слабый ветер едва шевелит листвой, У самой дороги залитое водой болото и по краю деревья и кусты. Повсюду из воды торчат тонкие стволы берёзок. Медленно движется туман над водой. Серое небо постепенно озаряется голубыми прогалками между облаков. Поднимается солнце. На листьях деревьев сверкают капли росы. Смотришь на всё это, и как будто войны вовсе не было. – Товарищ лейтенант! Погодка нынче благодать! На целый день будет лётная! -Обрадовал – отвечаю я солдату. -Если бы ветер и тучи и дождичек сверху пошел, немецкие пикировщики сидели бы на аэродроме! А тут светит солнце. Днём будет жара. Тут в обе стороны смотри, откуда они появятся или вынырнут. 4. -Ребята во взводе сзади наверно сняли сапоги, валяются на траве, сушат портянки! У них что! Работы мало! Всего один окоп. А тут четыре пулемёта. Для каждого позиция и щели для личного состава. Плоты сбивай и вяжи! Перекурить нет времени! – ворчали солдаты. Я не стал одёргивать их. Люди работают как следует. А что ворчат, значит, есть такая потребность. Чувствуют тревогу! Ждут подхода немцев! Есть такие люди. Делают вид, что не довольны, а сами стараются лучше других (работают). Через некоторое время я решил сходить и посмотреть, как расположился младший лейтенант со своими солдатами. Нужно будет предупредить их, что б из окопа не вылезали. Немцы могут появиться неожиданно. Но от этой мысли меня отвлекли солдаты, которые вязали плоты. Я забыл сходить в пулемётный взвод и предупредить младшего лейтенанта. В самом узком месте на дороге, где мы стояли, был крутой бугор и в нем насквозь была прорыта артамбразура в сторону к Белому. Пушку туда артиллерист лейтенант не захотел ставить. Я приказал из подкопа (оттуда) вынуть сухие бревна и скобы и строить плоты. (Для плотов нужны были сухие брёвна, взять их больше было негде). Плоты я решил построить на всякий случай для отправки через болото раненых и пулеметов на случай отхода роты от высоты. Плоты я велел строить узкие, чтобы их легче было толкать в воде. Солдаты предложили носы у плотов сделать заострёнными набором брёвен. В середине положим длинное бревно, а с боков короче и короче. Я согласился. На плоты можно поставить пулемёты, зайти в воду и вести огонь прямо с воды. Петя как всегда выступил невпопад. Он предложил рее пулемёты кроме одного заранее отправить на тот берег. – Так будет свободней совершать манёвр! – Знаешь что Петр Иваныч! Строчи свои донесения и помалкивай! Ты с пулемётами уйдёшь через болото туда, а мы будем с одним пулеметом отбиваться от немцев. И как будут чувствовать себя солдаты, которые останутся здесь? Что-то у тебя военная тактика с делом не вяжется! С утра я послал в болото двух солдат. Они взяли шесты и ушли мерить дно и глубину воды до противоположного берега. – Не очень топко? – спросил я, когда они вернулись, вылезли на дорогу, и с них текла ручьями вода. -Нет! Товарищ лейтенант! Ногами можно двигать. Дно не топкое. Вода на всем пути по пояс. Работа по подготовке огневых позиций подходила к концу. 5. Одни ещё возились с плотами, другие устанавливали пулемёты на закрытых позициях. Вот когда выучка, полученная на мельнице и в обороне на берегу Обши под Белым, пригодилась здесь. Солдаты понимали, что стрельба из-за бугра даёт большие преимущества. Скажем, я подаю команду открыть огонь по пехоте и танкам противника, которые появились на дороге. Они не раздумывая, без страха и колебаний нажимают на гашетки. Солдатам при стрельбе нечего бояться. Для наблюдения за дорогой на гребень высоты я поставил стереотрубу. В поле зрения каждого пулеметчика были набиты прицельные колышки. По ним пулемётчик устанавливал направление стрельбы, не видя противника. Я смотрел в стереотрубу, подавал команды, солдаты по колышкам выставляли направление. Возвышение выставляли поворотом маховичка по лимбу вертикальной наводки. При контрольном обстреле трассирующими дороги уточнили пристрелку. Когда начинается бой, у пулемётчика мурашки ползут по спине. Как оно выйдет? Кто кого пересилят в первый момент? Всё нужно заранее пристрелять и проверить. К встрече немцев всё было готово. Пехота немцев нам не страшна. Мы сидим за обратным скатом. Немцы тоже не оловянные солдатики. У них под мундиром надеты тоже исподние штаны. Вопрос только в том, кто первый в них наложит. Политрук Соков Петр Иваныч сидел под бугром у самой воды. Я поручил ему руководить постройкой плотов. Он торопит солдат и подавай им команды. – Семёнов! Ты чего копаешься? Слышал приказ командира роты? Солдаты понимали, что немец может подойти каждую минуту. Они и без того торопились. Но политрук своё понимание тоже хотел в работу внести. Я специально выделил ему людей для этой работы. Нужно было выбить брёвна из дзота прорытого насквозь в высоте. Распилить их по размеру и сбить скобами плоты, Я занимался пулемётами, а политрук – плотами. Петя первый раз был занят ответственным делом. Обстановка сложилась так, что уйти в тыл он не мог. Некуда было идти. Раньше он частенько уходил в полковые тылы, пропадал там целыми днями, ссылаясь, что занимался политработой. Дивизия больше не существовала. Тылы полков и дивизии били отрезаны. Петру Иванычу идти было некуда. Не пойдёт же он в чужой полк. Там ему могут дать задание пойти в разведку или сунуть ещё куда. Лучше держаться за свою роту. Да он и толком не знал, где собственно находиться этот полк. Политрук сдвинул каску на затылок, так было лучше видать работающих у плотов солдат. Он глядел на солдат, и по его лицу было видно, что он переживал и решал неразрешимый вопрос, что будет с ними, когда сюда подойдут 6. немецкие танки. Я почему-то был спокоен. На танках или без танков придётся встретиться с немцами, я их перевидал во всяких видах. Увернуться от верной гибели я со своими людьми всегда сумею, если ничего не смогу противопоставить немцам. Было жарко и душно. Солнце стояло над головой. Ветра почти не было. Политрук выглядывал из-под каски вспотевший и разомлевший. Он никогда не снимал свою каску. На солнце она нагревалась и ему, естественно, в ней было не по себе. Он даже ночью, когда ложился спать, оставлял ее на голове. Он был уверен, что она защитит его от шального осколка и пули. Некоторые солдаты тоже носили каски, некоторые ходили без них. Политрук говорил: – Дуракам закон не писан, пусть подставляют головы под пули! Из-под зеленоватой полусферы каски выглядывало такое же круглое встревоженное лицо политрука. Он знал, что посадили их сюда не просто городить плоты и от безделья греться на солнышке и не для того, чтобы прикрыть пустое место между двумя полками, а заткнули в самое узкое место на дороге, где их ждёт верная гибель без всякого сопротивления. Пройдут часы, настанет решающий момент, подойдут немцы и сотрут их в порошок вместе с землёй. Сюда их бросили на истребление. Он знал, что сегодня или завтра на дороге появятся немецкие танки в сопровождении эскадрильи пикировщиков. Это уже было много раз, и он видел их наяву. Он торопил солдат с плотами, а сам обдумывал, как они встретятся здесь с немцами. Соков надеялся, что плоты помогут быстро и вовремя смыться. Вот только лейтенант боится без приказа покидать самовольно рубеж. Ушли бы и все. А там ищи. Можно податься в штаб армии. Вot мы мол пришли – ищем своих! Но была надежда. Раз лейтенант приказал строить плоты, значит он давно решился на отступление. Не погибать же им просто так здесь одним. Конечно, всё зависит от него. Он здесь командир и старший начальник. Артиллерист и тот у него в подчинении. Лейтенант в последнее время замкнулся и больше молчал. Когда он Соков спросил его о подходе немцев, лейтенант, не задумываясь, сказал: – Немцы пойдут здесь! Больше им идти негде! – Ты Петя заранее не трусь. Делай всё, что требуется роте. Как будет дальше, посмотрим, сказал слепой. Решать будем по обстановке. Всё что нужно в роте готово. Так что ты Петя сиди и немцев жди. Первое, что они сделают, это врежут нам как следует. Это и беспокоило политрука. Немцев впереди на дороге не было видно, но тревога не унималась у него на душе. Неизвестность хуже всего. Она угнетала и убивала живого человека. Он посмотрел вверх на гребень бугра, лейтенант и старшина Фомичев командир пулемётного взвода ползали около пулемётов. Они были заняты нужным и серьёзным делом, и через эту занятость нельзя было определить 7. насколько, в какой степени эти люди переживают и волнуются. Этот небольшой клочок земли, торчащий бугром на дороге, может стать их последним рубежом. Петя сосредоточенно думал и не находил (прямого) ответа. Вон глубокий след от его сапога на мягком грунте у самой воды. Вот собственно и всё, что может остаться от него на этом свете. А крутом, по-прежнему, всё было тихо и спокойно, если не считать раскатистое и надрывное кваканье лягушек в болоте. Весной они особенно голосистые. Напряжённая тишина действовала на солдат, они почему-то торопились (и они кое-что делали второпях нерадиво). Я отрывался от пулемётов, смотрел на них и даже рычал. Как я мог их успокоить? В это время по дороге из тыла, из чужого полка пришли два связных солдата. Они передали мне новый приказ командира полка разведать господствующую высоту, что находилась от дороги слева. Я должен был поставить там два пулемёта и не допустить немцев на высоту. Склон высоты резко поднимался от дороги и круто уходил вверх. До вершины высоты, от подножья, где проходила дорога, было не менее километра. Высота господствовала кругом. С её вершины, по-видимому, просматривалась вся округа (все кругом). Я взял бумажку, написанную от руки, в ней говорилось: Если высота не занята противником, командир пулемётной роты должен занять её и окопаться на ней. Теперь половина роты пойдёт на высоту. Сам пойдёт или меня оставит здесь? – прикидывал Петр Иваныч, поглядывая на лейтенанта. Я сидел поодаль и разговаривал со связным. – Готовь один пулемёт! – крикнул я старшине Фомичеву. – Ну вот что Петя! На высоту пойдём вдвоем (вместе)! Тебе нужно будет знать, что там и как! Может так случиться, что я выйду из строя. Проверь, чтобы солдаты лишнего с собой ничего не брали. Пойдём налегке. Я снова вернулся к связным из полка и велел им топать обратно (к себе). Один из пришедших принёс хлеб и махорку. У него забрали мешок и стали делить продукты на роту. На войне с делёжкой харчей никогда не откладывают. Всё что получают, немедленно делят и раздают (делят). Хлеб и махорка не пули, можно и опоздать. – Передай командиру полка, что я и политрук с одним пулемётом через час будем на высоте. А теперь можно топать обратно! Связные забрали брошенные пустые мешки и вскоре исчезли за поворотом дороги, Я поднялся на бугор, ещё раз оглядел стоявшие там пулемёты, спустился к дороге и сказал: – Фомичев, время истекло! Нам нужно идти! Ты остаешься здесь и обороняешь позиции. Без моего личного приказа, не отходить! Пулемётчики подняли разобранный на три части станковый пулемёт и понесли его вслед за нами. 8. Небольшая группа людей стела медленно подниматься на высоту. Я сказал Петру Иванычу: – Ты не отставай! Иди рядом и не очень бойся. На высоте нет никого. Я её с утра оглядел в бинокль. Пойдём двумя группами, чтобы при обстреле не накрыло всех сразу – Ты вообще в военном деле чего-нибудь соображаешь? Мы шли двумя группами, пригнувшись и осматриваясь по сторонам. – Пусть думают, что мы идём с тобой впереди и ничего не боимся! Для солдата важно такое понимание, Земля на высоте была не пахана, трава и мелкий кустарник росли вольно в высоту (повсюду). Как мог политрук идти в каске в такую жару. Думал я, вытирая пилоткой вспотевшее лицо и переносицу. Пулемётчики то катили, то подхватывали на руки станину, перетаскивая ее через кочки и ямы. Постепенно (вокруг), с подъемом на высоту, вокруг открывалась далекая панорама (пространственная перспектива). Я осмотрелся кругом. Горизонт отодвинулся ещё дальше. Видны были леса и поля и уходящая в Белый дорога. Мы прошли метров триста, я подал команду сделать привал. Я считал, что солдаты тяжело нагружены, им нужно было дать отдышаться, а мне оглядеться кругом. Здесь среди стебельков и солнечных бликов ползали жучки, паучки и стрекотали кузнечики. Было жарко и знойно от солнца и от ходьбы. Я встал на колени, поднёс к глазам полевой бинокль и стал водить, рассматривая дорогу. Вдруг мой взгляд остановился. Все сразу (усекли моё) увидели напряжение на моем лице. -Танки! – сказал я в полголоса, как бы боясь, что меня немцы услышат. Я махнул рукой в ту сторону, где на косогор поднималась дорога. Все, кто лежал и сидел на земле, сразу вскочили, (как по команде) вытянули шеи и, прищурив глаза, стали (не отрываясь) смотрели на дорогу. Из низины, в которой раскинулся город Белый, на дорогу выползали темные очертания коробок. Я оторвал от глаз бинокль, обвел взглядом своих солдат, как бы проверяя, все ли они на места, и снова припал к окулярам. Все смотрели на меня и ждали, что я скажу. -Надо возвращаться! – сказал я. И все с облегчением вздохнули и сразу заторопились. – Без паники и суеты! – рыкнул я. – Не бежать! Отходить спокойно! Пулемётчиков не удержать. Они ещё ниже склонились к земле и стали спускаться с высоты к дороге. Солдаты народ энергичный, если почуют беду! 9. Пулемётчики и артиллеристы, оставшиеся на дороге, танки не видели. Но потому как мы быстро повернули обратно и поспешили вниз, сразу забегали. -К бою!- крикнул я, на подходе к дороге (вступив па дорогу). -Немецкие танки и пехота идут (двигаются) на нас по дороге! Солдаты врассыпную кинулись занимать свои места согласно боевому расчету. Пулемётчики знали, что они должны делать и как вести себя по команде «К бою!». Наводчик за пулемётом. Его помощник у ленты с коробками. Подносчик патрон (с коробками) ниже наготове, И не дай бог, что кто-то из них прозевает (что-либо) сделает не так этого требует бой. У пулеметчиков отработано (тактика) дело. (не только взаимосвязь, но и взаимозаменяемость. Пулемет стоит, а расчет вокруг него ползает. Ни один из них не имеет права отлучиться хоть на один миг. Это в пехоте солдат увидел танк, бросил окопы и драпает, только каска мелькает. У пулеметчиков на этот счет свои правила.) Мы тоже отступали и отходили. Но я всегда главным для себя сохранить людей, не потерять их без пользы делу. Наступала решительная минута, и я в такие минуты был зол и решительно собран. Воля заставляла мгновенно работать меня. (Я не думая собрал свою волю в кулак и уже действовал только покрикивая) Отсюда с бугра танков противника ещё не были видно.0ни ползли сейчас где-то там на подходе к перевалу. Артиллерист лейтенант посадил своих солдат под бугор, подбежал к сорокопятке, зарядил её бронебойным, откинул часть кустов, которые закрывали… (натыкали для маскировки) и стал крутить ручки. У орудия остался он остался один (лейтенант). Солдаты артиллеристы сидели возле Сокова. -Вынь наган! – крикнул я Сокову. И стреляй каждого, кто без моей команды шагнёт к болоту! Политрук расстегнул кобур, но доставать наган (не стал) не решился. Мне было важно, чтобы в самый страшный и напряженный (ответственный) момент не появилась паника. Пусть у каждого трясутся поджилки. У меня у самого на душе не спокойно. Мне нужно, чтобы ни один человек не побежал. Петр Иваныч смотрел на меня. У него на лице было написано: – Что же ты хочешь делать? Стаять против танков. Такого ещё не бывало! – Почему револьвер у тебя не в руке. Отвечаешь головой, если хоть один солдат сунется в болото! После моего окрика все прильнули к земле. (Она близкая и надежная. Но и она не всегда спасала солдата) Через несколько минут трясучка прошла. Солдаты успокоились. Волнуйся не волнуйся! Приказано сидеть! Все равно никуда не денешься (не уйдешь). А я в такие минуты почему-то был зол. Теперь у солдат появились желание взглянуть на немецкую танковую колону, которая громыхая шла по дороге и с каждой минутой приближалась. (к их рубежу). Нужно было выяснить, насколько она страшна и опасна. – Не высовываться! – крикнул я и припал к стереотрубе. Солдаты хотели сами окинуть одним глазом и оценить обстановку, посмотреть на ползущие танки, а их окриком прижали к земле. 10. Лежать за обратным скатом и перед собой ничего не видеть (к этому)они непривыкши даже непривычно. В пехоте обычно, чуть шевельнулся немец, все высунули (носы и) головы, глазеют на него, чего он там собирается делать. А тут танки идут и взглянуть не дают. Может он ползёт как раз на тебя. Может нужно чуть подвинуться в сторону, чтобы гусеница мимо прошла. А командир роты орет – "Не высовывайся! " Ну и дяла! Лежи как бревно (матрос в отсеке подводной лодки). Слушай, поворачивай, нажимай и ничего не видь! Я рыкнул ещё раз на солдат, и они прилипли к своим местам. Вот из-за края дороги показался задранный кверху ствол танковой пушки, затем черная башня, гусеницы и плоское дно. Вот он первый танк на дороге во всей своей громаде, (и красоте). Он качнулся разом вперёд и вывалился на дорогу. Следом за ним появились ещё. Я стал считать их по порядку. Слева и справа по обочине дороги шла немецкая пехота с автоматами и винтовками наперевес. Они, как и политрук Соков, были все в железных касках. Это хорошо! – подумал я. Ни одного в пилотке. На всех стальные шлемы. Народ трусоватый. Храбрецов не видать. Рукава закручены. В зубах сигареты. Это они от страха. Так для внешнего вида. (А в животе уже бурлит) Френчи нараспашку, а шаг торопливый, мелкий и неуверенный. В стереотрубу все хорошо видно, даже их пыльные лица. Давайте поближе соколики на эту линию сюда. Сейчас мы вам всыпим! Четыре пулемета. Тысяча выстрелов в минуту. Интересно как вы будете метаться (заерзаете) по земле. У нас всё точно пристреляно. (Смыться от танков) Уйти от встречи с танками, бросить пулеметы на плоты, это нам одна минута. А там ищи нас в кустах. Все болото заросло белыми березками. Но мы вам сначала всыпим свинца. Я достаточно воевал. Был не раз в кровавых переделках. Появление танков и немецкой пехоты на меня ни сколько не подействовало, как это было раньше. (Они) Немцы шли по дороге и пока (на ходу) не стреляли. Да и куда им собственно было стрелять, когда ни на дороге, ни на бугре ни одной живой души не было видно. Когда последний танк выполз из низины, я насчитал их всего шесть. Немецкая колона шла (теперь рвалась) к Пушкарям, так называлась деревня стоящая где-то на дороге сзади за нами. Немцы должны были пробить, дорогу на Оленине и соединиться со своей Ржевской группировкой. Танки шли по дороге друг за другом одной колонной. Впереди, прикрывая своей громадиной, двигался тяжелый немецкий танк. Длинный ствол его пушки то резко опускался, то поднимался над дорогой. Тоненький ствол нашей сорокопятки имел валкий и убогий вид. Танк повел из стороны в сторону стволом, делая вид, что хочет прицелиться. 11. (Он решил с расстояния кого-то пугнуть). А что он может нам сделать? Ударить в пустой бугор с той стороны? Это нам как слону дробиной в задницу. Но вот танк пересёк наш первый пристрелянный огневой рубеж который сейчас был под (мы пристреляли) прицелом наших пулеметов. К рубежу приближалась пехота. -Всем приготовиться! – крикнул я, оторвавшись от стереотрубы. Артиллерист быстро завращал ручкой наводки и крикнул мне: – Буду бить по гусенице! В лоб его не возьмёшь! – Маленько подожди! Я крикну когда бить! Ты все время гусеницу лови! Командир взвода припал к орудию, а я следил за танком, не отрываясь от трубы. -Из орудия по танку… – на распев закричал я. -Огонь! Пушка вздрогнула, блеснула ярким пламенем, дыхнула дымом, по собачьи как-то тявкнула тоненьким голоском и обдала дорогу облаком пыли. Лейтенант метнулся от пушки через дорогу к подножью нашего бугра (назад) и в два прыжка оказался (по другую сторону дороги) около своих солдат. – Ну что попал? – крикнул он мне снизу. Я смотрел в стереотрубу. Может и попал. Я точно не видел. Гусеница на танке была цела. Танк продолжал ещё ползти. -Гусеница не сползла! – крикнул я лейтенанту. После нашего выстрела танк прошел несколько метров и остановился, повел медленно стволом. Вот он довел ствол до створа сорока пятки, замер на мгновение, рявкнул глухим раскатистым басом. Как бы рыкнул плюгавую дворняжку. Сорокопятку подбросило вверх и в облаке взрыва ствол, щит, лафет с колёсами разлетелись в разные стороны, промелькнув над кустами. – Видел лейтенант? – Видел! – ответил я и привалился к наглазникам стереотрубы. Я знал, что артиллерист без моего разрешения никуда не уйдёт. Он подполз на четвереньках ко мне и лежал чуть ниже (меня). А его солдаты смотрели вверх, ожидая моего разрешения. Политрук Соков насупившись смотрел на них из-под бровей. Уничтожив нашу пушку, танки остановились. Они видно ждали другого выстрела из амбразуры прорытой под высотой. Но амбразура была пуста, и они это не видели. (На просвет окно амбразуры ничем не закрывалось.) Пушек у нас больше не было. Я подал команду пулемётчикам и припал к окулярам трубы. Четыре пулемёта захлебываясь ударили по немецкой пехоте. Пули резали все и траву, и кусты, и людей (кругом). В трубу были видны всплески пыли на дороге. Немецкая пехота шла, рассыпавшись по всей ширине пространства дороги. Немцы не ожидали встретить здесь такого плотного огня в упор. 12. На дорогу легли убитые к раненые. Живые, кто успел, попрятались за остовы танков. Артиллерист лейтенант подполз ещё ближе ко мне – Пушка разбита! Отпусти нас, как договорились! Я оторвался от трубы, посмотрел на него, увидел на его лице нетерпение и страх. Он верно подумал. что я заставлю его отбиваться от немцев из винтовок. – Ты же сам сказал! – протянул он жалобно и пискливо (плаксиво). – Хочешь взглянуть? Сколько немцев лежат на дороге? Посмотри, это нужно для дела! Лейтенант приник к трубе и отползая немного вниз сказал: – Да! Вот это дело! – Ну ладно иди! Забирай своих солдат! Пойдёшь через болото. – Майору скажешь, что танки подошли к высоте. Пуша разбита. Пулеметчики режут немецкую пехоту. Я буду здесь стоять, пока танки не подойдут к высоте. – Политрук – крикнул я Сокову. – Отпусти их! Лейтенант артиллерист в один миг скатился к своим солдатам, те вскочили на ноги, засуетились на месте, вошли в воду и исчезли в кустах. Пулемётчики с сожалением и завистью смотрели в болото, Теперь политрук Петр Иванович пополз ко мне на бугор. Он поправил каску, утёр ладонью вспотевшее лицо и тихо спросил: – Ну а мы чего будем делать? Одними пулемётами танки держать (не удержишь)! Может, и мы махнём на ту сторону? Свидетелей нет! – Не спеши Петя! Торопиться нам теперь некуда! Немецкие танки стоят. Уйти с высоты мы в любую минуту успеем. – Я отпустил лейтенанта. Ты правильно сказал. Я избавился от него. Надеюсь, ты меня понял? -Сползай вниз и видом не показывай, что ты чего-то боишься. Я припал к окулярам трубы. Пулеметы продолжали бить короткими очередями. Скат, обращенный к немцам, совершенно пуст и недвижим. Ничто не мелькнет на нём, потому что мы лежим за обратным скатом. Стрелять из пушек по пустому бугру бессмысленно. Танки вперёд не пойдут. Они подавят на дороге убитых и раненых. Им нужно убрать с дороги убитых и раненых, а этого сделать до ночи мы им не дадим. Но если они тронуться, то рота спокойно успеет всё погрузить на плоты и спуститься в болото. На болоте кругом деревья, белые берёзы и зелёные кусты. Людей и плотов в двадцати метрах не будет видно. – Пулемётами танки держим! – крикнул я, чтобы слышали все солдаты. -Мы за обратным окатом! Немцев бояться нечего! 13. – Главное (сейчас) спокойствие! Не дать им подняться с дороги! Славяне! Последнее слово я (особенно) по (фронтовому) выкрикнул. Солдаты видели, что я со стереотрубой лежу выше всех, и это в них вселяло твердость и уверенность. Но по лицам их нельзя было сказать, что они от моих слов воспряли духом, что у них нет ни сомнений, ни страха и они не волнуются. Миномётов у немцев не было. Козырнуть нас за обратным им было нечем (скатом они не могут). Узкая полоса дороги не позволяла танкам податься в сторону. Время идёт. Танки стоят. Убитые и тяжело раненые лежат на дороге. Пехота спряталась за танки. Танки без пехоты вперед не пойдут. Они бояться бутылок с горючим, которых у нас нет. Они бояться бокового удара из-за бугра. Не стоит ли у нас за бугром вплотную к дороге заряженная бронебойным снарядом пушка. Нужно попробовать выкурить немцев из-за двух передних танков. Сделать это просто. Я подал команду убавить прицел. Теперь пули должны пойти под брюхо переднего танка. Они ударят по булыжнику дороги и рикошетом пойдут (ударят) по ногам. Все, кто спрятался за танками, получат порцию свинца. Посмотрим, как они сейчас запляшут. Пулемётчики стреляли вслепую. Перед ними прицельные колышки. Танков я немцев они не видят. По моей команде они поворачивают лимб. – Уровень меньше 0-02, 0-03, левее 0-02, пятьдесят патрон, короткими очередями. Огонь! Смотрю в трубу. Немцы за двумя передними танками заметались. Я вспомнил дуэль немецкой пушки и станковых пулемётов, установленных на обратных скатах под Белым. Я отпрянул от трубы и с удовольствием потёр руки. Теперь мы пулеметным огнем держали немецкую пехоту и танки. Это была невиданная наглость с нашей стороны. И, если хотите, немцы почувствовали в этом нашу (уверенность) силу и для себя ловушку. Когда было видано, что при виде колоны танков русские не бегут. По какой немецкой науке немецкая пехота с танками несла на дороге потери. Немцы заметались в пыли, когда по ним из-под брюха ударили пули. Немецкие танкисты шарили своей оптикой по гребню голого бугра, но сколько они не смотрели, ни вглядывались, обнаружить ничего не могли. Пулеметы били с обратного ската. И что ещё характерно. Я заранее приказал снять с пулемётов стальные щиты, чтобы они не выступали выше стволов. При стрельбе из пулемётов пули шли в начале чуть вверх, к гребню высоты. А затем по кривой опускались к дороге. Бот и вся хитрость. Пулемёты стояли ниже уровня гребня. Вспышек и дыма от стрельбы пулемётов немцы не могли видеть. Немцы перед собой видели голый бугор, который стоял поперёк дороги. Дорога огибала его зажатая между бугром и большой высотой. 14. Уничтоженная пушка могла быть приманкой, и немцы видно не решались схода идти на бугор. Из-за бугра в бок танку могло ударить более мощное орудие (более мощного калибра). Получи передний танк выстрел в упор, боковая броня будет навылет пробита. Танк своей громадиной закроет узкий проход. Почему эти русские так уверенно бьют из пулемётов? Я подал команду пулеметчикам прекратить огонь. Посмотрим, что будут делать немцы? Стрельба прекратилась. Стало совсем тихо. Время как будто остановилось. Если все мои предположения верны, то дело здесь без авиации не обойдётся. Вечером вряд ли сюда прилетят пикировщики. Они обычно начинают свою работу с утра. Танки пойдут вперёд после бомбежки. Так всегда было. Именно таким манером они разгромили наших под Белым. А сейчас немцы ждут ночи, чтобы вынести раненых и убрать о дороги убитых. Убитых они давить гусеницами не будут. На живых это действует нехорошо. У немцев вообще покойники в большом почёте. Они их не бросают. Стараются где можно всех их вынести и похоронить с почётом. Здесь было действительно выгодное место. С одной стороны бугор и болото, с другой подъем на господствующую высоту. Я знал по опыту прежних дней, что немецкие танки остерегались открытых высот. Они выбирали для хода закрытую складками местность. День подходил к концу и врядли они сунуться или что-нибудь предпримут. Вначале, при подходе немцев пулемётчики струхнули. Шутка ли! Колона танков шла по дороге на них. Сколько раз приходилось наблюдать солдатам своих собратьев с поднятыми вверх руками. Я оторвал голову от стереотрубы, посмотрел назад, хотел взглянуть на пулеметчиков, как там они. Парамошкин лежал у пулемёта и спокойно почёсывал за ухом. Он ждал моей команды. Он вытянул шею, навострил уши, когда увидел, что я смотрю на него. Здесь всё в порядке! – решил я. А вот справа пулемётный расчёт старшины Фомичёва копался с пулеметом. Потные, торопливыми движениями рук они перебирали что-то. – Ну что ещё там? – крикнул я в их сторону, – Фомичёв! Проверь пулемёт сам! Чего у них там руки трясутся? Старшина Фомичев быстро подобрался к пулемету, поставил затвор на место, хлопнул крышкой ствольной коробки и доложил: – Пулемет к бою готов, товарищ лейтенант! Время шло. Немцы стояли. Солдаты осмелели, воспряли духом. Послышались всякие шуточки, появились и неприличные слова. 15. Солдаты видели, что я лежу на бугре, спокойно и зло покрикиваю и не собираюсь убирать трубу и пятится задом. А это значит, что всё идёт как надо. Танки стояли. Немцы не высовывались. Пулеметы молчали. Но стоило где-нибудь мелькнуть или шевельнуться немецкой пехоте, я подавал команду, и все четыре пулемёта сразу оживали. Повеселел народ. Стал смелее смотреть. Политрук Соков, молчавший всё время, подал свой голос. Я позвал старшину Фомичева и велел ему наблюдать в стереотрубу. – Держи их за танками? Будут высовываться, бей короткими очередями! – Патронами на сори! – Ложись старшина! А я пойду вниз перекурю, пожалуй! Спустившись вниз, к подножью бугра, я подсел к политруку и закурил (закрутку из махорки). – Ну что Петя? А ты сразу хотел нырять в болото! – Помнишь немецкую пушку? То была наша первая проба. А теперь вторая. – Но не думай, что немцы дураки. Что они свиста пуль испугались. Они ждут авиацию. Немцы воюют по правилам. У них всё делается по науке и наверняка. Они на авось, как мы, не воюют. – Так вот дорогой Петя, утром вставай пораньше, пока над болотом будет туман. Будь на ногах. Нас с утра ожидает хорошая бомбёжка. Политрук невольно оглянулся, посмотрел на край болота, где на мокрой глине отпечатался его след сапога. Там в воде, около берега стояли наши плоты. – Да-да! Ты меня правильно понял! Но только учти! При появлении пикировщиков драпать нельзя. Зайдём в болото и затаимся. Пусть бомбят пустое место. А когда самолёты отбомбятся и пойдут обратно, мы ещё посмотрим в какую сторону нам идти. Мы можем вернуться и опять занять свои позиции. Если, конечно, танки раньше нас не тронуться с места. -Как тебе нравиться такой план политрук? Политрук после всего сказанного сгорбился, поднял кверху плечи, и ничего не ответил. – И вот тебе моё поручение! Обойдёшь всех и поставишь им боевую задачу на завтра. Растолкуй им подробно. Со всех, кто останется в живых, лично сам спрошу за выполнение боевого приказа. И eщё! У старшины Фомичева есть весьма шустрый парень. Он готов всё бросить и драпануть у всех на глазах. -Так вот! Я буду занят немцами и пулемётами, а ты приглядывай за ним и за всеми. Предупреди его. Если он спаникует, ты лично приведёшь мой приказ в исполнение. Он один может погубить всю роту. 16. – У тебя есть спички? А то я завернул и прикурить нечем. – Нет! Спичек давно не давали. -Эй! Парамошкин тащи сюда свою адскую машину-громыхало. Добудь нам с политруком огонька. А то прикурить нечем! Пулемётчик, рядовой солдат Парамошкин, удостоенный приглашения в компанию командира, улыбаясь спустился с бугра, засунул руку в карман, достал из кармана кусок кремня, обрубок напильника и завернутый в тряпицу фитиль. Парамошкин громыхнул напильником по камню, посыпались искры, фитиль задымил, завонял и засветился красным тлеющим огнем (цветом). Парамошкин подул на него (его усиленно раздувал). Мы прикурили. Солдат, понимая что без него не обойдёшься даже в таком плёвом деле, как добыча огня, аккуратно завернул свою адскую машину в тряпицу и с достоинством отправил её обратно в карман. Политрук поправил каску. Я прилёг и с удовольствие закрыл глаза. Да вот как бывает! В штаб армии наверно доложили, что люди соседнего полка держут дорогу. А здесь стоит гвардейская рота и наводит на немцев сомнение и страх. Гвардейцы дивизии. Три полка солдат. Топают сейчас по пыльной дороге из Белого на Смоленск. Пленные! А чем они виноваты? Дело рук Березина, Карамушко, Ковалёва и подобных им в том, что дивизия попала в такое положение. Командиры полков, батальонов сразу разбежались кто куда, побросали роты, солдаты попали в плен. -Ну, как там немцы? Старшина! – сказал я, подымаясь с земли. Я забылся казалось на минуту, а пролетел целый час. – Раненных таскают! Загородились лёгким танком. – А чего не стреляешь? – Патроны берегу! Сами сказали. Да и стволы нужно остудить. – Ладно студи! Только смотри за немцами в оба! Из взвода, который стоял сзади нас, прибежал связной солдат. – Младший лейтенант спрашивает, что нам делать. – Передай младшему лейтенанту пусть явиться ко мне. – Давай быстро, бегом, назад! Я ничего не сказал солдату на счет танков и пехоты противника, Пусть командир взвода сам придёт и посмотрит. Солдат убежал. Через некоторое время явился младший лейтенант. Я велел ему подняться к гребню и посмотреть в стереотрубу. Мл. лейтенант припал к окулярам и увидел танки. Он никак не предполагал увидеть их. Спустившись к подножью бугра, бледный и взволнованный, он уставился на меня. Мне даже показалось, что он смотрит и видит меня в последний раз, У него были широко раскрыты глаза. – Ты понял, что здесь происходит? 17. Младший лейтенант молчал. -Вы будете отходить самостоятельно по дороге вокруг болота – сказал я. Участок дороги до поворота преодолеете быстро. Потом по кустам. Немцы вас не увидят. Отход начнете, не дожидаясь моей команды. Но окоп свой покинете только тогда, когда увидите, что нас здесь нет, и когда немецкие танки пройдут этот бугор. Пока танки за бугром, (не появятся) окопа не покидать! Мы можем вернуться назад. Людей собери в одно место. Пусть не болтаются. Имей в виду, что с рассветом могут появиться пикировщики. Они летают низко. Сверху им всё видно. Они могут появиться в любую минуту. Ночью немецкие танки не пойдут. Утром они будут бомбить наш бугор. Вас они не тронут. Главное, чтоб твои солдаты не бегали. – Вот собственно и всё! – Ты на фронте новичок. Но скоро привыкнешь ко всему! – Всё ясно? – Ясно! – А раз ясно! Отваливай (отправляйся) назад! Младший лейтенант поднялся и побежал по дороге. Его сгорбленная худенькая фигура мелькнула над дорогой последний раз. День подходил к концу. Вечером пикировщики не летали. Все свои черные дела они начинали с рассвета. Ночь прошла тихо. Немцы периодически светили ракетами. Ракет не жалели. Я раза два поднимался на гребень и смотрел в их сторону. Давал команду дать огоньку. Потом спускался вниз, приваливался к выступу бугра и закрывал глаза. Засыпал мгновенного, спал чутко, просыпался от всякого шороха. Через час, полтора открывал глаза, прислушивался к тишине, поворачивался на бок, окликивал часовых, спрашивал их – Как там? Рассвет подкрался незаметно. Взошло солнце. И вот со стороны города показались пикировщики. Связь у немцев работала отлично. Танки ждали их. Я велел дать по две короткие очереди из всех пулемётов и грузить их на плоты. – Всем войти в воду и стоять тихо без толкотни! – С первым взводом пойдёт политрук! – Пётр Иваныч забирай взвод, отойдешь на тридцать метров и будешь ждать меня в кустах. – Отправляйся! Политрук зашел по грудь в воду и стал удаляться. За ним потянулись остальные. Каждый, кто входил в воду втыкал за поясной ремень зелёные ветки. Мы со старшиной в воду вошли последними. 18. Через некоторое время мы догнали передних (роту). Они стояли и ждали нас. Всем под кусты! Стоять не шевелиться! – Чего стучишь зубами? Вода теплая! – Если кто шевельнётся, будете плавать как глушенная рыба кверху брюхом! У одного солдата затряслась нижняя челюсть, когда он, вытянув шею, взглянул вверх из-под каски. Пикировщики шли у нас над головами. Казалось, что немецкие лётчики с небольшой высоты рассматривают нас. И теперь тянут время, во всяком случае, так нам казалось. Я стоял на краю кустов около группы белых берёзок. Отсюда хорошо было видно дорогу, бугор, немецкие танки и пикировщики над головой. Самолёты шли над болотам параллельно дороге и не меняя курса стали удаляться к нам в тыл. Казалось, что они пошли куда-то дальше, нацелившись на опушку леса, где стоял тот чужой полк. Но вот они перестроились змейкой. Ведущий заложил крутой поворот. И летели (сделав) друг за другом и, сделав крутую дугу, теперь не спеша летели назад вдоль дороги. Вовремя мы ушли! – подумал я. И в этот момент я увидел, как один самолёт отвалился из середины строя, отвернул несколько в сторону, пропустил задние самолёты и качнувшись в воздухе резко пошел на дорогу вниз. Остальные подтянулись в линию и продолжали лететь по прямой. Я перевёл взгляд на тот самолёт, он пикировал на дорогу в то место, где стоял наш взвод. Что могло там у младшего лейтенанта случиться? Почему их обнаружили? Я перевел взгляд на группу, которая приближалась к бугру. Передний пикировщик вскинулся вверх, перевернулся через крыло и включил сирену. Он целился в гребень бугра. Один за другим пикировщики срывались к земле, включали сирены и неслись на бугор со страшным рёвом. Взрывы следовали один за другим. Фонтаны земли и пыли поднимались вверх. Рыжее облако росло, нависло над бугром, оно окутало землю, земля гудела и дрожала. Страшный грохот и вой сирен стоял над болотом. Там, где когда-то стояли наши пулемёты, бушевало пламя взрывов и летела земля. Человек не мог бы выдержать такого грохота, если и сидел (бы) под землёй. Сбросив бомбы, и прострочив бугор (построчив) из пулемётов, самолёты построились, набрали среднюю высоту и пошли в сторону города. Танки и пехота стояли на месте. Они видно были уверены, что от нас полетели клочья и хотели подождать когда рассеется густая желтая пыль. Я это сразу смекнул (усек и тут же сорвался с места). – Пулемётчики за мной! Занять высоту! – крикнул я и виляя боками направился к берегу. Солдаты поняли, что медлить нельзя. Никто не хочет бросаться вперёд других, лезть под (пули, под) снаряды и пули (прямой наводкой) – поджилки трясутся. 19. Но, видя что я был впереди и шел как ошалелый и за мной старшина с пулемётом на плоту, пулемётчики заторопились тоже. Если солдат не успеет вступить вовремя на берег, то жди грозы. Лейтенант ни за что не простит. Это они знали твёрдо. Малейшее промедление может обернуться напрасными потерями, может поставить всю роту под удар. А раз лейтенант пошел, он знает что делает. За ним поспевай и смотри. (только поспевай. И солдаты, напрягая все силы, бросились догонять). Высота ещё дымилась взбитой рыжей пылью и вонью немецкой взрывчатки, а (они сняв) солдаты снимали с плота первый пулемёт. (с плота выбрались) Вот они выбрались к подножью высоты. В горле першило и скребло. Нечем было дышать. – Пулемёты к бою! – услышали они знакомый голос. – Прицел постоянный! Огонь! – без передыха, – кричал лейтенант. Первый пулемёт уже бил короткими очередями. Остальные подобрались к гребню по обратному скату. От колышков и пулемётных площадок ничего не осталось. Они примерно на глаз выставили пулемёты и открыли огонь. Сейчас нужна была не точность, а быстрота действий. Нужно было захватить огнем пулемётов пространство, прижать немецкую пехоту и показать немцам, что после такой бомбежки – (вот) мы сидим живые здесь. Пусть думают, что у нас здесь подземные капониры. Им в голову не придёт, что мы во время бомбёжки стояли в воде. Немцы не ожидали встретить снова пулемётный огонь. Бугор был буквально изрыт и перепахан бомбами. Пока самолёты бомбили, танкисты открыли люки, пехота вышла из-за танков, и смотрели на бугор. И вот теперь, когда всё перемешано с землёй, когда на бугре не осталось живого места, пулемёты опять ударили по пехоте. Немецкая пехота мгновенно убралась за танки. Но на дороге остались убитые. (Теперь они варежки не разевали) В это время из тыльного взвода прибежал солдат. Он тяжело дышал, встал оторопело, ошалело смотрел на меня широко раскрытыми глазами. – Ты что? – спросил я, мельком взглянув на него. – Я товарищ лейтенант от туда…, – и солдат, торопясь, стал рассказывать, что с ними случилось. -Младший лейтенант и все люди погибли! В пулемётную ячейку попала бомба. Только сейчас я вспомнил, как при заходе самолётов на дорогу от цепочки пикировщиков оторвался (отделился) один самолет. (и пошел в пике на дорогу) -Как они вас обнаружили? -Я товарищ лейтенант был в кустах. У меня живот перехватило. А ребята лежали на траве возле дороги. Грелись на солнце. -Ну и что? -Все думали, что самолёты пошли дальше. А когда они повернули обратно (и пошли) 20. (на нас), все вскочили и бросились в окоп. (Немец сверху сразу их засек). Я сидел в кустах, так и остался там. Я побоялся бежать, вот и остался жив. – Так! Так! – сказал я, обдумывая то, что случилось. Я припал к стереотрубе и посмотрел в сторону немцев. Танки стояли на месте, немецких солдат не было видно. Политрук и часть свободных солдат стояли в воде. Лишних людей нужно убрать от сюда – подумал я и махнул им рукой. – Отойдете в кусты на прежнее место! Ждите нас там и не высовываться! Немцы уже ведут переговоры по рации, вызывают снова авиацию – подумал я. Я больше не потирал руки от удовольствия. Я чувствовал, что игра подходит к концу. От усталости и напряжения (забот, от переживаний и напряжения)силы были на пределе. Теперь я спрашивал себя, зачем я вернулся на высоту. Что толкнуло меня кинуться снова сюда. Возможно первая удача, желание удивить немцев. А может это бессмысленный поступок? Сейчас я могу поставить под удар всех своих людей. Пётр Иваныч никогда бы не пошёл на это. – Старшина! Передаю тебе трубу! Дерни немцев огоньком! Я сбегаю во взвод младшего лейтенанта. Может, там остались раненые? – Бежим – крикнул я солдату. Я бежал по дороге и думал. Солдат с перепугу доложил что все убиты. А там лежат тяжело раненые. Мы можем бросить их. Когда мы подбежали к пулемётному окопу, я увидел развороченные края глубокой бесформенной воронки. На кустах и деревьях около дороги висели кровавые обрывки солдатской одежда, куски мяса валялись в пыли. Около поваленной берёзы стоял кирзовый сапог наполнений кровавым месивом, поверх него торчала белая кость. Вот собственно всё, что осталось от пулемётного расчета и младшего лейтенанта Лени Пискуна (Гринбера). Все они погибли от взрыва бомбы в одно короткое мгновение. Выходит, что они побежали? – спросил я стоявшего рядом солдата. – Побежали! Товарищ лейтенант. Я видел, как они прыгнули в окоп, и в это время ударила бомба. Меня тоже тряхнуло. Уши до сих пор болят. Солдат говорил и вздрагивал всем телом, словно на него с высоты падали бомбы. Я взглянул ещё раз на кусты. На них болтались обрывки кишок, с них ещё капала алая кровь на землю. Когда мы вернулись назад, все смотрели на нас, как будто мы вернулись из ада, видно у нас был впечатляющий вид. – Ну что там? Товарищ лейтенант. – Потом! Сейчас не до этого! Я решил на бугре оставить один пулемёт и все остальные отправить 21. к Петру Иванычу (заранее) в болото. – Я, старшина Фомичёв, расчёт Парамошкина с пулемётом останутся здесь! Все остальные следуют в болото к политруку и там нас дожидаются! Идти по кустам, на открытые места не выходить. Дойдёте до места, передайте Сокову, чтобы все шли на тот берег! Нас будете ждать на том берегу! Чем меньше нас здесь останется, тем легче нам будет с одним пулемётом отсюда уйти – решил я. Пулемёты разобрали, проворно поставили на узкие остроносые плоты, последние солдаты спустились в воду и вскоре скрылись в кустах. На воде осталась только рябь от их движения. Мы лежали под бугром, постреливая из пулемёта и посматривая на горизонт. Вскоре я уловил отдалённый гул самолётов. Со стороны города из-за леса показались силуэты немецких пикировщиков. Они как будто шли мимо болота по той стороне. Если наши дураки тоже легли сушить портянки, их как раз пикировщики и накроют. Я смотрел и не сводил глаз с самолётов, – Самолёты на подходе – крикнул я, чтоб все были наготове. – На прощание, по немцам, полсотню патрон, беглым… Огонь! Пулемет полоснул длинную очередь. Пулеметчики смотрели на меня. – Давай! – крикнул я и мы скатились к подножью бугра, встали в рост и спустились в воду. В этот раз я вместе с солдатами стоял под кустами. Мы подождали пока самолёты пошли на заход, сбросили бомбы на бугор, завывая сиренами. Картина бомбёжки повторилась. Кверху летели куски земли. Они падали в воду, брызгая в стороны. Пикировщики цепочкой бросились вниз, и над высотой стало подниматься облако рыжей пыли и дыма. Бомбёжка еще не кончилась, а танки тронулись вперёд. Последние пикировщики, остервенело, всаживали свои бомбы, а к нашему бугру уже подползал передний танк, – Ну вот и всё! – сказал я вслух. Услышав «Ну вот» все с облегчением вздохнули. Солдаты засуетились. Кое-кто уже шагнул из-под кустов, чтобы идти. – Куда! Вы что забыли? Самолёты висят над головой, а они прутся, не разбирая дороги! – Стоять и не шевелиться! Пока они не уйдут! Пикировщики построились после бомбёжки и легли на обратный курс. Я подал команду, и мы осторожно не выходя из кустов пошли загребая руками воду к противоположному берегу. Выйдя из воды на твердую землю, солдаты грязные и мокрые побрели на опушку леса. Здесь под деревьями лежала и ждала нас вся оставшаяся рота. 22. С солдат текло. Но все повалились на землю, сил больше не было. Они были измотаны пережитым за всё это время. Я на лицах солдат видел не только усталость, а совсем иное, свое. Они за это время пережили страх и панику, выстояли и не дрогнули. Они не ослабли, а наоборот, окрепли духом и силой. С этими солдатами можно теперь в любой ад спускаться, (Вместе мы всего ничего, а) За месяц с лишним много пережито и сделано. Главное, теперь у меня была уверенность, что они в любых условиях не побегут. Пойди на них в атаку пехота, они с ней разделаются и без меня. Их можно ставить в любое место одних. При выходе на опушку леса, я предполагал, что здесь занимает оборону тот самый майор. Оглядевшись кругом, я понял, что в лесу пусто и совершенно безлюдно. В лесу было сыро и темно. Я приказал всем снять сапоги, слить воду и выжать портянки. Пётр Иваныч пошевели людей! А то они совсем разомлели. Сейчас еще закроют глаза и уснут. – Даю десять минут на всю дребедень! Через десять минут быть всем готовым! Приладить сбрую, проверить оружие! Подозвав старшину, я велел ему послать двух солдат вдоль опушки леса. – Пройдут с километр и вернуться назад! Через некоторое время солдаты вернулись. Они доложили, что на опушке нет никого. Я сел на пенек и закурил. Ну что дальше делать спросил я сам себя. Ко мне подошли старшина и политрук. Они сели возле и повели разговор, что будем дальше делать и куда двинемся ротой. – Искать полк, который нас сунул под бугор, нет никакого смысла. – сказал политрук. – В штаб армии нужно идти! Он никак не хотел вливаться в чужую часть. -Ведь мы гвардейцы! – добавил он. -Пусть нас направят в гвардейскую часть! -Ладно, посмотрим! – сказал я, выпуская дым махорки изо рта. Я знал по опыту, что солдаты второпях часто теряют оружие и снаряжение, И когда мне доложили, что потерян один щит, я велел подвести ко мне виновного. – Он оступился и выпустил щит. – оправдывался политрук. Мы обошли все кругом, щит в ил затянуло. Мы не нащупали его ногами. За солдата говорил политрук. – А чего ты молчал и сразу не сказал? – спросил я его. – Думал, потом где-нибудь раздобудем. – Нужно было за шею верёвкой привязать. – Глубко было. Товарищ лейтенант. Я боялся отстать от роты. 23. – Ну вот чего братцы и ты Петр Иваныч политрук. Щит от пулемета должен быть на месте! Хотите, идите в болото, хотите из-под земли, а щит мне достаньте. Меня не волнует глубоко там было или мелко. Тебе поручили, ты должен его нести. Ты можешь выпустить его из рук, когда тебя убьют! А раненый ты или целый, щит подай и выложи мне! В разговор вмешался политрук. – В каком месте он утопил его, он и сам не знает. Дай нам время лейтенант. Щит, я обещаю, достанем. Я посмотрел на политрука, на старшину и солдата. Все они глазами просили меня. – Хорошо! – сказал я. – Даю вам на это дело три дня! Через три дня доложите, что щит на месте. Все люди как люди, а он, видите, побоялся, что отстанет от роты. Солдат понимал свою вину. – Иди! – сказал я ему, – Срок передвигать не буду! Политрук тоже чувствовал свою вину. Эти люди шли с ним вместе (были в ого подчинении). Политрук за них отвечал. – Стянем где-нибудь у славян – сказал он вслух. Я был недоволен. Солдаты понимали, что причиной тут не щит. Я смотрел на высоту, и высота беспокоила меня. Что я скажу в штабе армии? Почему мы покинули высоту? С солдата чего взять. А с командира роты за отход с высоты можно и могут (должно) спросить. (Вон) Политрука, высота совсем не беспокоит. Он знает, что отвечать буду я. Я поставил стереотрубу и навел её на бугор, где мы сидели. (Из-за кустов и деревьев, что росли на болоте, её не всю, но большую часть было видно. Почему) Я смотрел на высоту и молчал (понимал и политрук и солдаты Он знал, что его не будут таскать. Его дело сторона, что прикажут). Доказывать, что мы (они) без потерь оставили высоту, придётся мне (лейтенанту). "Пулемётчики должны были стоять насмерть. "- скажут ему в штабе. Никого не интересует с пользой или без пользы погиб тут солдаты. (Важно, что он погиб и не оставил позиции). На то и командир роты, что бы заставить своих солдат стоять насмерть. А если он не обеспечил, его нужно судить. Всё элементарно просто и ясно! Я махнул головой солдату, чтоб убрал стереотрубу и подал команду строиться. Солдаты нехотя поднялись, и рота пошла вдоль опушки леса. Я взял направление на дорогу, что огибала болото. (с той стороны и по которой к высоте подвезли сорокопятку). Я думал, что на выходе из леса (на дорогу) мы увидим тот самый полк, который нас сунул на бугор. Пройдя с километра два, я велел поставить мне стереотрубу. 24. Солдаты подумали, что я хочу их снова вести через болото на высоту, но меня в данный момент привлекла другая картина. Немцы, заняв наш бугор, дальше не пошли. Они стояли и что-то поджидали. Дорога от бугра обходила по краю болото и упиралась в опушку леса. В это время от опушки леса оторвались два наших тяжелых танка KB. Они шли по дороге навстречу немцам. Если бы танки остались на опушке леса, немецкие пикировщики их не увидели, и проход для немецкой колоны был бы закрыт. Послав танки вперёд по открытой местности, наши совершили роковую ошибку. Они не подумали, что наши танки попадут под удар пикировщиков. И действительно, как только танки выползли на открытый участок дороги, в небе появились немецкие самолёты. В трубу было видно, как медленно и неторопливо подвигались по дороге два наших тяжелых танка, и как пикировщики скользя на крыло боком рассматривали их. (как бы одним глазом) Наши танкисты не видели пикировщиков. Люки на башнях были закрыты. Танки спокойно подвигались вперёд. И вот первый пикировщик кинулся вниз. Он освободился от груза, и его свечой выбросило ввысь. Бомба пошла точно к намеченной цели. Над танком блеснула вспышка, и до нас долетел металлический скрежет и гул. Облако пыли окутало передний танк. Зa первым самолётом вниз кинулись сразу два пикировщика, а остальные переваливаясь с крыла на крыло кружили на высоте. Из построенной в небе карусели отвернули ещё двое. Они перевернулись через голову и с рёвом бросились вниз. Ни одного выстрела из зенитки. Ни одного нашего истребителя над дорогой. Немцы летали, ничего не боясь. Они (демонстрировали технику пикирования. Как) неторопливо и с наглым расчётом рвали всё живое на земле. Два наших танка остались стоять неподвижно. После такого удара (бомбежки подумал я) по дороге можно ехать на бричке, подумал я. (не на танках прячась за них с автоматами. Щас бы нам открытый тарантас, обитый коврами, на таком как ездил Карамушко). Если бы нас прикрыли с воздуха пикировщики, мы бы не только Белый, мы бы и Смоленск проехали бы на рысях с песней "Шумел камыш…" Когда я взглянул ещё раз на дорогу, где должны были стоять наши подбитые танки, то кроме груды (железных) стальных обломков ничего не увидел. Немецкие танки медленно тронулись от высоты и через некоторое время подошли к опушке леса. Над лесом уже ревела новая партия пикировщиков, Несколько хлёстких раскатистых выстрелов увидел я со стороны леса. Передний немецкий танк остановился, выплюнул в ту сторону три снаряда подряд, и немцы тронулись снова. Вскоре они подошли к опушке леса и скрылись за ней. 25. Я велел убрать трубу. Солдат сложил её, отвернул треногу, засунул её в чехол и взвалил на плечо. Передо мной стоял вопрос, куда вести солдат и где их накормить. Любая воинская часть, куда бы я не обратился, выделить нам продукты откажется (тут же отказалась бы. Они просто так не) Могут дать (даже) хлеба. Мы шли по ничейной территории. Эта полоса земли могла быть занята немцами в любую минуту. Но я не очень боялся этого. У нас четыре станковых: пулемёта и нам никакая пехота не страшна. Впереди за опушкой лежал большой лесной массив. Дорог в лесу пока не было видно. Так, узкие тропинки обходили топкие места. Карты местности у меня не было. Командирам рот в то время (под Белым) карт (вообще) не выдавали. В глухом лесу много разных дорог. Выбирай любую из них и иди, успевай поворачивать. Если смотреть на компас, то вначале она вроде в нужном направлению бежит. Потом неожиданно закрутит и пошла совсем в другую сторону. Нам нужно было держаться строго на север, пересечь Брагинские болота и выйти к реке Лучесе. Где-то в районе деревни Замошье должен был находиться наш штаб армии. Мы шли долго через лес, проходили болотами и наконец вышли на лесную дорогу, которая шла нужном направлении. В середине леса мы неожиданно попали под бомбёжку. (Мы попали под наши Илы. Они) Самолеты шли на небольшой высоте и сыпали бомбы как попало. (Возможно, они приняли нас за просочившихся немцев. Мы махали им пилотками, трясли кулаками, что мы мол свои. Но когда бомбы стали рваться совсем рядом, пришлось уткнуться в серую, болотистую землю.) Опять грязные как черти! – подумал я, посмотрев на своих солдат. После хорошего грохота человек теряет ориентировку. В лесу где перёд, а где зад не различишь. Мне пришлось собирать своих солдат. Одни кинулись в одну сторону, другие побежали в противоположную. Я собрал всех на дороге, проверил направление по компасу, и мы тронулись в путь. Пока тащились по лесу, незаметно стемнело. Когда стало совсем темно, рота вышла к какой-то реке. Здесь па берегу реки и решили остановиться. Летняя ночь короткая, как одно мгновение. Не успел закрыть глаза, а кругом уже светло. (После стольких переживаний и напряжения, ткнулись в темноте под деревья и тут же уснули). Было совсем светло, когда я открыл глаза. Кто-то из моих солдат натолкнулся на телефонный провод, который шел вдоль берега (шел куда-то в обе стороны). Я поднял роту и повел вдоль линии связи. Провод был наш, Над рекой стоял туман, ночью было холодно. Мы шли, одев шинели. На тропе я увидел связистов. Они шли по проводу и посматривали на него. От связистов я узнал, где примерно искать армейское начальство. 26. Связисты были в курсе событий в отношении разгрома нашей дивизии. Они сказали нам как короче выйти на большак и где найти командный пункт 22 армии. Их было трое. Все трое имели награды. У двоих – медали "За отвагу" у одного медаль "За боевые заслуги." Солдаты пулемётчики стояли и смотрели на награждённых. Пулемётчикам медалей не давали. Им даже не выдали гвардейские значки. Вот как бывает! Через некоторое время я вывел своих солдат на дорогу. Мы пошли по ней, посматривая налево и направо, чтобы во время свернуть на Нелидовский большак. К полудню мы подошли к оврагу, который охраняли автоматчики. Эти тоже были при медалях и орденах. Меня выслушали, но в овраг не пустили, сказали, что доложат о нашем прибытии (кому надо). Я отвел роту на обочину, дороги и солдаты легли под кусты. Через некоторое время из оврага вышли двое. Один из них капитан, а звание другого я не разобрал. Капитан остался на дороге, а тот другой вернулся в овраг, чтобы доложить о нас. Капитан был с нашей дивизии. Я спросил его, давно ли они здесь. – Мы ночью группой в пять человек сумели проскочить через шоссе и уйти в болото. Потом вышли ещё трое. Они вынесли знамя дивизии. Двое суток они проблуждали в этом лесу. Два дня назад они прибыли на командный пункт. Здесь их встретил полковой комиссар Шершин. Он приехал на КП армии за несколько дней до немецкого наступления. А когда он узнал, что штабы и тылы полков и дивизии разбиты и отрезаны, стал здесь собирать бегущих из окружения людей. Капитан продолжал свой рассказ. Когда их группа пришла на КП, и те трое вынесли знамя дивизии, Шершин доложил командующему армии, что дивизия спасена. «Дивизия будет расформирована! – ответил тот. Я вижу перед собой неорганизованный сброд людей, солдат и беглых офицеров. Посмотрите на их внешний вид. Они явились сюда без документов к без ремней, некоторые потеряли свои головные уборы. Что вы полковой комиссар называете дивизией? Этот сброд паникёров и трусов! Покажите мне одно боеспособное к бою подразделение! Дивизия ваша будет расформирована! Березин и вы пойдёте под суд!» – Ваша рота пришла вовремя, в самую критическую минуту. Вы понимаете лейтенант? Очень хорошо, что вы сюда подоспели! – Вы какого полка? – Мы не из полка. Мы отдельная пулемётная рота, приданная штабу дивизии. 27. -Мы стояли в стыке на правом фланге дивизии. -Это хорошо, что вы сюда подоспели! -Мы от города отходили вместе с соседями. Нас поставили в заслон на дороге Белый-Пушкари. Мы два дня держали дорогу у подножья высоты 201,5. Вот показал я по карте капитана. Два дня держали танки и пехоту пока не появились немецкие пикировщики. -Здесь на КП говорили, что немцы стоят у подножья высоты. Но никто не знал, что там происходит. Все думали, что дорогу успели заминировать. В это время не тропинке из оврага показался пожилой военный. – Это полковой комиссар Шершин! Вы знаете его? -Нет! – покачал я головой, – Первый раз вижу! Хотя это была вторая встреча. Первая произошла 14-го декабря сорок первого. Когда я из-под Марьино-Щербинино мы вышли двое живыми после расстрела зенитками. Помню он пришел в санвзвод взглянуть на меня. Мы сидели с солдатом у сарая. Когда в дивизию доложили, что всех людей побили, он не поверил и по заданию Березина прикатил в санвзвод. От санвзвода до передовой было по крайней мере не менее пяти, шести километров. Капитан повернулся и пошел навстречу Шершину. Они на полпути остановились и о чем-то переговорили. Я тем временем поднял своих солдат, подал команду строиться и ждал подхода начальства. Внешний вид у моих солдат был неказистый. На одежде после болотной воды и жижи остались тёмные подтёки. Рожи у солдат были не бритые, заросшие щетиной, руки грязные, под ногтями торф и земля, коленки измазаны глиной и землей. К Этому моменту одежда несколько подсохла и сморщилась, но на плечах у солдат лежало тяжелое и грозное оружие – пулемёты, на шеях скатки, на поясных ремнях в чехлах лопаты. В общем, солдаты мои стояли грязные, уставшие и голодные, но могучим своим видом предстали перед тыловым начальством. Шершин приблизился. Я подтянул ремень. Двумя большими пальцами привычным движением руки расправил складки под ремнём на гимнастёрке и шагнув навстречу, доложил:- Пулемётная рота 17 гвардейской дивизии в составе двух взводов, с четырьмя пулемётами построена! – Докладывает лей – Вижу – вижу! – прервал он мой доклад. – Вижу какие молодцы! Шершин подошел ко мне, развел руки в стороны и обняв поцеловал меня. – Целую за всех вашего лейтенанта! – обратился он к солдатам. – Слышал про вас! – Молодец лейтенант! Вы спасли номер и честь нашей дивизии! – Солдаты пусть останутся здесь, а ты пойдёшь со мной к командующему! 28. -Ты ему сам обо всём доложи. Комиссар повернулся, показал часовым на меня и стал спускаться по тропинке в овраг. Я последовал за ним, охрана меня пропустила. – Доложи генералу подробно где стояла ваша рота, как держала танки на дороге – это важно сейчас! Я остановился у двери большого блиндажа, врытого в крутой берег оврага. У входной двери стояли ещё двое с автоматами. -Я сейчас – сказал Шершин и скрылся за дверью. Я остался стоять и осмотрелся кругом. Телефонные провода пучком уходили в бревенчатую стену. Из-под земли над стеной торчало четыре наката толстых брёвен. Мощное сооружение! – noдумал я. Стокилограммовая не возьмёт! Перед блиндажом была ровная небольшая площадка, по другую сторону которой начинался лес. В стороне, под большими елями дымила кухня. Это не походная кухня как у нас в полках с котлом на колёсах. Это рубленный бревенчатый сарай из еловых натесанных брёвен. Сверху крыша в два наката и сверху слой дёрна. Их кухни пел запах съестного. Потянешь носом, душу выворачивает. Я глотнул слюну и, сплюнув, отвернулся. Перед моими глазами стояли часовые. Мордастые, беззвучные физиономии. Я хотел спросить у них закурить. Махорка в роте вчера кончилась, Но посмотрев на их важные физиомордии, решил не обращаться к ним. Дверь блиндажа скрипнула и на пороге появилась молодая деваха в военной форме. На груди у неё болталась начищенная до блеска медаль "За боевые заслуги». Она вышла посмотреть на мальчишку лейтенанта, который у высоты 201,5 держал немецкие танки. Она с порога глянула на меня, потом окинула взглядом небо, и как бы прикидывая, не пойдёт ли дождь, перешагнула через порог. На лице её было спокойствие и уверенность. Она пружинистым шагом прошла мимо меня и направилась к кухне. Дверь в блиндаж снова скрипнула, и на пороге появился полковник артиллерист. Он покрутил головой, взглянул на деваху и уставился на меня. Затем в дверях показался наш полковой комиссар и пригласил меня войти в блиндаж. Я шел за ним. Сначала мы прошли по нешироким проходом где сидели связисты. Потом через две, три двери попали в большую просторную комнату блиндажа. В середине строганный стол из досок, заваленный картами и бумагами. Вокруг стола стояли и сидели офицеры со шпалами. Большая карта района боевых действий армии лекала в самом низу. Она была изрисована цветными карандашами. Прямые и изогнутые линии, кружки и дуги изображали положение наших войск. В конце стола в окружении полковников стоял генерал. Меня подтолкнули к нему, и я доложил о своём прибытии с пулемётной ротой. 29. Генерал посмотрел на меня, нахмурил брови и велел приблизиться ближе. – Можешь показать по карте где проходи линия разграничения наших и немецких войск? – Мне можно подойти к карте? -спросил я. – Подойди! Я сделал несколько шагов вперед и нагнулся над столом, мне нужно было сориентироваться по этой карте и отыскать дорогу Белый-Пушкари. Окинув взглядом карту и увидев изображение Белого, я показал на дорогу, болото и высоту 201,5. – Здесь рота держала немецкие танки. Здесь вдоль дороги проходит передовая линия немцев. Я рассказал, как нам удалось пулемётным огнём отбить от танков пехоту, загнать её в самый конец колоны и задержать колону танков на узком участке дороги до второй бомбёжки. Я рассказал так же, как были разбиты с воздуха два наших KB и что мы двое суток не ели. – Нам нужно где-то продукты получить. – Накормим! Накормим! – сказал генерал рассматривая на карте дорогу. – Ты покажи мне своих солдат, лейтенант. Хочу посмотреть на их лица! – Охрана не пускает, товарищ генерал! Они там стоят у дороги. Генерал повернулся к полковнику и оказал: – Нужно пропустить! Полковник подошел к телефону, отдал распоряжение и доложил что охрана в курсе дела. Я понял, что он звонил в соседнюю комнату где сидели связиста и дежурный (охраны) КП. – Построй своих солдат у блиндажа и доложи мне! – сказал генерал. Я вышел из блиндажа и пошел на дорогу. На тропинке меня нагнал тот самый налитая. – Ну как дела? Кале решили на счет нашей дивизии? Что сказал генерал-лейтенант? – Велел вести солдат. Хочет сам взглянуть на пулемётчиков. Я подал команду – Подъем! Пулемётчики тяжело поднялись, взвалили на плечи своё оружие и цепочкой стали спускаться в овраг. Я построил роту перед блиндажом и доложил генералу. Командующий остался доволен посмотрев на солдат. Рота стояла в полном снаряжении. Разобранные пулемёты солдаты держали на плечах. У каждого винтовка, скатка, противогаз, саперная лопата, в руках коробки с лентами, запасные банки патрон. Солдаты широкоплечие с обветренными и небритыми лицами. Внешний вид грязноват, но такое наше ремесло, народ не какой-то тыловой комендантской охраны. Посмотришь на них, эти и под танки лягут! Уходя обратно в блиндаж, генерал обернулся и сказал полковнику, по-видимому начальнику штаба: – Роту поставить в оборону вокруг КП, лейтенанта назначаю комендантом охраны! Займетесь этим делом полковник! 30. -Организуешь круговую оборону! -Начальник штаба с тобой детали обговорит! -Кормиться будешь на нашей кухне! Генерал ушел, разошлись сопровождавшие его полковники. Я отвел своих солдат под ели и велел собирать пулемёты. – Снаряжение сложить в одно место, чтобы все знали и не бросать как попало! Вскоре пришел полковник, и я последовал за ним. Мы обошли овраг, наметили где будут стоять пулемёты. Вскоре я вернулся назад. Меня с нетерпением ждал политрук Соков. Нужно продукты получить на роту, – Продукты не нужны, солдаты и мы будем питаться готовой пищей с генеральской кухни, Пётр Иваныч на генеральский смотр роты не попал. Они по дороге где-то приметили повозку с разобранным станковым пулемётом. С ним пошел старшина Фомичев и вызвался обтяпать это дело (Парамошин) Они вдвоем отправились добывать утерянный щит. -Щит достали! – сказал он мне. – Теперь я Петя комендант штаба армии! Без моего разрешения сюда никто не войдёт и не выйдет. Иди к повару и закажи кормёжку на всех, а я оборудую себе командный пункт и лежанку под этими тремя мощными елями. Я позвал солдата и велел ему принести пустые ящики и поставить как надо, – Там за кухней валяется целый ворох из под консерв! – Здесь будет мой кабинет и лежанка. Пока политрук толкался на кухне, я со старшиной развёл пулемётные расчёты и поставил им боевую задачу. -На постах не спать! Соображать надо! Кругом начальство! Службу нести как следует! Это вам не танки под высотой! Солдаты поняли что от них требуется, – Будьте спокойны товарищ лейтенант! Не подведём! Сами понимаем! Я вернулся к себе. (Солдат поставил пустые ящики вверх дном, получилась лежанка что надо). Я бросил на ящики свою короткую до колен шинель и прилёг для пробы. Лежать было удобно и сухо. Даже ноги лежали на ящиках и не болтались над землёй. Я не спал третьи сутки, глаза сами закрылись, и я забылся во сне. Через час меня разбудили. Старшине Фомичеву нужно было решить какой-то вопрос. Лежанкой я был вполне доволен. С трёх сторон она была прикрыта толстыми стволами елей. Ответив старшине, я поднялся на ноги и решил пойти к повару на кухню. Отведаю горячей похлёбки и досыта поем черного хлеба. За себя оставлю дежурить политрука, а сам 31. после еды лягу спать. Надо успеть до ночи как следует выспаться. Ночью сам буду проверять посты и пулемётные расчёты, Я видел, как штабные входили под навес на кухню (и выходили оттуда отобедав). Они после обеда оставались на воздухе, кто подышать, кто покурить, кто просто поболтать о погоде. Курили они папиросы (не махорку, как мы а доставали из пачек папиросы). Махорки на армейском складе не было. Солдаты охрены, как я успел заметить, тоже курили папиросы. Вздохнув от мысли, что и я сейчас направлю на кухню свои стопы, я повернулся и глазом прицелился на повара. Но в это время меня нагнал солдат (с жалобой, что он отвернулся и у него стащили хлебную пайку. Он её хотел прибрать на ночь). Я пошел с солдатом в пулемётный расчёт. В это время к елям прибежал связной из блиндажа. Не найдя меня он наткнулся на Сокова. – Полковник вызывает! Я искал лейтенанта, а его нет. – Он в пулемётный расчет ушел. – Тогда идите вы. Политрук вытер губы и пошел за солдатом. Когда политрук предстал перед полковником, тот ему сказал. Возьмите с собой человек пять солдат и отправляйтесь в разведку! Нужно срочно выяснить стоят ли соседи на месте. Политрук почуял беду и забеспокоился. Он лихорадочно думал как ему отбодаться от этого. Он боялся напороться на немцев, а тут кухня, покой и жратва, и он сразу напустил на себя бестолковость, – Я политработник! Я по карте ходить не умею! – А я вам карту и не дам! Пойдете по дороге! Дойдете до частей соседней армии и вернётесь назад! – Я на местности не ориентируюсь! В этой деле у нас грамотный лейтенант. Он окончил военное училище. А у меня три месяца курсов политруков, И у Пети затряслась нижняя губа. Полковник посмотрел на него и добавил: – Ладно идите! Разыщите лейтенанта и срочно пошлите его ко мне! Ну уж это дело политрук взялся сделать с охотой,(и немедленно) Политрука первый раз пригласили в штабной блиндаж и он был страшно рад, что так легко и быстро отделался. – Лейтенант тебя вызывают! – бежал навстречу мне политрук. – Зачем? – Велели срочно найти и передать чтобы ты явился! Нужно идти в разведку! -Я по глазам вижу, что ты Петя словчил! Ты это дело спихнул на меня. Небось неграмотным прикинулся. Политрук насупился и молчал, – Полковник приказал, чтобы ты явился. Я покачал головой, вздохнул, посмотрел ему в глаза, как будто первый 32. (в первый) раз я вижу его. На его круглом лице появилось довольное выражение. – Ты всегда сидишь за чужой спиной. За моей, за солдатской. Зато ты на кухне первый! – Но ведь я же не военный! – Солдаты тоже с гражданки! – Ты прекрасно знаешь, что я третьи сутки не спал. Тебе давал отдых. Держал, так сказать, в резерве. Совесть у тебя есть? Политрук понимал и ситуацию, и справедливость. Но страх его был выше моральных взглядов на вещи. И он молчал. Я посмотрел ещё раз на него, покачал головой, сплюнул и пошел в штабной блиндаж к полковнику. Полковник по карте мне показал маршрут движения, рассказал суть задания и велел отправляться. Мы должны были идти в направлении деревни Гривы, Я сказал ему, что мне нужно поесть. – Поедите потом! Генерал срочно требует данных разведки. Я велел солдатам заполнить подсумки патронами, взять винтовки гранаты (скатки и саперные лопаты). – Пойдём налегке! Скатки не брать! Думаю, что до вечера вернёмся! Мы долго, не торопясь, шли по лесной дороге, часто останавливались, осматривали прогалки и открытые места. Мы могли в любую минуту напороться на немцев. Реальной обстановки в штабе армии никто точно не знал. Ползти по дороге бессмысленно. Идти в открытую, нарвёшься на пули. Интересна психика человека. Когда мы покинули бугор, прошли болото и вошли в лес, направляясь к себе в тыл, чтобы найти штаб 22 армии, тогда мы не думали встретить немцев, мы как бы уходили от них. А теперь мы шли тем же лесом, но в другую сторону, теперь мы опасались (боялись) попасть в засаду. Неизвестное всегда (давит тебе на мозги) настораживает. Пространство между деревьями то расширялось, то сужалось. Дорога то ползла в гору, то сползала вниз. Лес был заболочен и труднопроходим. Главное осознать мозгами, что здесь может случиться. Это и подсказало мне, что немцы в заболоченный лес не пойдут. Лесная дорога для танков непроходима. Без танков немцы сюда не сунуться. Так что можно идти спокойно и не таращить глаза. Часа через два мы увидели славян копающих яму у дороги. Две повозки стояли на пригорке. – Из командиров кто-нибудь есть? – спросил я солдат. – Вон там старший лейтенант! У повозок стояли солдаты и один в портупеи. Я поздоровался с ним и спросил: -Вы не с 29 армии? – Да! А что? – Мы ваши соседи! 33. Мы поговорили с ним о делах на фронте и о немцах. -Они вас не очень беспокоят? – спросил я. -Да нет! Сидят тихо! -Ну ладно, пока!- сказал я и повернул обратно. Задание я выполнил. 29-ая стояла на месте. Я шел ходко. Солдаты едва поспевали за мной. Обратно дошли мы быстрее. Я отпустил солдат и пошел с докладом в блиндаж. Полковник выслушал и в конце разговора добавил: – Приходил повар и спрашивал про тебя. – Можешь идти! Ты свободен! Я вышел из блиндажа и пошел на кухню. Повар – пожилой солдат сидел на пороге и курил папироску. Он лениво поднялся и велел мне садиться за стол, поставил передо мной миску и спросил: – Не холодная? Давай подогрею! – Не надо! – сказал я отламывая кусок хлеба. – Подожди! Сначала плесну тебе немного в кружку! И он налил мне грамм стопятьдесят. – Ты приходи после всех! У нас всегда чего-нибудь найдётся разговеться! Я мотнул головой в знак согласия. В штабе армии кормили ничего. За месяц тут можно шею наесть и животик. Я вышел из кухни и направился к трём елям. Теперь нужно лечь и выспаться, решил я. Навстречу шел политрук Соков. – Пойдём лейтенант, посмотришь! Взгляни на свою шинель! – На какую шинель? – На свою короткую! – А что на неё смотреть? – Придём, увидишь и сразу поймёшь! А ты не хотел идти в разведку! – Причём здесь шинель и разведка? – Ты же на ящиках хотел завалиться и спать. – Ну и что? – Судьбе видно угодно, чтобы ты ушел в разведку. Я, можно сказать, спас тебя. Иди, иди! Сейчас увидишь! Мы подошли к ящикам и трем толстым елям. Ящики были разбросаны и разбиты, а моя короткая шинель была разорвана и пробита осколками. Прямое попадание немецкого снаряда калибром 106 мм. Я посмотрел на дырявую шинель и вспомнил кровавые куски солдатской одежды висевшие на ветках, там на дороге. – Ты ушел. Прошло немного времени. Я сидел со старшиной вон там. И вдруг артналёт. Слышим, на подходе зашипели снаряды. Немцы пустили всего один залп. Разрывы ударили кругом. Пострадала только твоя шинель, солдат и охрану не задело. Не уйди ты в разведку, от тебя бы сейчас остались одни лоскуты. Твоё счастье, что я тебя подсунул. Ты обязательно бы завалился спать. 34. – Судьба, так судьба! Но ты признайся, что сделал свинство. – Признаюсь! Жизнь дороже, чем мелочные счёты! – В наказание политрук ты будешь дежурить сейчас, а я лягу спать, пусть принесут новые ящики. В одно место снаряд не попадает дважды. Если полковник будет спрашивать, скажи, что я не спал. Жизнь солдат незаметно зашла в спокойное русло. Дни стали похожи один на другой. Провели ротное мероприятие – noстирали бельё, устроили баню, почистили сапоги, подтянули ремни. Караульная служба без стрельбы и без войны, регулярное кормление до сыта, показалось раем. Так можно было жить! Между прочим, из немецкого окружения продолжали выходить небольшие группы гвардейцев. Они шли ночами. Днём отсиживались в лесах. Солдат среди них было мало. В основном офицеры. Окруженцев разместили в лесу километрах в трёх от командного пункта. Сюда в овраг их не допускали. Офицеры и политработники спали прямо на земле. Строить им земляном было не кому, а на земле они спать были непривычны. Питались они из походной кухне, которую им выделила какая-то часть. Офицеры и солдаты выходящие из окружения проходили собеседования. Они давали объяснения, кто где и откуда бежал. Из сотни вышедших, солдат было с десяток. В основном это были штабные писаря, денщики и связисты. Из стрелковых рот солдат я не видал. Я иногда ходил в лес, смотрел на пеструю сходку и первобытное кочевье. Офицеры, побросав своих солдат, болтались в лесу, томились в безделии. Им бы опять занять свои места и штатные единицы. А воевать на передовую людей всегда найдут. Десяток маршевых рот и дело в порядке, Важно офицерский состав сохранить. Уж они теперь постараются! Им бы сейчас подчинённых. Они бы заставили их строить землянки и блиндажи, а то лежишь в лесу как дезертир, ни должности у тебя, ни твердого положения. Капитан, тот, что вышел ко мне тогда навстречу с Шершиным, тоже сидел в лесу. Шершин исчез на третий день после моего доклада генералу. Его куда-то увезли. – А где Шершин? -спросил капитан. – Увезли на машине в штаб фронта. – Что слышно о Березине? – Береэин говорят у немцев. – Всех беспокоит один вопрос, когда командующий вынесет своё решение? Когда начнут формирование нашей дивизии? Если бы появился Береэин, то с этим вопросом не стали бы тянуть. – Не обольщайте себя капитан! Березин здесь никогда не появиться. – Это почему? 35. – Ему не меньше расстрела дадут. Я могу сказать только одно. Я видел сам, как Шершина под охраной впихнули в машину и в тыл увезли. Его могут тоже к стенке поставить. – А его то за что? – Вы же знаете, что под удар была поставлена не только наша дивизия, в котел попала целая армия и кавкорпус. – Это я знал. – А чего же спрашивайте? – Но позвольте! Последнее время дивизией командовал полковник Горбунов. – Да так. Но только вы учтите. Горбунов принял дивизию неделю назад. А Березин обрёк её гораздо раньше, когда первый раз сдали Демидки. Вы же из штаба дивизии и лучше меня знаете подоплёку разгрома дивизии. Я видел собственными глазами, как роты и батальоны солдат поднимали руки и сдавались немцам в плен. Вы же знали, что наша оборона держалась на одних винтовках. Окопы в одну линию, как в гражданскую войну. – Но где же тогда Березин? – Это я вас должен спросить. Из опроса тех, кто выходит ясно одно, что его с некоторых пор никто не Видел. Последний раз его видели в компании начальника медсанбата. – Ну и что? – Как что! В одной из групп пришли солдаты и сказали, что они слышали Как начмед сказал своей жене военврачу – Давай скорей, нам нужно вовремя успеть перейти к немцам. А потом их на дороге видели вместе. Его последней раз видели на дороге к Белому. – Березин вообще был странным человеком. Я был в штабе долгое время и все мы каждый раз удивлялись. Он вел себя не совсем понятно. Он много раз ночью вдруг исчезал из штаба, а утром на следующий день его обнаруживали где-нибудь на передовой в полку. Адъютант и охрана хватятся его, а его и след простыл. Говорят, что он любил исчезать и появляться внезапно. Раньше до Белого у него этого не было. Никто не знал куда он уходил. Однажды зимой он вылез в окно. Хватятся в штабе и давай по полкам звонить, полки в батальоны. Сначала все удивлялись. Пропал генерал! А потом привыкли. На самом деле странно. Штаб дивизии не знал где их генерал. Потом днём он где-нибудь появится. Хотели овчарку завести, чтобы искать его по следу. Он ведь всё пешком, в одиночку сбегал, без свидетелей. Спрашивать его боялись. Он был крутой и раздражительный старикан. Ходил всегда с клюшкой. Прихрамывал на одну ногу. Генеральскую форму не носил. Одевал полушубок овчинный. И по этой клюшке его узнавали издалека. Говорят, в гражданскую получил ранение. в пах. Семьи он не имел и жил отшельником. Говорят, у него где-то сестра живет. 36. Мы спрашивали Шершина, что думает он о причудах генерала»,б его исчезновении. Но Шершин всегда отмалчивался. Опрашивали солдат на передовой. Что, мол, делал тут генерал? Мол такой пожилой, худой с клюшкой? -Да, да! -отвечали мы. -А кто он? – спрашивали солдаты. Он в разведку ходил. Сказал нам, чтоб мы не стреляли. Потом к утру приходил назад. Обнаружат его где в полку, посылают упряжку. Скачет охрана и адъютант. А он встретит их на дороге и размахивая своей палкой кричит: – Что прозевали? Да и сейчас о нём ходят разные слухи. – А что говорят о нём на КП? – В штабе армии о нём не говорят. Я спросил как-то полковника. Он посмотрел странно на меня и ничего не ответил. Командующего я спрашивать не стал. Пришел солдат и сказал, что видел его вместе с начальником медсанбата. Начмед с женой, а генерал с клюшкой. Из всех кто вышел потом, ни один не видел его. Вот и вся история о Березине. Скоро в лесу появился полковник Добровольский, новый командир дивизии. Потом появился начальник политотдела Пшеничный, В полки стали прибывать офицеры, сержанты и рядовые. Маршевые роты приходили со стороны Нелидова. Вскоре зафыркали лошади, загрохотали по гатям повозки, появилось оружие, боеприпасы, фураж, продовольствие и обмундирование. Тыловые службы быстро обросли барахлом и брюхом. Вскоре в дивизии появились связисты, они натянули провода, проложили связь по полкам и батальонам. Артиллеристы получали пушки. В поредевшем лесу среди блиндажей, землянок и рубленных сараев появились санроты. Дивизия пополнялась, готовилась к боям. Немцы были уверены, что 17-ая гвсд больше не существует, а она из земли воспряла в полном боевом составе. Она встала под боевое вынесенное знамя и готова была его целовать. Соединившись со своей Ржевской группировкой, немцы на всех участках перешли к обороне. Боевые операции прекратились, обстановка на Бельско-Ржевской дороге повсюду стабилизировалась. К этому времени надобность в усилении охраны Штаба 22 армии отпала. Я получил указание снять пулемёты и отправиться в полк. Вечером я устроил солдатам баню, а утром собрав всех людей, построил, вывел солдат на дорогу и зашагал в сторону леса. Стрелковые роты были укомплектованы. Все ждали приказа о выходе на новый рубеж. – Отъелись на армейских харчах и еле идут с обвисшими животами! – этими словами встретили нас солдаты сидевшие в лесу, – Заткнись! Ты тыловик с уздечкой! От вас тыловой сбруей пахнет! 37. -Ещё и нос кверху дерёт! Ты на войне хоть раз был? Вскоре дивизии поставили задачу. Прорвать немецкую оборону и перерезать дорогу Белый-Пушкари. Дорога, которая соединяла город Белый и город Ржев. Пулемётная рота вместе со стрелками покинула лес и двинулась на новое место сосредоточения. Местность, по которой пойдут в атаку стрелки, была заболоченной, поросшей кустами и плохо просматривалась. Немецкий передний край был где-то совсем рядом. Он шел по краю дороги, но из-за густых кустов никто из наступающих его не видел. Определить, где сидят немцы и где их огневые точки, было невозможно. Когда солдат подняли и под крики взводных и ротных послали вперёд, в кустах раздался сплошной треск и грохот. Пучки трассирующих и разрывы снарядов, взвизгивание осколков навалилось сразу на солдат. Впереди и сзади рвались снаряды и мины, многочисленный треск пулемётов обрушился на солдат. По просёлочной дороге на немцев пошли два наших танка, И как только моторы взревели в кустах, немцы обрушили на них мощный залп артиллерии. Снарядами порвало гусеницы. Танки остановились. Стрелковые роты проскочившие в кусты залегли и стали окапываться. Для прикрытия и поддержки пехоты вперёд бросили два взвода пулемётчиков, Только теперь стало ясно, что атака сорвалась. Роты неся потери лежали внизу под дорогой. До самого вечера ухали разрывы снарядов и мин, надрываясь, стучали пулемёты. К вечеру немцы немного успокоились, С передовой побежали и побрели раненые. Я успел оббежать пулемётчиков, побывал во всех расчётах и к ночи вернулся в батальон, Возвращаясь назад, я присмотрел в лесу на полдороги небольшую землянку. Это были старые окопы, построенные здесь до нас. Бегать каждый день на передний край, отмеряя километры туда и обратно под огнём не очень приятно. Переговорив по телефону со штабом полка, я взял из батальона связного и перебрался на новое место ближе к переднему краю. До переднего края здесь недалеко. Кругом лес и лохматые кусты, землянка была небольшая. Четверо с трудом помещались в ней. Часовых около землянки я решил не ставить. В тёмном сыром лесу, в этом чертополохе, среди деревьев и кустов найти дыру входа было почти невозможно. Да и кому мы были нужны. Сюда случайно мог завалиться сбившийся с пути солдат. Да и тот, нащупав ногами проход, скорей подумает, что попал (и оступился) ногами в яму. В землянке устроились: Петр Иваныч, телефонист и связной солдат из батальона и я. Слышно было как ухали немецкие пушки и перекатывались удары разрывов 38. Вторую неделю славяне копались в земле. Рыли хода сообщения и насыпали брустверы. Нужно было оборудовать стрелковые ячейки и пулемётные гнёзда. Старая линия обороны, которую до нас занимала пехота, остались позади. Отрыть в полный профиль окопы мы не могли. Местность была топкая. Быстро проступала болотная вода. Укрытия строили над землёй. (Укладывали бревна за счет насыпного грунта). Резали дерн, таскали землю, укладывали брёвна и засыпали (ещё раз все) землёй. Днём немец немного усиливал огонь. Возможно, замечал работу, а может и с перепугу стрелял. Наши солдаты вели себя спокойно. Чего зря палить. Всё равно в кустах ничего не видно. В начале постоянный обстрел действовал на нервы. Это сперва. Люди пригибались, передвигались перебежками, прятались в ходах сообщений, бестолково суетились. А потом. Потом ко всему попривыкли. На взрывы и грохот перестали обращать внимание, смотрели на всё спокойно, ходили не торопясь. Совсем рядом ударит немецкий снаряд, зарычит глухо, уйдя в податливую почву, и опять всё тихо и спокойно кругом. Разрыв снаряда в лесу кажется очень близким. Разорвался как-будто в трёх шагах, а осколков не слышно. Каждый день солдаты несли потери. Судьба выбирала не всех подряд, Куда летит и чья вот эта визгливая мина? Ты хоть стой, хоть падай или сиди, пригнувшись в окопе, она всё равно найдет тебя, от судьбы не избавишься. Сиди, надейся и жди своего часа. Прорвать немецкую оборону наскоком не удалось. Стрелковые роты зарылись в землю и лежали без дела. Как-то к вечеру на небе появились тучи. Быстро стемнело, и пошел дождь. Трава, деревья и кусты зашуршали под тяжелыми ударами крупных капель дождя. Всё войско сразу промокло. Ноги не слушались, разъезжались на липкой земле. Внутри одежды везде хлюпала вода. Солдаты сгорбились, подобрали руки, выставив наружу пустые рукава. Намокшие воротники и полы шинелей намокли и набухли. В глаза плескала и отовсюду брызгала вода. (Ресницы, ноздри и подбородок начинало щекотать. Вода ручья бежала по лицу за шиворот. Нужно было умудриться и избавиться от щекотливого зуда и мокроты, мешающего думать и видеть.) Дождь усилился, (продолжая шуршать в листве и кустах. Дождь) стучал по набухшим и мокрым шинелям. Монотонный и надоедливый звук дождя повис в воздухе, и пространство пропало. В этом сером мерцании ничего нельзя разобрать. Человек идущий по окопу как-то сразу натыкался на тебя. Он шел, ни на что не глядя. 39. Кто и зачем его послал в такую погоду? И охота ему таскаться по залитой водой траншее. Кто он? Свой или чужой? Сидящих в окопах солдат это совсем не волнует. Никому не охота поднимать головы. Каждый, закрыв глаза, отворачивается от дождя и не хочет его видеть. А дождь шуршит листвой, заливает хода сообщения, растворяет набухшую землю. Подумать только! Уже льет вторую неделю! Дождь пронизывал не хитрую солдатскую одежонку, и высасывал из человека последние крохи тепла. Холодная влага подбиралась к озябшему телу, и оно начинало дрожать. По плечам и спине сбегают холодные струи, они ползут вниз по позвоночнику и куда-то в самые штаны. Не у всех солдат прибывших на фронт имелись плащ-накидки. Их носили только бывалые люди, да те шустрые из вновь прибывших, которые добывали их снимая с убитых. А те кто ждал и верил, как верят в бога, что им по справедливости когда нужно дадут, тот сидел под дождём в одних шинелях. В ротах многие не имели накидок. И теперь, когда пошел дождь, мокли до костей. Протяни язык командир роты, что люди мокнут под дождём. Подумаешь беда! На то она и пехота непромокаемая, С убитых стаскивают накидки, изорванные на куски, В них нет таких дыр, которые можно зашить. Стуча и выбивая зубами чечётку, солдаты жались к сырой земле. Весенний, холодный дождичек отбирал больше тепла, чем лютый мороз. Вода теплоёмкое вещество. Она за пару часов может высосать из человека последнюю калорию. Из верзилы парня, на которого нужно снизу смотреть, такой дождь делает мокрую курицу. Вот тебе и весенний, мелкий дождичек! Немец в такое ненастье переставал стрелять, и его беспокоила только ночь. Ночью славяне могут тихо и незаметно подползти. Вечером с наступлением сумерек, задолго до полной темноты, немец как по команде пускал осветительные ракеты. Чмокнет она, как хлопок в ладоши, зашуршит под звук косого дождя. Мутным пятном вспорхнёт она вверх и повиснет, повисит пошипит и растворится в сырой черной мгле. Что толку в такую погоду пускать ракеты? – скажет кто-нибудь из солдат. Смотришь на неё со стороны, провожаешь глазами, а потом что видишь, кукиш к глазам подноси! Слышно, как дождь шуршит, как падают крупные капли, ударяясь в лужи мутной воды, как куски глины, отмокая, падают в воду от стенок окоп и ходов сообщений. Видишь, как ползёт размокшая земля. Здесь зачавкали сапоги, там нырнул в темноту телефонист. Жизнь в стрелковых ротах ила своим чередом. Но вот зашевелились в штабах. Забегали связные в ротах, меня вызвали и я получил приказ снять своих пулеметчиков и перейти на другой участок.
* * *
Текст главы набирал Гуров@mail.ru
16.09.1983? (правка)
Июль-Август 1942

Если из города Белого повернуть на большак идущий на Егорье, Верховье и Шиздерово и пройти километров восемь, то можно добраться до деревни Пушкари. Не ищите её на туристических картах, она на них не обозначена. Не все мелкие деревни обозначают на них. Большак этот во время войны играл для немцев и для нашей армии большое значение. За деревней Верховье он расходился на насколько дорог. Одна шла на Кострицы, Гусево, Белоусово и Оленино, – дргугая уходила к Завидовскому участку Ржевского укрепрайона. Ржевский укрепрайон был построен нашими войсками. Осенью сорок первого он был оставлен и теперь занят немцами. Зимой сорок первого года наша дивизия захватила в тылу у немцев дорогу от Верховья до Белого. Подтянув авиацию и танки, немцы нанесли встречные удары. Одна группа немцев двигалась из Оленино на Верховье, другая ей настречу из города Белого по указанному большаку. Разбив в короткий срок 17-ю гв.с.д. немцы захватили дорогу и отрезали большой район, где были части 39 – ой армии и 2 -го кав. Корпуса. Многие деревни в полосе наступления немцев были разбиты и сожжены. Теперь в июне, июле вдоль дороги Белый, Пушкари, Егорье, Верховье проходила линия обороны немцев. Чего скрывать. Понятно что наши войска решающего успеха в районе Ржева долго не имели, хотя кровопролитные бои здесь продолжались до самой весны сорок третьего года. Деревня Пушкари, если смотреть снизу с оушки леса,стояла на крутой высоте. По переднему скату высоты проходила немецкая траншея. Метрах в ста за дорогой пролегала дорога, а за ней по обратному скату поле спелой золотистой ржи. Деревня была сильно разрушена. К моменту нашего наступления в деревне остались две,три разбитых избы и один развалившийся сарай. Болотистый лес, котрый подходил к подножию высоты простирался на большое пространство и доходил до станции Нелидово. Немцы наверху сидели в сухой траншее, а наши славяне занимали оборону по опушке леса в затопленых окопах и землянках. В ночь на 12 августа мы подошли к опушке леса и сменили солдат какой-то дивизии. Командир полка, офицеры штаба, два комбата и командиры рот вышли на опушку леса для рекогносцировки. Завтра после короткого артналёта два батальона пехоты пойдут на высоту. В боевом приказе об огневых средствах противника ничего нам сказано не было. Обычно при переходе в наступление нас переводили на незнакомый участок. За всю войну мы ни разу не ходили в атаки на тех участках, где долго держали оборону. В таких местах, где мы подолгу сидели в обороне мы знали не только огневые средства расположенные на переднем крае противника, но и те другие ближние и дальние огневые позиции с которых он бил. Но каждый раз при переходе в наступление нас выводили в совершенно незнакомую полосу фронта. Возможно у командования были на этот счёт свои расчёты, чтобы мы особенно не боялись и поскорее двигались вперёд. И мы каждый раз наступали как слепые. Если бы командир полка упомянул подробные сведения о противнике, кто всё это стал бы держать в голове. Немец обычно открывал ураганный огонь и под вой и грохот снарядов данные о противнике выбивало из головы. Но и с другой стороны солдат на незнакомом участке шёл не разбирая дороги, ему нужно было поскорей до траншеи, до укрытия. Чтобы вскрыть огневые средства противника, нужно было провести разведку боем. Но при этом мы теряли эффект внезапности. Мы могли обнаружить себя и выдать наши замыслы противнику. Полагаясь на авось, два батальона пехоты были готовы ворваться в немецкую траншею. Да, забыл сказать. На высоту пойдёт один танк. Я посмотрел вверх на зелёный скат высоты, с опушки леса не было видно, где находиться немецкая траншея и сама деревня Пушкари. Много раз бывало так, Завтра из комбатов здесь никого не будет. Хотя батальоны полным составом идут в атаку. Они сегодня толкутся на опушке леса, потому что немцы не стреляют. Я считал, что когда рота идёт вперёд, её должен вести лично командир роты. Если идёт батальон, батальонный должен быть в цепи. Солдат стрелков на высоту поведут командиры рот, а полковые и батальонные уйдут подальше в лес и будут дожидаться результатов. Затвра, когда начнётся заваруха и немец всеми силами ударит по нашей пехоте ни штабных, ни комбатов на опушке не будет. Телефонную связь сразу перебьёт и вся связь пойдёт через живых людей, которых будут слать в роты. Командир полка определил на карте, кто, где, в какой полоосе наступает, указал направление, по которому пойдёт танк. Для танка отвели промежуток между двумя батальонами. Всё было предельно просто. Только не знали как себя поведёт противник. На деревню солдаты пойдут цепью. Танк обгоняя пехоту перережет траншею. Кто не успеет вовремя добежать до траншеи, тот попадёт под огонь немецких батарей. Пулемётная рота останется внизу на опушке леса, под высотой. Она пойдёт в Пушкари по приказу. Ночью шесть стрелковых рот и одна пулемётная рота вышли на исходные позиции. В ночной тишине мимо нас прошли молчаливые фигуры солдат пехотинцев. Они лягут вблизи немецкой траншеи. О чём думает сейчас солдат пехотинец? Некоторые из них побывавшие под огнём знают чем обычно кончаются такие затеи. Вон на заболоченном участке под дождём пехота с двумя танками пошла в атаку. А что получилось? Танки с разбитыми гусеницами остались стоять, а пехота залегла на подходе к дороге. А здесь? Немцы такую высоту просто так не отдадут. Посмотришь на высоту. Ночью крутой скат высоты, казалось уходил прямо в небо. Если там, на прошлом месте из-за куска болотистой земли немец бил по нашим целую неделю, то здесь, он будет день и ночь ковырять снарядами всё. Высота господствует над большим лесным районом и взять её будет не просто. Единственное, что может помочь – это момент внезапности. Справа от нас наступает соседний полк. Кто интересно ворвётся первым в траншею. На каком участке немец не выдержит и побежит. Наступило утро. Теперь даже было трудно сакзать ясное оно было или серое. Утро 12 августа сорок второго года запомнилось немногим солдатам оставшихся в живых. Мы лежали на опушке леса около затопленной землянки. Несколько в стороне были рассосредоточены пулемётные расчёты. Почва в лесу была пропитана дождевой водой. Закопаться в землю на исходном положении мы не могли и поэтому лежали поверх земли. Копнёшь на штык лопатой и везде сочиться земля. Я рассосредоточил роту, чтобы при обстреле не попали под один снаряд сразу много людей. Солдаты понимали меня с полуслова. Они знали и верили, что я их не суну на погибель или по глупому на убой. Они понимали, что им в деревне придётся стоять насмерть. По сравнению с солдатами пехотинцами пулемётчики были другого склада ума. Многие из стрелков только что прибыли после мобилизации, войны они на знали и как, когда вести себя не понимали. А пулемётчики, те прошли тяжёлые бои. Набили мозоли на локтях, коленках и пальцах. Судьба пехотинца уже решена. Не успеет он оглядеться, а его уже стукнет. И впитается кровь на первые капли дождя в иссохшую зноем землю. Вот и сейчас встанут серые шинели по беззвучной команде ротного и пойдут на траншею. Жить им осталось каких-то несколько минут. Сейчас они лежат под бугром и о том не ведают. Лежат они, причёсываются, гоняют надоедливых вшей. А вша ползучая тварь, она уже чует, что её хозяину приходит конец. Она улавливает ту саму мелкую дрожь, которую вначале не чувствует сам человек. Насекомое чутко реагирует на мелкую дрожь в нашем теле. А эти новоприбывшие с пополнения мальчишки преглядываются между собой, нахлобучив каски. Они ещё не догадываются, что после сухого хлопка ракеты начнётся последний отсчёт их шагов по земле. Никто из них не знает как рвуться снаряды и пролетают пули. Возможно немцы уже целят им в голову или в живот. В первый момент, когда поднялась пехота, кругом было тихо тихо-немцы не ожидали нашего наступления. Прошла минута другая. Пехота и танк скрылись из вида. За ним неторопливо загудел второй и третий. А затем на землю свалилась целая лавина. Земля вздрогнула, зашаталась, окуталась дымом и пылью. Опушку леса заволокло десятками разрывов. Снаряды рвались от нас недалеко. Двое солдат вскочили и подались к затопленной землянке. На ноги поднялся Соков. Я повернул голову и увидел, солдаты уже спускались по плечи в воду. Они хотели зайти под торчащие над водой накаты. Вода в землянке стояла на уровне груди. Пропитаная водой земля могла от любого удара сползти и придавить брёвнами солдат. -Куда полезли! – Нмедленно назад! – закричал я на солдат. – Один удар по накату и вы захлебнётесь водой. Вас не убьёт! -Вы утоните! -Политрук дело другое. Он офицер! Я за него не отвечаю! Пусть лезет! – А вам туда соваться не разрешаю! Давай назад! Услышав в свой адрес замечания Соков в землянку не полез. Он вернулся и лёг около меня. В обстреле были небольшие паузы. Немцы меняли рубежи огня, переносили их то назад, то вперёд. Какая разница!-думал я. Снаряд угодит тебе в спину или в живот. Вон политрку Соков лежит на животе прижавшись к земле. Я лягу на спину. Так удобнее и небо виднее. Телефонная связ оборвалась. Телефонист вопросительно посмотрел на меня. -Лежи и не рыпайся!- сказал я ему. -Что толку если твои кишки будут висеть и болтаться на ветках. Связь с пулемётной ротой обязан обеспечить батальон, вот пусть они по линии и бегают! Нужна будет полку с нами связь, вот полковые пусть и почешутся. Телефонную связь оборвало сразу. Командир полка и комбаты сидели без связи. У меня были перерывы в размышлении. Снаряды так близко рвались, что мы дружно дёргались лёжа за насыпью затопленной землянки. От залитой водой землянки в глубь леса уходила утоптанная тропа. Видно по ней ходили и бегали солдаты сидевшие в обороне на опушке леса. Вдоль тропы между деревьев образовался неширокий прогалок. При ударах немецких снарядов прогалок тропы заполнялся летящей землёй и дымом. Снаряды с бешеной скоростью неслись и рвались над землёй. Сверху падали срубленые осколками ветки, куски травянистого дёрна и земли. Обстрел продолжался уже целый час. И вот сквозь взрывы и дым, сквозь вой и рёв и могучие удары снарядов о землю на тропе я увидел идущего во весь рост человека. Удар! Снова удар! Всё узкое пространство между деревьями заволокло пылью и дымом. Через некоторое время дым на тропе расеялся и по ней совершенно не пригибаясь, медленным безразличным шагом двигался тот самый солдат. Сквозь дым и разрывы он медленно приближался к нам. Ему оставалось пройти метров двадцать, не больше. В этот миг перед ним блеснул разрыв и от могучих ударов вскинулась земля, всё заволокло дымом… -Всё! Убило!-подумал я. Но вот дым рассеялся, начал заметно редеть и идущая фигурка солдата всплыла и двигалась по тропе. Он шёл прямо на нас, не сгибаясь, не вздрагивая, не обращая внимания на взрывы. Он не видел летящих осколков и дыма, он смотрел на нас и шёл замедленным шагом. При таком бешенном обстреле человек должен бежать, падать ниц на землю, метаться по тропе. Человек не может поплёвывать на всё, идти во весь рост, медленно переставляя ноги. От каждого удара всё живое на земле мгновенно сжималось. Человек дёргался и бился в такт разрывам, распластавшись на земле. Человек мог вскочить на ноги, заметаться из стороны в сторону, шарахаться от встречных взрыво,. бежать куда глаза глядят. Так ходили и бегали под обстрелом все. А это что? Видение или галлюцинация? Я смотрю на тропу, по тропе бьют мощные взрывы, а там идёт живой человек. Я показываю рукой всем, кто лежит рядом со мной, Петру и солдатам. Я смотрел на тропу как заворожённый и не верил своим глазам. Когда я показал на идущего все онемели от ужаса. В этот момент снова ударил тяжёлый снаряд, земля взметнулась в сторону и зашаталась и затряслась. Осколки с визгом прошли над головой. На идущем рванулась шинель. Но он не вздрогнул и не встрепнулся от встречнгого удара. Он не остановился. Он продолжал идти. Когда он подошёл совсем близко и остановился около меня, то я увидел, что у него нет нижней челюсти. Нижняя челюсть и часть горла по самые ключицы были вырваны. Шинель залита кровью и забрызгана землёй. Когда он делал вздох, кровь колотилась и пузырилась в разорванном горле. Он хрипел, засасывая её в грудь. На выдохе кровь пенилась и сбегала по открытой груди вниз. Страшные, нечеловечечкие глаза полные отчаяния и смертельной тоски смотрели на меня. -Смотрите! – говорили они. -Что вы наделали со мной! Господа офицеры! Он ищет санчасть, подумал я. Где она?- требовали его глаза. Попрятались все как крысы! Ни докторов! Ни евреев санитаров! Все разбежались, когда солдаты пошли вперёд! Перевязочные пункты упрятали в лес! Хожу по лесу блуждаю! – говорили его глаза. Он вышел из леса по тропе со стороны тыла и видно никого в лесу не нашёл. Солдат с передовой. По его облику видно. Там в тылу, в конце тропы должны были стоять приёмные пункты санроты. Весь полк ушёл на высоту. Я показал ему рукой на тропу, постучал ладонью по уплотненноё полосе земли и замахал в том направлении. Потом сообразив, что солдат не может говорить, но возможно слышит, громко сказал: – Иди по этой тропинке и никуда не сворачивай! Пройдёшь поляну и на опушке увидишь санчасть. Солдат посмотрел на меня потухшим взором, окинул лежщих перед ним солдат на земле и зашипел на нас кровью. Мне стало не по себе, стыдно и невыносимо за наше лежачее положение, за нашу трусость и ничтожность преде ним. Он стоял перед нами во всеь свой рост и смотрел свреху не нас, ка мы ползая по земле, дрожим от взрывов. Слушая меня он не шелохнулся, когда рядом и сзади у него за спиной разорвались снаряды, а мы невольно вздрогнули и сжались в комок, распластавшись на земле. Он повернулся на месте, посмотрел на тропу и медленно пошёл в обратную сторону. Он отошёл от нас всего несколько шагов и в это время впереди и сзади рванулась земля и поднялась на дыбы. А он прямой и несгибаемый принимая все земные и небесные удары на себя, продолжал, не меняя шага, идти. Его окутало дымом, заволокло самим взрывом, он совсем исчез из вида и потом опять появился на тропе. Вот несколько прямых ударов блестнули перед ним. Ну всё!- мелькнуло у меня в голове. Погиб! Разорвало! Через некоторое время дым рассеялся и его прямая фигура продолжала плыть над тропой. При взрывах его обдавало огнём, рвало полы шинели, волной было опрокинуло его, а он невозмутимо продолжал удаляться от нас. Он ни разу не дрогнул от близкого удара, как все живые, которые лежали за насыпью землянки. Снова послышался набегающий сверху гул, потом он перешёл в шипящий звук, на миг затих и прокатился эхом нескольких разрывов. Мы сжались, дёрнулись в судоргах, взрывы, комья земли, сучья деревьев и клубы дыма взметнулись над тропой и окутали нас. Одинокая фигура солдата пропала из вида. -Ищет смерти! – подумал я. Боковым ветром дым отнесло в сторону. Мы смотрели туда, вдоль тропы. Землистая серая шинель снова выплыла и продолжала свой путь. Взрывы следовали один за другим как бы обгоняя друг друга. Все смотрели не отрываясь вдоль тропы со страхом ожидая увидеть пустое место. Вот сизый дым снова рассется и землистый тёплый комок остнется неподвижно лежать на дороге. Мы видели бесчисленные дымящиеся трупы своих солдат. Видели тяжело раненых истекающих кровью. На глазах у нас разрывало на куски бегущего человека, но такое безразличие к жизни мы наблюдали первый раз. Мы смотрели на тропу и и каждый раз появлялся на короткое время как видение, выплывая как из облаков. Но вот он исчез за поворотом и потом мы не узнали дошёл он до санчасти или нет. В конце тропы он скрылся из вида. А немцы казалось остервенели. Они беспрерывно били по опушке леса. Заградительный огонь не замолкал ни на минуту. Они хотели не допустить пополнение на высоту. Почему мы не помогли ему? Почему не пошли проводить до санчасти? Потому что ни один из нас не имел права покинуть своего места. Если моего солдата задержат в тылу с ранением из чужого подразделения, то его обьявят дезертиром. В начальный период войны солдаты под видом помощи раненым сбегали с передовых позиций, остиживались во втором эшелоне, пока на передовой шёл бой. Потом приказами и судами это дело прекратили. Но вот наконец немцы сделали паузу в обстреле. Я поднялся на ноги и посмотрел в сторону высоты. Там стоял густой столб дыма и пыли. Только сейчас я заметил, что день солнечный и жаркий. В лесу пахло болотом и отвратительным едким запахом немецкой взрывчатки. -А что!- подумал я. Можно бы сделать взрывчатку химически безвредной, но с резким запахом гнилой помойки. Запах как запах! А у людей бы нутро выворачивало. Психика великая вещь. Я окинул лежащего рядом связного солдата и велел ему пробежать по опушке леса и узнать нет ли потерь в пулемётных расчётах. -Узнай! Все ли живы? Сколько раненых? И быстро назад! – Я присел на скат землянки, вынул кисет, на кусок газетной бумаги насыпал щепоть махорки, свернул, послюнил и закурил. Затянувшись несколько раз, я посмотрел на своих солдат и подумал: Что нас всех ждёт там на высоте? В любой момент может прибежать связной из полка, передать приказ и рота пойдёт на высоту. Пулемётную роту бросят на высоту, когда славяне прочно займут немецкую траншею. А сейчас пока неизвестно – занята высота, взята траншея? На высоте по-прежнему слышался гул и отдельные раскаты взрывов. Время шло, а с высоты не поступало никаких данных. Если из стрелковых рот пошлют связных, то они обязательно появятся здесь на тропинке. Бежать напрямик через завалы в лесу никто не будет. Лезть по бурелому и в болото никто не станет. Другое дело раненые. Им не нужно искать комбата им всё равно где ползти. Но и они не пойдут по лесному завалу. В сорок втором комбаы управляли ротами просто. Выводили их на исходное положение, ставили задачу и уходили в тыл. Потом по телефону, пока он работал, на рассвете подавали команду – давай вперёд! Только в конце войны комбатов и их замов стали иногда выгонять на передовую. А в ту пору, когда у нас всё держалось на винтовках, кто как мог прятались в лесу. Огневое превосходство немцев всех ставило на свои места. Роты впереди, комбаты, штабы и пушки сзади, подальше от пехоты чтобы уцелеть. В полку часто оставалось полсотни боевых штыков, в то время как в штабах и тылах сидели до тысячи. Но и те и другие знали свои места. Никто из тыловых не претендовал на должность командира стрелковой роты. Одни глотали осколки и лопали свинец, другие жевали сало и поднимали чарки за победу. Вон замком полка по этой самой части, одной рукой тянется к телефон, другой держится за сиську. Для кого война, а для кого хреновина одна! А потом он будет рассказывать пионерам, как воевал на фронте, лчино, под пулями ходил. Здесь на передовой, где землю роют немецкие снаряды, гдк льётся кровь и люди прощаются с землёй, об этом думать солдаты не могли. Никому в голову не приходило, что где-то там сзади лежит замкомполка и греет руки, под пёстрым одеялом. Но справедливости ради, нужно сказать, что на передовой однажды произошёл подобный случай. Этому есть живой свидетель – Соков Пётр Иваныч. Случилось это в обороне, где несколько дней подряд шёл дождь. Залило хода сообщения. Солдаты сидели в окопах, никто не хотел ходить. Кому охота черпать мутную жижу сапогами. А поверху постреливал немец, кругом стоят лужи, гляди не поскользнись. Случилоcь накануне прислали в роту нового офицера на должность командира взвода. Его направили из артиллерии по некотрым соображениям в пехоту. Родом он был из Ачинска, как в дивизии говорили-свой! Земляк! Паря! До войны он служил в этой дивизии.В звании он был старший лейтенант На передовую его привел связной из полка. Мне позвонили,что его пришлют ко мне в роту. Но где и как он проштрафился и за что его послали на исправление в пехоту по телефону мне не сказали. Телефонистам видимо не положено было знать эту информацию. Я узнал от своего политрука Сокова, что старший лейтенант в тылу разложился. Теперь он прибыл как офицер оправдать своё доверие. Попасть из артиллерии в пехоту-заживо похоронить себя! Когда связной доложил о его прибытии, я отпустил солдата и предложил старшему лейтенанту место рядом на нарах. Я повел разговор о порядках на передовой в пулемётной роте. В конце разговора я добавил: -Меня хотели настроить против тебя. Я отказался. Это дело не моё, перевоспитывать морально неустойчивых офицеров. Я командир роты, на моей шее целая рота солдат. У меня своих забот хватает. Вон политрук, он все равно ничего не делает. Поручите ему. – Скажи! Что собственно произошло? Мы помолчали. -Хочешь рассказывай! Хочешь не говори! Это дело твоё! Я не настаиваю! Старший лейтенант замялся. Достал пачку папирос "Беломор" угостил меня,закурил сам и по видимому нехотя стал рассказывать свою историю. – Снарядов у нас маловато. На каждую пушку держали только запас НЗ. Я был командиром батареи в отдельном артдивизионе. Моя батарея была придана вашему полку. -Вы стояли за лесом?-спросил я. – Да! -Огневые у нас там! -А на чём ты погорел? -Сейчас расскажу! Он замолчал и о чём-то задумался. -Оставлю за себя взводного. Прикажу оседлать лошадей. Махну с денщиком в деревню. Денщик с лошадьми стоит, а я в избу. Жила в одной деревне молодая бабёнка. Муж на фронте солдатом вшей кормит, а она одна, всё хозяйство на ней. Помочь некому. Дров, сена заготовить! -А за что собственно ты попал в пехоту? -Слушай дальше! -Днём я объезжал огневые своей батареи, драил взводных, для порядку иногда и солдат. Стращал их передовой.Они этого очень боялись. Вечером отправлялся в деревню навестить свою милаху. Две подводы дров послал ей. Солдаты всё распилили и раскололи. Сена два воза отправил туда. Травы нынче высокие удались. Мы своим лошадям на всю зиму заготовку сделали Однажды днем, когда я отдыхал на батарее,к моей милахе явился новый кавалер. Приезжаю вечером, ослабил под седлом подпруги поставил коня в сарай,бросил сани, я был тогда один. Захожу в избу. Смотрю. У неё за столок сидит новый хахоль. При тусклом свете лампы я не разглядел его. Да и чего там смотреть. Схватил его за шиворот, он сидел спиной ко мне, и поволок к двери. Мои солдаты ей, стерве на всю зиму дров накололи, а этот на готовое уже тут как тут. Думаю, главное теперь не дать ему опомниться. Лучше сразу под зад сапогом, чтоб отвадить. Чтоб дорогу забыл. Я боевой офицер,а этот видать тыловая шкура. Вот думаю тыловая гнида из пархатых снабженцев. На столе печение, сахар разложил. Моя краля ему на сале чего-то жарит, дровишки жгёт мои. Фляга на столе и два стакана. Она к столу,а он её по бёдрам руками шарит. у дверей я его сгрёб в охапку, дотащил до крыльца и сапогом сзади между ног врезал, да так, что он полетел как кошка, когда её подденешь ногой со зла. Стою на крыльце смотрю. Вот думаю. Поднимется на ноги, мой паря рыкнет на него для страха и побежит шелудивый пёс, поджав под себя хвост. Смотрю оправился, оторвался от земли, встал на коленки и повернул в мою сторону своё мурло. И что же я вижу? Наш зам Шарабан стоит на четвереньках. Стоит он в постыдной позе и жалобно смотрит на меня. Он наверно думал что я более важная персона.Уж очень безцеремонно с ним обошлись здесь. Он никак не ожидал что его сгребут и вышвырнут из избы. Когда я вошел в избу, вижу сидит спиной сытенький, значит при складе ворочает. Когда я его сгрёб тут уж не спрашивал про звание и должность. Я смотрел на него с крыльца как он побитый с трудом поднялся на ноги и придерживая разбитый зад поплёлся в темноту. Только сейчас я заметил что в кустах его поджидал солдат с двумя осёдланными лошадьми. Узнал он меня в темноте или нет. Но запомнил кажись хорошо. Вот и всё моё преступление. Когда я вернулся в избу, хозяйка жалобно причитала. Она всхлипывала, оправдывалась, что он только приставал к ней. Я сел, сгоряча за стол, внутри у меня всё клокотало, выхлестал из фляги спиртное, закусил и со злостью хлопнув дверью ушел. С того дня в моей службе начались неприятности. Командир дивизиона стал на меня смотреть как на враге, хотя мы были земляки. -А ты откуда лейтенант? – Наш, паря? -Нет,я не ваш. Я москвич! -Да! ты чужан в нашей дивизии-Я понимал молчаливый сговор и не сдавал позиции. Вскоре батарею перевели в другое место. Меня строго предупредили на счет самовольных отлучек, я даже расписался в приказе по этому поводу. Но потом взбеленился и как-то ночью решил проведать свою зазнобу. Просто меня подмывало не ходит ли туда Шарабан. Как и следовало ожидать, под деревней мне устроили засаду. Арестовали, лошадь отобрали и отправили пешком под конвоем. Потом начались допросы. Дело моё передали следователю. От должности отстранили. Дело готовили передать в трибунал. Я стал просить перевода в другую часть. Сказал, что я согласен на любую должность. Мне объявили. По решению командывания за моральное разложение и самовольные отлучки меня направляют на исправление в пехоту. Артиллеристу было лет двадцать семь. Они были с Петей почти одногодки. Старший лейтенант был маленького роста, широк и плотноват. Имел подвижное смуглое лицо и длинные руки. Внешне он был больше похож на деревенского гармониста, чем на офицера с военной выправкой. Его фуражка была похожа на заломанный деревенский картуз. Козырёк, аляписто сшитой дивизионным портным фуражки торчал загибаясь лопатой вверх. Из под этого безформенного картуза торчал наружу клок завитых волос. Парикмахеры в ротах не водились, а он явился не бритый и не чесаный,не побрызганный одеколоном. Не было у него и выправки. Поясной ремень висел на животе как хомут на деревенской лошади. Ходил он вразвалку, растопырив ноги. Со стороны казалось, что он с трудом передвигает их, но во всём теле его чувствовалась мужицкая сила. Он кончил рассказывать и совсем замолчал. Я не стал ковырять его своими вопросами. Все что я узнал от него, во мне не пробудило ни понимания, ни оочувствия. Я сидел на нарах и перебирал в уме,в какой взвод его послать. -Ты как? Сразу в окопы? Или посидишь денёк, другой здесь у меня? У тебя о передовой ложное представление. С тыловыми замашками и вредными привычками придёться кончать. Ваш брат тыловики народ избалованный. Солдат за людей не считают. Подавай мне то и другое! Постель с периной! Да баб для баловства! -Личного повара наверно имел! Еврея парикмахера для себя содержал! -Он тебе анекдотик во время бритья, а потом попылит одеколончиком на лицо и на волосы. -У нас этого баловства не бывает! С первого дня кишками почувствуешь, что такое пехота и как живут на передовой. Может показаться тяжело и невыносимо, после барской жизни в тылу. Если с первого дня не убьют, то через пару месяцев привыкнешь. Привыкнешь к снарядам и пулям-легче станет, жизнь покажиться милее. -Учти! Солдаты на передовой тебе не халуи и не серая масса. С людьми нужно ладить, уважать их достоинство, делами показывать, что ты не из робости рядом сидишь. -Ну как? Останешься здесь или сразу на передовую? -Давай сразу на передовую! Теперь у меня одна дорога! Назад хода нет. -Давай, так давай! Вот связной солдат. Он отведёт тебя в пулемётный расчёт. Командир расчёта сержант Балашов, парень очень скромный, спокойный и даже застенчивый. Имеет большой опыт войны. Присмотрись к нему. Познакомься ближе. В бою он надёжный и верный солдат. Подойди к нему по хорошему – будет верный помощник в делах. -Но учти, твои прежние привычки, замашки, разные штучки и шуточки во взводе не должны быть. Меня лично не интересует у кого с тобой и у тебя с кем счёты, кто твои друзья и кто твои враги. Запомни! Меня это не касается! Рота в этом составе воюет давно. Пулемётные расчёты подобраны,солдаты притёрлись друг к другу. Порядки у нас свои. Ты их не заводил. Не тебе их и ломать. На свой лад не пытайся что либо переделывать. Меня вызывали в полк на счет тебя. Штабник пытался меня убедить, чтобы я для тебя создал особые условия. Я оказал,что не занимался такой работой. -Вы и так прекрасно знаете,что послав человека в пехоту, обрекли его на верную смерть. -Здесь на передовой убивает всех и особенно новеньких. На это они очень расчитывают. -В отношении со мной у тебя всё ясно. В служебных делах особых трений не будет, если ты будешь по человечески обращаться с солдатами. С нашим политруком сам наладишь связь. Завтра Петя явиться сюда. Он сегодня в политотделе ошивается. У него важные дела. не то что у нас с тобой! Командовать тобой он не будет. Он зто дело не любит. Команды в роте отдаю я, а он о тебе будет писать в своих политдонесениях. Попробуй поговори с ним сам на чистоту. Я поднялся с нар и направился к выходу. -Вот связной, -показал я рукой. -Он отведет тебя пулемётчикам. Я был моложе этого артиллериста. В молодом возрасте разница в пять шесть лет играет большое значение. Жизненный опыт у человека есть. Я за год боёв накопил опыт войны. Он обошел меня в житейских вопросах. Мне колосально повезло. Мои сверстники, офицеры, многие сложили головы. Артиллерист этот и пороха не нюхал. Сено косил дровишки колол. Верхом в седле по батарее ездил. На следующий день в землянку явился политрук Соков. Жизнь в землянке пошла своим чередом. Беспрерывно лил мелкий противный дождь. Немцы стреляли редко, даже совсем не стреляли. В такую погоду обходились без стрельбы. Дни и ночи проходили в спячке. Соков редко посещал пулемётные расчеты. Я особенно и не настаивал. Его основные пути пролегали от землянки в тыл и обратно. Чего человека посылать на передовую, когда он пулемёт не знает как следует. Солдаты чего нибудь напортят, скажут политрук велел. Работу пулемётов и несение службы расчётами проверял я сам. Но как-то в последнюю неделю всё сразу изменилось. Теперь вдруг политрук изъявил желание заняться ночными проверками. -Что случилось Петя?-спросил я его. -Нам дали указание в политотделе, чтобы мы политработники занялись проверкой солдат в окопах. -Ложись спать! Вдвоём там делать нечего! Я пойду один! Всё проверю! -Поговорю с солдатами! И к утру вернусь! -Ну и дела!-удивился я. -Что не веришь? -Верю,верю! Когда это было,чтобы политрук роты ночью по окопам ходил. А командир роты спал себе спокойно! Неужели вас лоботрясов и в самом деле заставили ходить? Что-то не вериться!-я качал головой, удивлялся, вздыхал тяжело, смотрел на Сокова, он собирался неторопясь. Теперь ночами я спал спокойно. Политрук с темна до рассвета дежурил у пулемётов. Вторая дождливая неделя была на исходе. Всё шло как по маслу, ничего не случилось. Но вот из полка пришел приказ и пулемётную роту сняли с обороны. Нас бросали на Пушкари. При переходе на другой участок было заметно, что политрук с большой неохотой покидал обжитый передний край. Когда мы вышли на опушку леса под Пушкари. Соков уже не бегал по пулемётным расчётам. Ему это как отрезало. Он сразу охладился на разговоры с солдатами и теперь лежал рядом со мной у затопленной водой землянки. Может немецкие снаряды успокоили его. Может он почувствовал мелкую дрожь в теле- верный признак смерти. Лицо его было сосредоточено, озабочено и угрюмо. Взрывы следовали залпами одни за другими. Земля билась и дрожала как в предсмертной агонии. Появившийся из облака дыма солдат без челюсти по-прежнему стоял у меня перед глазами. Огонь батарей немцы перенесли несколько в глубь леса и теперь мы не жались к влажной земле. Мы полусидели за насыпью землянки. Я ждал связного из полка, чтобы двинуться с ротой на высоту. Но через грохот и вой в лесу вряд ли кто мог живым прорваться к нам. Только тот с оторванным горлом солдат, как призрак парившей над тропой мог невзирая ни на что пройтись неспеша по лесу. Вой снарядов и грохот взрывов внезапно утихли. Немцы вдруг почему-то прекратили обстрел. Наступила внезапная тревожная тишина. Что-то немцы задумали? Со стороны бугра, куда уши наступавшие роты, послышались шаги человека, посыпались комья земли и камушки. Вниз с высоты бежал солдат. Пожилой солдат сбежал по тропинке, обогнул землянку и тяжело дыша, опустился на землю около нас -Братцы! Скажи как просто! Только что был у немцев, а теперь у своих -выпалил он на одном дыхании. Все кто сидел переглянулись. -У каких немцев?-спросил я. Солдат огляделся по сторонах, как будто его кто-то собирался схватить и потащить обратно, улыбнулся, обвел всех удивлёнными глазами и кашлянув добавил:-Я у настоящих немцев был -Ты,что ранен? -Никак нет! Совершенно цел! Ни одной царапины! -А как же ты к немцам попал? И где ты собственно был? Солдат был в приподнятом настроении. Винтовки он не имел. -Ты с какой роты? -Со второй, товарищ лейтенант. Старшина у нас Филипчук. Хохол такой! С усами! Я прибывши с новым пополнением. Утром нас нынче послали брать высоту. -Ты мне скажи!-перебил я его, – наши немецкую траншею взяли? – Взяли-взяли! Как раз самую середину, а горбушки у немцев остались. Наши по серёдку, а немцы по краям сидят. -Мне-то товарищ лейтенант, командир роты приказали по траншее влево до конца бежать. Нас было трое. Мы по пустой траншее быстро просунулись вперёд. Дошли до самого конца, а там за поворотом ихний пулемёт ударил в упор. Двоих сразу.А я лицом вниз упал. Лежу не шевелюсь. Слышу немцы бормочут, балаболят по своему. Потом слышу шаги. Понял. Немцы подходят. Мне показалось, что они хотят пристрелить меня. Я аккуратно подал задом. -Что делать? Поднял голову. Взглянул вверх. А они стоят надо мной и чего-то залопотали по своему и смеются гады. Я поднял руки.Привели меня в ихний блиндаж. Кругом телефоны, провода. -Ни как у нас по одному проводу! -спросил я. -У них там в блиндаже офицеры сидят. Один такой худой и высохший говорит по-русски. Сняли с меня поясной ремень и подсумок, вещмешок положил я на стол. Подошел солдат обыскать для порядка. Постучал по карманам. Нащупал в кармане огнево – подумал граната. Ткнул меня автоматом и залопотал чего-то офицеру. -Что у тебя там? Сказываю – Зажигало -Какое такое зажигала? -С кремнем, фитилём и зубилом. Всё как положено! Я же курящий! -Вынимай! -Сей момент! Я полез в карман и достал кремень. -Это что? -Кремень! Лезу в другой карман, достаю фитиль и зубило. Вижу немцы пригибаются. Видать бояться нашего брата. Может думают я подорву себя и их вместе. -Это что? -Это фитиль и зубило! -Для чего всё это? -Давай сигарету, сейчас покажу! Офицер щелкнул портсигаром,я запустил руку и сгрёб две сигареты. Одну про запас за ухо, другую в рот. Приложил фитиль к кремнию,ударил напильником, посыпались искры. Немцы аж вздрогнули. А я раздул фитиль и прикурил сигарету. После этого немцы от смеха все покатились на пол. Они держались за животы, ржали как лошади, показывали пальцем и кричали-"тойфель машине!" Офицер захотел прикурить от моего зажигала. Он достал сигарету и сказал: – Я буду прикурить от твоей адской машины! Всю Европу прошел, а такого ещё нигде не видел! Великий Росия! Я громыхнул ещё раз для эффекта,хотя фитиль и горел. Офицер прикурил,пробуя на вкус аромат. -Чудесно! -и добавил по немецки,- Вундер бар! Солдаты бросились прикуривать сигареты. Они смеялись, хлопали меня по плечу,о чём-то спорили и говорили: – Колосаль! Я замял фитиль, затянул его в трубочку и положил в карман. Офицер показал мне пальцем на стол, чтобы я свою машину оставил им как трофей. -Иван! Давай-давай! Потом он сказал мне – давай Иван иди назад! Иди к русским. Мы тебя отпускали. Передай – завтра траншею назад заберём. Потом он ругнулся по нашему и велел мне идти-Шнель! Я вылез на бруствер, думал что в спину стрелять будут. Но когда отошёл подальше, вижу, остался жив. Вот я здесь братцы, слава богу, у своих. -Слушай! А расскажи, какие они немцы из себя? – сказал телефонист. Я посмотрел на него и махнул рукой в его сторону, мол хватит задавать глупые вопросы, сходи и посмотри сам, и спросил пришедшего солдата -А ты брат не врёшь? Может ты драпанул с высоты с перепугу, бросил винтовку и теперь тут заливаешь на счёт зажигалки? Попадёшь в батальон, оттуда прям к оперу под конвоем придётмя топать, километров десять не меньше будет. Так что ты лучше сказки нам не заливай. Ведь если ты был у немцев, то тебе милый друг следователя не миновать. А потом сам знаешь, к ели и расхлолают. 'Гы уж лучше ока-ки,сдрефил со страху. Я показал ему глазами на телефониста и добавил: – понял меня? -Как не понять! Товарищ лейтенант! Солдат покачал головой, соображая. – Спасибо за науку, товарищ лейтенант! У меня и вправду с перепугу память отшибло. это наверно я видел сон! Можно я пойду к своим в роту? -дорогу найдёшь? -Как не найти! Утрой шел вместе оо всеми! Солдат поднялся на ноги, вытер рукавом с лица пот, пригнулся к земле и широко бросая ногами, побежал вверх на высоту. Через некотрое время снова зашуршали снаряды. Их грохот не умолкал до вечера. К вечеру немцы ослабили огонь, с высоты побежали раненые. С высоты спустился раненый в руку лейтенант. Он присел около нас отдохнуть и попросил ему свернуть папироску. – С немецкой стороны хорошо просматривается весь участок траншеи, -сказал он. -Высокий бруствер траншеи чётко выделяется на общем фоне. Немцам видно наших солдат, когда они перебегают или высовываются. Снарядами бьют по траншее. Сначала не попадали, теперь пристрелялись. Завтра с утра начнеться хорошая жизнь. Соседний полк прорвать оборону не сумел. Понёс большие потери. Узнав что мы ворвались в траншею, командиры рот собрав остатки своих рот влились к нам и теперь в траншее тесно. Теперь оба полка доложили что заняли высоту. Не знаю куда вы со своими пулемётами денетесь. Пока раненый лейтенант рассказывал и курил, в пулемётнуй роту прибежал из полка связной и передал приказ немедленно подняться кверху. Я разослал связных по взводам, собрал всю роту в одно место, подал команду и пулемётная рота пошла на высоту. Солдаты подхватили пулемёты и тяжело ступая тронулись за мной. Перед траншеей на склоне лежали наши убитые и раненые солдаты. Видя, что пулемётчики проходят мимо, раненые не стали просить их о помощи. Они лежали и ждали санитаров, когда те за ними придут. Они понимали, что пулемётчики пройдут мимо и не остановятся. Они не имеют на это права. Многие, кто мог двигаться сами ушли с высоты. Здесь лежали саные тяжелые. Я ускорил шаг, подъём уже кончился. Впереди было тёмное небо, зарниц от орудий не было видно. Вдоль деревни вправо и влево проходила зигзагами немецкая траншея. Танк, наступавший о пехотой, стоял у разбитого сарая. Из-за угла торчала его пушка. Танк стоял недвижим. Немцы сбили ему гусеницу. Может что повредили и внутри. Политрук Соков шел рядом со мной. Когда мы подошли к траншее, я на миг остановился, посмотрел вдоль неё. В траншее было тесно. Везде сидели стрелки довольные, что сразу попали в надёжное укрытие, что не нужно копать окопы и соединять их ходами сообщения. Я остановился на какую-то долю секунды, чтобы оценить обстановку. Соков был рядом и тут же исчез. За ним полезли в траншею и некоторые из солдат. -Куда!- крикнул я на них. -Куда полезли? Всем идти вперед! Траншею проходим мимо! – закричал я на них и подался вперёд. Я легко перепрыгнул траншею и пошел дальше в ночную темноту. Те, кто ещё не успел спрыгнуть в траншею перетащили свои пулемёты и последовали за мной. А те самые ловкие и быстрые, которые торчали в ней, удивлённо, не веря своим глазам смотрели нам вслед. Немецкая траншея была отрыта в полный профиль. Здесь можно было укрыться с пулемётами от обстрела, не то что на открытой земле. А лейтенант погнал их в открытое поле. Впереди сто с лишнем метров – дорога. За дорогой начинается край ржаного поля. Стебли высокие. За обрезом ржи впереди ничего не видать. Неужель он хочет сунуть нас носом в самую рожь. Пехота оотанеться в траншее, а пулемётчикам идти вперёд! -Траншею не занимать! Всем идти за мной! – кричу я. Пехотинцы слышат и тоже удивляются. -Он что рехнулся?- слышу я недовольные голоса и ворчание солдат за спиной. Тут готовая траншея. А он куда-то прёт вперёд? Я кричу ещё раз и солдаты, нехотя удаляються от траншеи. А некоторым. наиболее шустрым приходиться из неё вылезать. Впереди темнеет дорога и белеет высокий край спелой ржи. В темноте край поля чётко выделяется на общем темном фоне. Пулемёты поставим у самой ржи – решаю я. Немцам в голову не придёт, что пулемёты стоят в упор по краю поля и что у пулемётчиков перед собой впереди никакой видимости. Свою траншею они пристреляли и завтра сровняет её с землёй. Пулемётчики этого не понимают. Солдаты стрелки рады, что пулемётная рота ушла вперед и будет их стрелков охранять. Они надеются как следует выспаться перед смертью. Только вот о смерти они не думают. Попробуй их убеди! Так что похоже,они и часовых на ночь ставить не будут. Я по опыту знал, что оставаться в немецкой траншее нельзя. Уверен, что завтра с рассвета немцы разберуться. что потеряно, где сидит их пехота и какую часть её заняли русские. Они не оставят живого места на высоте. Пулемётная рота бесшумно подалась в темноту, перешла дорогу и упёрлась в край поля. – Вот здесь и окопаемся! – негромко сказал я. – Пулемёты к бою! Окапаться в полный профиль! Я прошёл вдоль кромки поля, показал места где должны стоять пулемёты и вернувшись велел ординарцу отрыть узкую щель на двоих. Так оказались мы на высоте за дорогой. В другой обстановке, когда я по батальонам раздавал пулемётные расчёты, пулемётчики садились вместе со стрелками. Я оставался где-нибудь сзади, чтобы было удобно ходить то в одну роту, то в другую. А сегодня дело было другое. Пулемётные расчёты были сведены в пулемётную роту и действовали так сказать по моему усмотрению. Пулемётчиков удивило и другое. Пехота осталась сзади, а пулемётные расчёты с тяжелыми "Максимами" заняли линию обороны, где ни слева, ни справа нет никого. Им пока не приходило в голову, что именно здесь они спасут себе жизнь. Солдат всегда вначале берёт страх и сомнения. Здесь они одни. А там набитая траншея Здесь слева и справа немцы, а там славяне, свои. В ночном пространстве, когда ничего не видно, в трёх шагах ничего не разберёшь – становиться не по себе. Так уж устроен человек. Он всегда стремится сначала к видимой мизерной выгоде. А в страшную минуту ему хочется быть не одному. Здесь куда не посмотри, в любой момент могут показаться немцы. Солдаты всё время должны быть в напряжении слyxa и зрения. От одной мысли что кругом нет никого вся шкура начинает зудить и чесаться. В глазах мерещиться чёр те что. Я знал, что мои солдаты будут недовольны, что им всю ночь придёться работать, рыть земли лопатами. Мне сейчас было не до дебатов. Они потом сами поймут, почему я их вывел за дорогу к уткнул носом в край ржи для их же пользы. К рассвету солдаты должны закопаться и закончить все земляные работы. Ночью немцы обычно не стреляли. Они побаивались, что по вспышкам орудий их огневые позиция могут быть засечены. У немцев на войне свои заведённые порядки. Ночью они опят. По воскресениям не воюют. Ночью часовые светят ракетами, просматривают передний край. Проходя вдоль кромки поля второй раз я сказал нескольким солдатам! – Шевелись! Окопы в полный профиль до утра должны быть готовыI – Нарезать ржи! Притоптать свежую землю и застелить окопы! На пулмёты одеть снопы! Тёмная августовская ночь была на исходе. В предрассветных сумерках появились первые проблески в облаках. В этот предутренний час деревенскую дремоту обычно побуждают раскатистые голоса первых петухов. Здесь на краю разбитой деревни петухов не было слышно. – Ну-ка тише! Послушаем!- сказал я, – сейчас прилетят ранние птички! Сейчас прошуршит первый тяжёлый снаряд, глухо ударит в землю. За первым ударом последует другой, потом заголосит вся батарея. И все эти проблески утренней зари, мысли о петухах и пробуждении деревни исчезнут в рёве и грохоте снарядов и земли. Taк думал я, вглядываясь в разбитый угол сарая, в поле волнистой ржи и в чистое небо над головой. Колос ржи уже налился, потяжелел, клониться к земле, ждёт человеческие руки. Лёгкий ветерок шуршит его густыми стеблями. Пока немцы чистили зубы, готовились к завтраку и брились над фронтом стояла гнетущая тишина. Когда очень тихо, то хуже чем грохочет. Почему-то ждёшь ещё более страшного. В окопах беззвучно шевеляться солдатские каски. Влажный, напоённый утренним туманом воздух был прохладен. Чуть кто стукнет лопатой, все солдаты сразу настораживаются, смотрят в ту сторону. С рассветом, с первыми проблесками солнца по гребню высоты ударил первый немецкмй снаряд. С первым раскатистым взрывом дрогнула земля и сжались серые пригнутые к земле спины. Вверх взметнулось облако дыма и осколки веером разлетелись в стороны. И всем стало сразу ясно, что началась пристрелка траншеи. Пулемётчики мгновенно прозрели, до них дошло, почему я их вывел вперёд. С этим первым коротким ударом им стало ясно, что стрелковые роты обречены. Подавшись ночью вперёд, к самому краю поля и окапавшись незаметно, пулемётчики оказались вне зоны прямого попадания снарядов. Немцы отлично видели свою траншею, все её извилины, отроотки и стрелковые ячейки. Все эти мелкие детали и даже отхожие мест были подробно нанесены у них на карте. К утру, пока славяне спали, немцы сумели поставить колючие рогатки в хода сообщения. Теперь общая траншея, в которой сидели наши и немцы была разделана рогатками с колючей проволокой. Между солдатами той и другой стороны пролегала граница. Группы солдат, находящихся по обе стороны раздела понимали друг друга. Между ними был молчаливый сговор, они не стреляли в противную сторону. К утру, когда границы воюющих сторон были определены, немецкая артиллерия приступила к обстрелу середины траншеи. Я оглядел ещё раз высоту, ржаное поле, посмотрел в сторону траншеи и спрыгнул в глубокую воронку. Там вниз головой лежало неподвижное тело нашего стрелка солдата. На глинистом дне, стекая,скопилась кровь. Солдат видно был тяжело ранен, добежал до воронки, упал вниз головой и умер. Я присел на корточки возле него, достал кисет с махоркой, свернул козью ножку и закурил. Затянувшись несколько раз, я посмотрел на убитого и подумал, сколько таких мальчишек остались навсегда в Бельской земле. Сколько солдатской крови впитала в себя эта истерзанная земля. Может на этом самом месте будут когда-то жить мирные люди и именно здесь на солдатских костях воздвигнут они свои помойки и дощатые» сортиры. И будут счастливы, что пришлось использовать готовую яму. Взошло солнце. Немцы, наращивая темп стрельбы, обрушились всем огней своих батарей на высоту. Высота дрожала и гремела. Снаряды рвались по обе стороны траншеи. Вверх поднимались огромные всполохи земли, куски глины и обрывки солдатских шинелей, рявкали мины, со свистом и скрежетом летели осколки. Я выглянул поверх земли, рядом стоял пулемёт, прикригый охапкой соломы. Я свистнул. Из окопа показалась каска и лицо солдата. Пулемётчик увидел меня и улыбнулся. Он видно сумел оценить своё место. Теперь когда до него долетал зловещий рёв со стороны траншеи,он улыбался. А это было важно для нашего общего дела. Солдат помахал мне рукой, показал оттопыренный вверх большой палец и тут же пригнулся в окоп, рядом ударил снаряд с недолотом. Грохот и рёв стоял над высотой, стонала земля. Она дрожала, поднималась к небу и уходила из под ног. Было жутко и страшно смотреть на траншею. От близкого удара воронка начинала ползти под ногами. Потом она как качели возвращалась назад и болталась некоторое время, С каждым близким ударом повторялось всё снова. Над гребнем высоты, где проходила траншея,к небу стал подниматься огромный столб дыма и рыжей пыли. К полудню рёв снарядов достиг бешенной силы. Непрерывные залпы и всплески огнля, тяжёлые удары и взрывы, облака вздыбленной земли закрыли всё пространство над траншеей. В середине дня немцы вдруг прекратили обстрел. В голове и ушах продолжало гудеть, звенеть, стоял грохот, а глазами глядишь и не видешь ни взрывовн ни всполохов. В висках продолжает стучать канонада и каждый её удар отзывается в голове острой болью. Перерыв продолжался часа два не больше. Видно у немцев подошло обеденное время. Пока они ели, курили и отдыхали, мы успели перевести дух. Пулемётчики зашевелились, стали выглядывать поверх земли. Некоторые тёрли в ладонях спелые колоски ржи, сдували шелуху и сыпали зерна в рот. У нас тоже был, так сказать, перерыв на обед. Через некотрое время немцы снова взялись за серьзное дело. Они обрушили на высоту огонь своих батарей. Они били фугасными и осколочными, поливали сверху свистящей шрапелью. Изредка для большего эфекта они по земле пускали тяжелую болванку, которая брызнув землёй при первом ударе, рекошетом взмывала вверх и с раздирающим душу рёвом и скрежетом, кувыркаясь и прыгая, неслась по изрытой снарядами земле. Немцы с присущей им настойчивостью, тупым рвением, упорством и знанием дела терзали землю вокруг траншеи. Отрытая по всем правилам сапёрного искусства, укреплёная боковыми досками и фашинами траншея была набита солдатскими трупами. Перед вечером измотанные тяжелой работой немцы лениво пустили в нашу сторону десяток снарядов и прекратили стрельбу. Весь день подбитый танк стоял недвижимо как мертвый. К вечеру внутри него что-то стукнуло, лязгнули задвижки люка и из-под брюха танка выползли два танкиста. Они огляделись кругом, поднялись на ноги и побежали в сторону леса. Руки и головы у них были перебинтованы. Траншея, где сидели стрелковые роты, дымилась. От неё шёл дым немецкой взрывчатки и лёгкий пар. Пулемётчики в своих ячейках встали на ноги, стали стряхивать налетевший сверху слой земл и пыли, лица их были землистого цвета. Некоторые уже успели завернуть обрывки газет и дымили махоркой. Многие оглохли и одурели. Но все были невредимы и целы. Вот когда уверовали они ни в бога, а в то, что не остались с пехотой в траншее. Если бы я тогда поддался на их несогласие и нытьё, торчали бы они сейчас трупами в траншее, не увидели бы ни солнца ни белого света и не вдыхали бы крепкий запах дыма махорки. А солнце, проглядывая сквозь облако пыли и дыма уже клонилось за вершины высоких деревьев к закату. Роту спасло то, что солдаты зарылись в землю уткнувшись лицом в край ржаного поля. Кто из стрелков в траншее остался в живых, трудно было сказать. В траншее могли уцелеть лишь те, кто во время обстрела подался вплотную к рогаткам. Командиры рот видно погибли вместе с солдатами. Те из раненых, кто пытался сразу бежать, попали под огонь и погибли в пути. А те, кто не мог сам подняться на ноги или надеялся переждать обстрел в траншее, умерли от новых ран. Кроме меня, командира взвода и политрука Сокова офицеров на высоте не оказалось. В стрелковом полку их было много, если считать командира полка, его замов и помов, батальонных и других прочих офицеров. Там в полку сидели артиллеристы, сапёры,связисты, химики, оружейники и прочая всякая тыловая братия. Я не говорю о медиках и тех кто дёргал вожжами и хлестал кнутами своих костлявых кляч по бокам. Все эти участники во время обстрела укрывались в лесу. С исходных позиций, когда командиры рот поднимали своих солдат и шли вперёд, политруки стрелковых рот смылись в тыл под всякими предлогами. Исключением в данном случае был Пётр Иваныч Соков. Он хотел было остаться в тылу, но я покрутил головой и он не посмел бросить пулемётную роту. Он пытался задержаться в траншее, боясь что ночью возле ржи немцы нас обойдут, но перед рассветом почуяв недоброе сам прибежал в роту. Теперь он сидел с моим ординарцем в одной щели. В штабах и службах полка и среди тех, кто прятался в лесу от обстрела, никто не знал, что делалось сейчас на высоте. Как и кто здесь держал оборону? Кто остался жив в этом грохоте? По всей лестнице командных инстанций повелевали и требовали данных о Пушкарях. На картах района рисовались стрелы, рукой наносили решительные удары, а где эти ударные роты, что они делали в данный момент никто не знал. Никому в голову не приходило, что ушедшие на высоту пребывали уже в ином и лучшем мире. Послать на высоту человека, это значит послать на верную смерть А кто из тех кто скрывался в лесу добровольно пойдёт на это. Солдаты обречены. У солдат одна дорога. А зачем например политрук будет подставлять свою шкуру, чтоб в ней появились дырки. Или тот же комбат. Хотя батальон в полном составе ушел на высоту. Командир полка под пятью накатами. А почему комбату не сидеть под тремя в том же лесу. Солдат и ротных пришлют сколько угодно, а комбаты на дороге не валяются. Рапортуя выше они плели догадки и строили версии, стараясь угодить ответами вышестоящим начальникам. Наиболее тёртые устраивали свои накаты по соседству с перевязочными пунктами. Пока солдату делали перевязку и вправляли кости, комбат стоял над раненым и задавал ему вопросы. После перевязки с раненым не поговоришь. Он отмахнётся рукой и потребует кормёжки. Принуждать раненого нельзя. На кого нарвешься. Этот промолчит. А другой при всех пошлёт тебя подальше. Но что мог оказать раздавленный грохотом солдат, переживший смерть, истекающий кровью. Он на фельдшера рычит от боли. Он не помнит как его ранило, а его спрашивают о какой-то обстановке. – Чего спрашивать? Раз харчей не даёте! Мне тепереча не до вашей войны! А пожрать бы надо! Чайку с заваркой и в накладку горячего! -Где ваш командир роты? – настаивает комбат. -А где ему быть? Кто его знает? Может убит! А может ногу оторвало! Голову не поднять! Света не видно! Грохот и темнота! А вы своё! Где, да где командир роты? -А много солдат живых сидят в траншее? -Подымишь голову, глянешь вправо, влево! Кто его знает, живой он или мёртвый? У мёртвых тоже открыты глаза! Сбегай сам, посмотри, чего боишься! После таких слов комбат затыкался на время. Раненый солдат знал одно хорошо и точно, ему обязаны сделать перевязку и если зубы целы дать похлёбки и щепоть махорки закурить. И теперь какой бы ему вопрос не задавали, он отмахивался и знал твёрдо, что его с мысли не собьёшь, он держал в голове твердо намеченный план. Ещё несколько солдат сидели на земле и ждали перевязки. Они отвечали неохотно и невпопад. Солдату утомительны были эти вопросы. Если он не знал или не хотел отвечать, он мотал головой, показывал на затылок, что там болит голова. Не видишь, что я контужен. Третий солдат, на которого налетел комбат, отмахнулся от него рукой, как от надоедливой мухи, прилетевшей на запах крови. А последний, с перевязанной рукой, оказался словоохотливым. Он взялся отвечать комбату всё как надо. У него в голове была такая стратегия, что лежавшие другие закачали головами. -Ну и дяла! Ему не меньше чем батальоном надо командовать! Из блиндажа в это время высунулся телефонист. -Товарищ гвардии капитан! Вас вызывают к телефону! Из полка требуют доклада! Сколько не посылал комбат на высоту своих связных, назад никто не вернулся. Это была какая-то прорва, которая поглащала в своё нутро всё живое. Не идти же на высоту самому! Почему эти идиоты ротные не могут послать сюда толкового солдата? Должен же комбат знать обстановку! Связные, которых послали на высоту пропали без вести. Один получив ранение в голову вернулся назад ни с чем. За целый день непрерывного грохота до перевязочного пункта добрались несколько одуревших солдат. Истерзанные, грязные, оглохшие и голодные, они не могли понять о чём их собственно спрашивали. Только глаза их устало и с упрёком смотрели на комбата. -Где командир роты? – срываясь в голосе, закричал он. – Я тебя спрашиваю!-надрывался он. -Я сидел в окопе. Земля ушла из-под нас! -Я спрашиваю, где командир роты! Ты понимаешь это? -Как не понять! Потом как ударит! В глазах потемнело! -Ну и что дальше? -Я хотел вылезти, а меня засыпало. Смотрю на небо, а солнца не видно! Да, вроде живой! Утёр лицо, посмотрел на руки, а они в крови! -Командир роты где? -Какой командир роты? Там земля летит вверх дном! А роты никакой! Комбат вышел из себя. Он ждал что солдат вот-вот окажет о командире роты, -И больше ничего? -А чаво ещё? Комбат сплюнул и отошел в сторону. На дороге показались новые раненые. Но когда они приблизились, оказалось, что они с другого полка. Из блиндажа выглянул замполит. Комбат подошел к нему и спросил: -Ну что будем делать комиссар? Замполит вышел из блиндажа и пожал плечами. Комбат не выдержал и заорал: -Кем я командую? Раненые солдаты повернули головы и посмотрели на него. Замполит взял его под руку и увел в блиндаж. А солдаты, сидевшие на земле, продолжали между собой разговор. -Послушай браток! Иду я по траншее,смотрю в бок отходит узкий проход. Зашел туда, смотрю очко круглое. Из гладких струганных досок сделано. Удобное, чистое и не тесное. Поглядел, подумал и пошел назад. Шарахнет ещё в таком гадком месте и будешь болтаться в немецком дерьме. Солдат посмотрел на концы своих почерневших пальцев и продолжал. -Только я вышел обратно, а тут вдруг ударил снаряд и оглушило меня! Он никак не мог понять, что от него хотел крикливый комбат и зачем немцы на переднем крае оборудовали себе отхожее место. -Видно у немцев слабые желудки! Или едят по многу! – сделал он заключение. Я товарища гвардии капитана хотел спросить про немецкий сортир. Да он и слушать не захотел. День был на исходе. В штабе полка кипела работа. Из дивизии требовали доклада о ходе наступления на высоту. В телефонной перебранке с комбатами постепенно вырисовывалось, что наши взяли высоту, что и требовалось доказать. В ситуации, когда достоверные данные отсутствуют важно доложить и попасть в струю. Тебя потом не забудут, непременно отметят, глядишь и представят к награде. Не будут же писать представление на Ваньку ротного, который отсиживался на высоте. Штабная работа требует изворотливости, ты всё время на глазах у начальства. Это не то что ротный, взял ушел на высоту и сидит там. Если ты даже и не в курсе, ты всёр авно должен придать своим словам уверенность, если хотите лихость, в этом успех продвижения вперёд, В донесениях и сводках появились внушительные цифры убитых немцев. А как же без них? Комбат подсчитал раненых и донес, что в полосе наступления батальона убито не меньше пятнадцати солдат противника. В полку эту цифру сразу округлили. – Что они там дуру валяют! Два батальона за целый день боёв не могли убить сотню солдат противника? – Могли! Могли! -А что же ты мне на подпись суёшь всего двадцать? Немцы сотнями валяются на высоте, а ты мне двадцать! А на высоте в это время стонали и умирали стрелки солдаты. На высоту послали ещё одного связного. -Найди командира пулемётной роты и немедленно его сюда! Скажи командир полка вызывает! Связной солдат добежал до ржи, нашел меня и мы с ним побежали в тылы полка для доклада. Возвращался обратно я один. Немцы пока не стреляли. Я бежал где перебежками, где шел ускоренным шагом, отдыхая. Поднимаясь на высоту, я подошел к траншее и собирался уже её перешагнуть. Как вдруг услышал гул приближающихся снарядов. Я взглянул в траншею, где сидели солдаты и крикнул им: – Ну-ка! Подвинься! Дай просунуться! Но солдаты даже ухом не повели. Я прыгнул вниз между двух солдат, протиснулся между ними, растолкал их локтями и присел в тесноте. В это время ударили снаряды. Я нагнул голову и подался к стенке траншеи. Земля качнулась и задрожала. Снаряды рвались кругом. Когда стрельба утихла, я стряхнул комки земли и пыли с головы и посмотрел на сидящих рядом солдат. -Вы что? Подвинуться не могли? Вас ногами нужно расталкивать! -Что смотришь? Солдат сидевший рядом смотрел на меня в полоборота и держал в руках винтовку. -Чего молчишь? Сообразить не можешь? -Ему кричат подвинься! -Снаряды летят! А он шевельнуться не может! Я взглянул на него и тут только заметил, что сидевший рядом со мной солдат как-то странно смотрит. Он уставился на меня не моргая глазами. Я пригляделся, толкнул его плечом и увидел – в открытых глазах его была смерть. Слева тоже сидел паренёк с открытыми глазами. Он смотрел перед собой не мигающим взглядом. Дальше ещё и ещё. Лица их были землистого цвета. -Кто тут живой? – крикнул я и поднялся на ноги. Траншея на шевелилась. Солдаты сидели в траншеи привалившись спиной к задней стенке траншеи. Они были мертвы. Плечом к плечу была набита немецкая траншея нашими русскими мертвыми солдатами. Какое военное преимущество получили мы, заняв высоту? Отвлекли на себя часть немецких сил с большим количеством артиллерии? Меня спросили в полку, где сидят батальоны и какой участок занимает пулемётная рота. Есть ли в роте потери? На все вопросы я ответил и добавил в конце, что потерь в роте нет. О батальоне ничего сказать не могу. Он сидит сзади и контакта я с ним не имею. По представлению штаба полка сражение за высоту шло согласно утверждённому плану. А где же наша авиация и артиллерия? – спосите Вы. Этого я сказать не могу, это не в моей компетенции. Мы знали только одно, что войну мы вели людьми, винтовками и пулемётами. В штабах не думали, что мы несём напрасные потери. Главное нужно было выстоять! Выделенная для поддержки артиллерия не стреляла, причин было много. Одна из них – мощный ответный огонь противника по их огневым позициям. Немцы перепахали всю высоту, но атаковать её пока не решались. На другой день после короткого и очень мощного обстрела немцы совсем прекратили огонь. Войска не могут вести бой не имея отдыха. Единственно достоверными данными были цифры о количестве поступивших с высоты раненых. Фельдшер считал их тыча пальцем и записывал в свою книгу. С комбата требовали сведения об убитых, а он не мог ответить на этот вопрос. Полковое начальство грозилось и кричало, в полку торопились и отправляли своих связных на высоту. Солдатам сулили награды. Они шли и недоходя высоты погибали, за весь день один из посланных добежал до траншеи и вернулся назад. Ему удалось проскочить под огнём,он спрыгнул в траншею и онемел от ужаса. В траншее сидели убитые солдаты. Связной короткими перебежками пробежал вдоль траншеи и снова спрыгнул в неё. Он опять лицом к лицу оказался с убитыми. На фронт он только что прибыл и первый раз увидел подобное зрелище. Похолодев от ужаса, что он один оказался среди покойников, он кинулоя бежать обратно. Страх и ужас придали ему силы и скорости Он падал и бежал, кругом не замечая ничего. Ему казалось,что и в лесу повсюду и кругом одни мёртвые. Благополучно добежав до полка, он увидел живых и обессиленный свалился на землю. Его подхватили под руки и поволокли в блиндаж. Все замерли от cтpaxa и онемели, когда он объявил, что в траншее сидят только убитые. Слёзы застилали ему глаза. Его подняли на ноги и подвели к столу командира полка. Он вдруг захрипел, заикал и его вырвало прямо на стол, где лежала разрисованая красными стрелами карта полка. Стрелы исчезли, его подхватили и потащили из блиндажа. Эта страшная весть с быстротой молнии облетела все службы полка. Она поползла по проводам. Два полка солдат, молодых ребят, – как поётся в песне, отдали свои жизни. -Кто же там держит оборону – спросил командир полка. Ответа не последовало. К вечеру после короткого мощного обстрела немцы прекратили стрельбу и отправились на ужин. День для немцев был не лёгкий. Ещё бы после такого напряженного дня стволам орудии нужно дать остыть. Солдатам положен отдых. В лесу тем временем в спешном порядке готовили новую роту. Её пополнили солдатами с поджившими ранами, почистили санроту и сотня серых, замшелых, потёртых шинелей, потолкавшись в лесу, тронулась на высоту. Её повел младший лейтенант только что прибывший из тыла с офицерских курсов. На фронте он раньше не был. Мало что понимал в войне и поэтому держался спокойно и пошел на высоту уверенно. Когда последние залпы артиллерии стихли на высоте, я вылез из воронки и перебежал в пулемётную ячейку Парамошкина. -Как немцы?- спросил я его. – Всё тихо,товарищ лейтенант! -Это хорошо! Я крикнул ординарца, который с политруком Соковым сидел в щели на двоих и велел ему привести связного для отправки в тыл. -Пойдёшь в полк!-оказал я связному. -Доложишь что рота держит оборону, потерь в роте нет. Немец пока не атакует. В стрелковых ротах большие потери. Пусть мне дадут телефонную связь. Найди нашего старшину. Пусть берёт хлеб и кормёжку. С ним и вернёшься назад, – Всё понял? -Ясно Товарищ лейтенант! – Ну давай, вали! Вскоре в пулемётную роту дали связь. Телефонист устроился в воронке около трупа, Я ушел проверять пулемёты. Я переходил от одного пулемёта к другому, говорил с солдатами, с кем шутил, на кого рычал и одёргивал и солдаты на обижались. Солдаты знали что это за дело и что я рычу без злобы. Я осмотрел все пулемёты и предупредил солдат. – Из пулемётов не стрелять! Себя не обнаруживать! Если немцы пойдут в атаку начнёт Парамошкин! После него начнёте вести огонь! Вернувшись назад, я увидел своего политрука. Он сидел на краю своего окопа. -Где ты пропадал? – Я здесь в щели с ординарцем сидел! Kaк там у ребят на точках? – Раненые нет! Все живы здоровы! – А где будет наше КП? – Какое КП? – Ну, где будем строить землянку! Я видел вон там у сарая готовые брёвна. – Ты толкуешь дело! Только за одну ночь нам её не осилить. Taк что наберись пока терпения, пару дней придёться посидеть в открытой щели. Сегодня же под землянку начнём копать котлован. Вон там в воронке, где сидит телефонист. Вот ты этим делом и займись! – Пусть труп уберут! А то он завтра на солнце пустит дух! – И вот ещё что! Я пойду к пулемётчикам на правый фланг, пусть мне сначала отроют щель! – Где рыть? – Вон тан около пулемётного окопа Парамошкина. – Будут звонить из полка, скажи потерь нет. Где мы сидим, по телефону не рассказывай. Разговаривай потише. Немцы могут рядом быть, во ржи. – Я скоро вернусь. – Да передай старшине пусть в роту доставит воды. Вода нужна для пулемётов и для людей. День будет жаркий. Видел сегодня как пекло. Только что проверял пулемёты во взводе старшего лейтенанта, из кожухов вылили воду. Спрашиваю его: – Почему в пулемётах нет воды? Как будешь стрелять? Если кожуха пустые. Молчит. Спрашиваю Балашова. Он вроде толковый и серьёзный парень. – Как получилось Балашов, что оба пулемёта без воды остались. -Командир взвода заболел! – отвечает. Просил пить.Вот мы ему и слили. – Вот такие дела политрук! Я хотел уже встать и уйти, но политрук забеспокоился, засуетился, огляделся по сторонам, подвинулся ко мне и осипшим голосом сказал|: – Я хочу тебе кое что сказать. Дело серьёзное! Петя достал кисет. Свернув цигарку спустился в окоп, чиркнул спичкой, прикурил, вылез наверх и держа папироску в рукаве добавил! – Он подцепил заразную болезнь! -Какую-какую? -Я снял пилотку, разгладил волосы и посмотрел на него. -Говори я слушаю! – Помнишь? – начал он в полголоса. – Там на последнем месте обороны, где мы недели две стояли под дождём. Ну где я ночью уходил проверять посты. – Ну и что? -Так вот! Никакого указания политотдела не было. Мы со старшим лейтенантом просто ходили к бабам. -К каким бабам? Если до ближайшей деревни в тыл не меньше десяти вёрст. Пешком не обернёшься. Ночи сейчас короткие. – Да нет! Мы в деревню не ходили. – А куда же вы ходили? – Помнишь? Когда ты его со связным отправил во взвод, солдаты ему сказали, что рано утром в тот день в нейтральной полосе они видели дым. Дым шел как вроде из трубы. Старший лейтенант взял бинокль и весь день пролежал наблюдая за тем местом. Там в лощине, около оврага, недалеко от нашей передовой была землянка. К вечеру он увидел как около неё мелькнула женщина. Ночью он один пошел туда. В землянке их было две. Одна молодая, а другая постарше. Вернувшись к себе в окопы он солдатам ничего не сказал. На следующий день он встретил меня и предложил: – Есть две бабы политрук. Одна молодая – это моя. Для тебя есть постарше. Если согласен на постарше, сегодня ночью пойдём. Ротному ничего не говори, а то он сразу отошьёт нас обоих. -Я согласился на постарше. Мы договорились встретиться вечером в пулемётной ячейке. Погода была дождливой. Немцы не стреляли. Ты спал. На передовой было тихо. Но я всё равно боялся. Ничего не сделаешь! Охота пуще страха! Потом походил-походил-привык! Две недели ходили мы туда. А вечером, когда пришли в лес под Пушкари, он сказал мне, что подцепил заразную болезнь. – Посоветуй,что делать? – Ты лучше меня знаешь, что за это бывает. Такие вещи на фронте рассматривают как самострел. Его вылечат и отдадут под суд. – В том то и дело! Он просил поговорить с тобой. Он хочет пойти к фельдшеру и договориться с ним частным порядком. Как ты на это смотришь? – Я отпущу его на один день. Но запомни! Я знать ничего не знаю на счёт его болезни! Ты с ним куролесил, ты и расхлёбывай. У меня и своих дел в роте по горло! В санчасть поведёшь его ты. Даю вам на это ночь до рассвета! К утру вместе с ним вернёшься назад. Я поднялся, позвал своего ординарца и шагнув в темноту ушел на правый фланг роты. Ночью Парамошкин и его расчёт вырыли для меня узкую щель и прикрыли её соломой – Зто зачем? – спросил я, вернувшись назад. Зачем солому сверху настелили? – Вы же сами сказали, что завтра будет жарко. Вот мы и накрыли её сверху соломой. Тень будет, товарищ лейтенант! Я хмыкнул под нос и покачал головой, – завтра будет жарко в смысле обстрела! – Ладно! Пусть будет тень! Ты всегда что нибуць придумаешь! – Главное не надо сразу отметать солдатскую инициативу, – подумал я. Солома будет лезть в глаза, набьеться за воротник. Важно, что солдаты о чём-то думают. Не всё выбило из них. От страха не одурели. Завтра опять захлебнёться земля. Как оно будет? Ночью немец не стрелял. Вылазок в нашу сторону не было. На высоте тихо и спокойно. Пахло немецкой взрывчаткой. Потом стало заметно холодать. Часа через два появился туман. Он полз из низины. Воздух стал влажным, видимость пропала. Я, ординарец и несколько солдат сидели на краю окопа и тихо разговаривали. Почти рядом послышались голоса. В ночном полупрозрачном воздухе голоса прослушивались издалека. Поблизости от нас никого не было. Я поднялся на ноги, посмотрел в ту сторону поверх земли, долго приглядывался, но никого не увидел. Снова послышался разговор двух солдат. Каждое сказнное им слово поражало ясностью и отчётливостью. Казалось, что они стоят в трёх метрах сзади и разговаривают. Мы сидели молча и слушали каждое слово. – Сколько нашего брата погибло здесь! – Стоит ли эта деревня такой цены? – Людей бросают вперёд без счета! – Я раньше этого не понимал. А теперь прозрел и всё стало ясно? – Всё делают на авось!- и говорящие смолкли. Но через некоторое время опять послышались голоса. – В обозе держат коров. Начальство молочком и сметанкой питается. – Друг надысь рассказывал, сливки на трофейном сепараторе крутят. В небо взмыла немецкая осветительная ракета. Яркий свет её завис и замерцал над головой. Потом он быстро побежал по лицам сидевших, по стенкам окопа и скрылся за рожь. Голоса пропали. Ветер сдул их куда-то в сторону. Свежий человек не может так рассказывать, подумал я. Это разговор бывалых солдат. Свежего человека хватает на неделю. Пока он приглядиться, считай его уже нет. Здесь на передовой говорили обо всём. Только в присутствии телефонистов старались не сболтнуть лишнего. Однажды произошел такой случай. Старшина рассказывал. Ребята слышали, как тот в полку докладывал о разговорах на передовой. -Ну и что?- спросил я. – Не стало его! -А что с ним случилось?- спросил я старшину. -Он говорят погиб на передовой во время обстрела. А другой говорил, что он подорвался на мине. Перед обстрелом оборвался телефонный провод. Он пошел на линию и подорвался на мине. – Откуда там взялась мина? – не унимался я. – Может забыли сапёры! А может какая немецкая была. – Возможно-возможно! Ночью немец дал нам передышку. Пришел старшина раздал кормёжку. Тёмная ночь,а светло как днём. Немец на всю ночь включает ракетное освещение. Светит как надо. Нам за счёт немцев светло. Пройдя ещё paз вдоль роты и закончив все неотложные дела я вернулся и себе, подошёл к отрытому для меня окопу, сбросил на дно солому и спустился вниз. Я лёг на дно, зевнул глубоко, потянул в себя прохладного воздуха, закрыл глаза и мгновенно уснул. Политрук Соков к утру не вернулся обратно. Ординарец оставил воронку, где дремали связные взводов и телефонист и перебрался в свободную щель, где до этого сидел политрук Соков. Он хотел быть поближе к ротному. С момента, когда лейтенант ложился и засыпал, он, ординарец оставался дежурить. Для него с этой минуты наступал самый ответственный момент. Он вел наблюдение и отвечал за всю пулемётную роту. Спали они обычно по очереди, иногда ротный ложился спать прямо на землю. Сейчас у отрыта узкая щель. В ней можно протянуть даже ноги и спать не боясь пуль и осколков. Ординарец по опыту знал, что лейтенанту долго спать не дадут. Ночью будут звать к телефону. Утренний рассвет самое ответственное и тревожное зреия. От фрицев можно ждать всего. Они могут провернуть всякую гадость и каверзу. Подползут подлые тихо, лягут и затаяться. А потом с рассветом встанут и пойдут вперёд. Ротный был уверен в своём ординарце. От его расторопного взгляда и чутких ушей ничего не уйдёт. У него,как выражался ротный, не плохая смекалка, есть чутьё на немцев и сообразительный котелок. И поэтому, набегавшись, ротный валился спать не сообразуясь с предрассветной порой. На сон и на отдых ему давалось ограниченное время. Вон политрук. Тот мог и день и ночь спать сколько угодно, сколько ему влезет. Но спал политрук только ночью. Дней под обстрелом он боялся даже закрывать глаза. А они с ротным набегаться и только под утро ткнуться по очереди и уснут. Но бывало и так. Когда ложились спать они сразу двое. Прибегут в пулемётный расчёт, сделает ротный проверку пулемёту и лентам, даст пулемётчикам нагоняй за разные неполадки, а потом скажет им – Братцы! Вы подежурьте! Ая орденарцем ляжем вот здесь и попспим. Мы вторые сутки не занимались этим делом. Пулемётчики любили, когда ротный после нагоняя прямо в пулемётной ячейке устраивался спать. -Намаялся! – говорили они. Сядут молча и махрятиной не дымет. Не портят нам воздух с ротным. И в этот раз, когда позиций немцев еще не видно, ротный свалился в окоп и заснул. Пришло утро ясное тихое и безоблачное. Немцы кое где зашевелились. В конце траншеи были видны их каски. Проснувшись,они пустили в нашу сторону одинокий снаряд. Туман дрогнул. Взрыв раскатистым эхом отозвался за лесом. Потом после долгой паузы, которую им отвели на завтрак со шнапсом, они перекурили и пустили по высоте ещё три снаряда подряд. Теперь началась их работа. Снаряды остервенело завывая замелькали чёрными точками, их было видно на фоне светлого неба. Они наклонились навстречу земли прошуршав как змеи. И вот высота вздрогнула и заколотилась в судорге. Я проснулся, поднялся, осмотрелся кругом и махнул ординарцу вниз рукой. Это означало, что он овободен от дежурства и может если хочет ложиться спать. День обещал быть без особых забот. Поревёт, погрохочет,побрызгает землёй. Всё живое уже убралось и пригнулось по щелям. Солдаты притулились к стенкам окопа и притихли. Третий день обстрела. Считай они уже привыкли к нему. Многие, кто дежурил ночью устраивались поудобнее на дне окопа и закрывали глаза. К этому привыкнешь, если привык к обстрелу и хочется спать. Немец пока сидит надёжно и не лезет вперёд. Он будет бить ещё дня два. Потом может, сунеться на высоту. Ему нужно знать наверняка, что все убиты или сидят полуживые. Пулемётчикам повезло. На их позиции не упал ещё ни один снаряд. Врывы вздымались, но не ближе десяти метров. Сначала было жутво и страшно, земля ходила под ногами, бросала на несколько метров окоп. При каждом таком мощном ударе человеческое тело сжимается, суставы рук и ног стягивает в единый комок. Ты искривляешься как сжатая пружина. Хлёсткими до боли в голове ударами выбивает последние мозги. Ты хочешь расслабиться, а новые удары следуют один за другим, ещё больше тебя сжимает и раослабиться не даёт. Люди трясутся, бьются всем телом, стучат зубами, и начинают дуреть. Некоторые охают, крестяться, читают молитвы, беззвучно шевеля губами. Весь день немцы продолжали изрыгать смертельный огонь. Высота окуталась облаком земли и дыма. Жизнь или смерть! Орёл или решка? Сколько не крути, сколько не гадай, ответа не получишь! Всё делается проще! Вперёд о смерти знать не дано! Снаряд хряпнул так близко,что у щели, где я сидел, отвалилась земля. Второй ударил рядом с пулемётом, сбрсил о него охапку соломы и заскрежетал осколками по стальному щиту. Немец перенёс огонь почти к самой кромке ржи. – Ну всё – подумал я. Теперь нужно ждать смерти! Чтобы как-то всё это выдержать, я обратил свой взор к давно умершему отцу. Мысленно просил ero – Помоги мне отец! Скажи что делать? Артиллерийский обстрел в Пушкарях был самым кошмарным, какие мне приходилось видеть и испытывать на себе. Я перепробовал всё. И молился и матерился! Не сама смерть, которая грозила сверкнуть перед глазами была мне страшна, а бесконечные взрывы и завывания снарядов, всполохи огня перед глазами, удары земли, от которых внутри всё обрывалось. Я уже не понимал, месиво там или ещё живые органы и кишки. Соков всегда носил на голове каску. Он боялся прямого попадания в голову. Какая разница, куда попадёт! Я достаю из кармана две сложенные бумажки попавшиеся мне под руку. Я держу последнее письмо из дома и машинально начинаю его рвать на мелкие клочки. Потом я рвал донесение, которое я написал в полк. Пусть все останеться на земле, я подкидываю горсть изорванных на части бумажек и налетевший ветер разметал их в одно мговение над землёй. Я приподнялся и вдруг я вижу своего пулемётчика Парамошкина, он быстро оборачивается и спокойно смотрит мне в глаза. У него встревожено лицо. -Немцы идут! – думаю я. И это выводит меня из оцепенения. Я начинаю ровно дышать, чувствую тошнотворный запах немецкой взрывчатки и делаю знак Парамошкину, что мол немцы идут? Нет качает он головой. Я ему махаю ладонью и сам спускаюсь в окоп. -Ну и денёк! Чуть сам с ума не опятил! – вздыхая, говорю я вслух. Вспомнил, как я бегал в полк, как обратном пути попал в траншею забитую солдатскими трупами. Лес большой. Я точно не знал где находиться блиндаж командного пункта. Я пробежал почти весь лес. На дороге увидач лошадь и телегу. На ней сидели раненые. Повозочный остановил лошадь и кнутом показал мне в нужном направлении. Туда в лес вела узкая непролазная тропинка. – Здесь пешей гораздо ближе! Чем кругом в объезд вокруг болота. – сказал он мне. – Блиндаж полка сразу найдёте! Он стоит у большой сосны. Вон телефонный провод туда натянут. В самом деле, не успел я немного пройти и свернуть у сосны, шагнув в лес с тропинки, как за деревьями увидел бугор замаскированных накатов. Да! – подумал я, штаб полка надёжно укрыт. Сюда не танк, ни пехота со стороны дороги не подойдёт. Поставь пушку в кустах напротив, имей возле себя ящик картечи, здесь можно сидеть до конца войны. И на самом деле. Когда я с тропинки поднялся немного в гору, на её крае я увидел зарытые в землю полковые пушки. Вот где они облюбовали место себе на войне! Охраняет лес вместо того, чтобы прикрывать огнём свою пехоту. Вот так! Кому война! А кому хреновина одна! На высоте по-прежнему ревела канонада. Я вспомнил трупы с открытыми глазами, среди которых сидел на обратном пути. По спине прошел мороз и я подумал, неужель погибнет вся рота? К вечеру обстрел затих. Нас основательно засыпало землёй. Окопы и цели пришлось от земли очищать лопатами. Через некотрое время прибежал политрук. – Ты мой приказ не выполнил! – успел я сказать ему на ходу. Я собирался пойти и проверить роту. Следом за политруком прибежал старшина. Он принёс кормёжку и воды для пулемётов. Старший лейтенант тоже вернулся, но не заходил ко мне и сразу подался в свой взвод. Старшина стал кормить людей, раздевать хлеб, похлёбку и махорку, Я прошел по всем пулемётным расчётам, потерь в роте не было. Ночь прошла спокойно. Ночью я приказал всем по очереди спать. – Немцы завтра должны пойти в атаку! К рассвету опять все притихли в ожидании нового дня. Утром, как всегда после первого и ещё трёх снарядов началась распашка высоты. Не снижая темпа, они били по высоте до обеда. В этот раз, когда обычно стрельба стихала, немцы вдруг усилили обстрел. Они сосредоточили по высоте такой ураганный огонь, что все кругом забилось и задрожало. Высоту затянуло густым облаком летящей земли, высоту била предсмертная судорга. Я сразу понял, что наступил решаюший момент. Немцы обрушили на высоту лавину снарядов, за ней последует атака пехоты и танков. Наши пулемёты молчали. Четыре пулемёта, накануне проверенные, были готовы отбить любую атаку немецкой пехоты. Я сам проверял каждый пулемёт. Сейчас я лежал на спине на дне своей узкой шели и прислушивался к разрывам.Земля плыла из-под меня вместе в окопом. Я прислушался, хотел уловить человеческие голоса, но в рёве снарядов ничего не было слышно. Если обстрел прекратиться, внезапно обор-веться и из ближайшего окопа мои солдаты подадут голоса, значит немец пошел в атаку. И они его подпустят на прицеле. Но пока немец бьёт, пока летит земля, нужно набраться терпения и спокойно дожидаться начала. Сейчас снаряды рвуться с перелётом. Но вот несколько снарядов как бы сорвались с высоты и вскинули землю у самого окопа. Они стали рваться в расположении роты. Что зто! Я вскочил я на ноги, простая случайность? Неправильный прицел по уровню? Или обычный недолёт? Или немцы опять перенесли огонь ближе к ржаному полю? Разрывы стали приближаться к пулемётных ячейкам. Там где стоял пулемёты,там где из окопа выглядывал я, кругом летела земля и шуршали осколки. -Нет!-подумал я,- немцы не должны изменить прицел. Но что им стоит дернуть лимб на одно маленькое деление ближе, на 0,01. Ведь это сделать просто. Если немецкая пехота на подхода и уже ползёт вверх по ржи, то арт-подготовка сейчас оборвёться. За короткое время немцы не сумеют обработать узкую полосу вдоль ржи. Если немцы бросят на высоту сотни две или три своей пехоты, четыре пулемёта "Максим» вполне достаточно, чтобы её положить и отправить на тот свет. Все они лягут в земле едва сделав несколько шагов вперёд. Но немцы могут пойти в атаку с танками. Как я раньше об этом не подумал. В голове замелькали картины прошлого, когда приходилооь видеть и встречаться с немецкими танками. После неожиданной мысли о танках время как будто остановилось. Я посмотрел на край обвалившегося своего окопа и с особой ясностью представил приближение немецких танков. Они там внизу, на том краю ржи, тихо ворча, расползаются по низине. Солдаты стрелки, кто из них ещё жив, увидев танки, сбегут с высоты и здесь остануться одни пулемётчики. Стрелкам легко. Сбежал с высоты под горку, добежал до леса и ложись. Танки в лес не пойдут. Выглянув из окопа, я увидел разрывы снарядов, летящие куски земли и осколки. Мысли о танках не дfвали мне покоя. Могли бы yаши поставить артзаградогонь в полосе наступления немцев. Я лихорадочно перебирал варианты, пытаясь найти подходящий ответ. Что придумать? Какой номер выкинуть? От ударов снарядов шумело в голове и стучало в висках. Дышать было нечем. Как же старики мои солдаты, сидят и ничего! Я моложе их, здоровый и сильный не находил себе места. Нужно на что-то решитьоя, твердил я про себя. Сейчас я услышу отчаянный крик моих солдат – «танки!». С необычайной быстротой летело время. Я выглянул за бруствер, окинул взглядом поле ржи и снова пригнулся. Низко над землёй летели осколки. Что делать? Я один живой ничего на стою, если погибнут мои солдаты. Что стоит комбат или командир полка, если они сидят в лесу под накатами, а войска солдат у них нет, все перебиты. Жалкая горстка стрелков лежит где-то под самыми рогатинами. Чем собственно заняты наши любимые полководцы? Каждому своё! Единственная их заслуга – удержать остатки солдат на высоте. Но как они это сделают? Кричать -"Мать твою… Давай вперёд! Ни шагу назад! А кому и куда кричать? Телефоны оборваны. Позиций немецких батарей подавлять не умели, или боялись, или не хотела. Бросали под огонь без счёта солдатскую массу, она ничего не стоила, запасы ее были огромны. Я выглянул поверх земли и увидел Парамошкина. Он стоял припав к пулемёту и смотрел куда-то вперёд. Он стоял не шевелился и склонил голову на бок. Сразу мелькнула мысль – He убило его? Но присыпанная землёй фигура его шевельнулась и как бы чего-то вынюхивая, повернулась в мою сторону. Я увидел его спокойное лицо. Солдат улыбнулся, увидев меня, помахал мне рукой и снова припал к пулемёту. Пулемётная ячейка его находилась рядом со мной. Это было самое высокое место на краю ржаного поля. Отсюда хорошо просматривалась вся волнистая рожь и лежащая за полем в низине лощина. В этой лощине могли появиться немецкие танки. Сухая спелая рожь, высушенная августовским солнцем, при каждом новой разрыве металась и шуршала Спокойное лицо Парамошкина припавшего к своему пулемёту подсказало, что танков в лощине нет. Но меня беспокоило другое, что накануне ночью, обходя своих солдат по фронту я не предупредил их о возможном появлении немецких танков. По рёву снарядов и по поведению Парамошкина можно было предлоложить, что пулемётчики готовы встретить немцев. Я выглянул ещё раз из окопа, взглянул на рожь и в сознании моём промелькнула быстрая мысль. При появлении танков можно поджечь рожь. Танки по горящему полю не пойдут. Огонь побежит им навстречу. Сколько пережил и передумал я, а решение простое! Артподготовка немцев внезапно оборвалась. Вой прекратился, грохот повис в воздухе. Резкая тишина отозвалась болью в ушах. Сколько нужно выпустить снарядов, чтобы над высотой закрыть солнечный свет? На высоте стоял полумрак. Огромное облако земли, пыли и дыма медленно ползло в сторону леса. Это грозное, чёрное облако хорошо было видно издалека. Оно закрыло полнеба. Немцы наверно любовались им. Они с удовольствием потирали руки. А наши, которые сидели в лесу, ногтями скребли свои затылки. – «А кто там остался на высоте?». Немцы видели, что русская артиллерия молчит, ответного огня не открывает, ружейных выстрелов не слышно, на высте всё подавлено и мертво. Им видно было в бинокли, что траншея дымилась в безмолвии. Высоту можно брать голыми руками. И это подхлестнуло немцев. После четырёх дней массированного обстрела немцы решили бросить на высоту пехотную роту солдат из того расчёта, чтобы равномерно занять полосу по фронту. На высоту пошло сотни полторы немецких солдат. Они скрытно подобрались по ржаному полю, залегли и затаились. Теперь осталось только встать на ноги и сделать полсотнии шагов. Минута затишья тянулась недолго. Те и другие, каждый ждал своего! – Не ложный ли это обрыв обстрела, – подумал я, – как бы нам самим не промахнуться, не выдать случайно себя. Выпрыгнув из своей ячейки, я в два прыжка оказался в окопе Парамошкина. Посветлевшее небо осветило изрытую землю. Я взглянул вперёд и поверх волнистого желтого поля замелькали немецкие тёмные каски. Немцы стали приподниматься и выглядывать поверх ржи. На короткое время показывались их напряженные лица. Они снова припадали к земле и прятались во ржи. Танков не было видно. Я спрыгнул в окоп к Парамошкину, он без слов понял моё движение, и навалился на пулемёт. Взяв прицел на полкорпуса пригнутых к земле немцев так чтоб пули пошли на уровне живота, я довернул уровень превышения на лимбе и взглянул на заряжающего. Солдат ответил мне не мигающим взглядом. Он держал свисающую ленту в руках и готов был подавать её к пулемёту. Немцы уже тронулись с места, можно было открывать огонь. Впереди во весь рост по ржи на меня шел первый немец. Я встретился с ним взглядом. Что подумал он в этот момент, увидев перед собой русского офицера. Я нажал на гашетку – из пулемёта вырвалось пламя. Пулемёт застучал выплёскивая свинец и смерть. Немец споткнулся, вскинул руками, он получил её вместо железного креста. Шел он впереди у всех на глазах, хотел показать свою храбрость. Он стоил того, потому что сзади него тащилось горбатое воинство. Справа ударил ещё пулемёт. Через мгновение за ним включился третий Четвертый после короткой очереди заткнулся. Получилась задержка, подумал я, попала земля или перекосился патрон. Парамошкин, готовый перехватить пулемёт, стоял около. Он смотрел поверх ржи и подавал мне советы. – Ниже 0.02 лейтенант! Немцы пригнулись! Теперь над землёй неслась лавина свинца. Рожь впереди защаталась, забилась и под ударами свинца, вскидываясь вверх, стала ложиться. Я боялся отказа, случайной задержки, которых в пулемёте было двадцать шесть. Двадцать шесть допустимых,а сверх того и не предусмотренных. Любая из них могла случиться в бою, когда выпускаешь целую ленту Малейший затык в стрельбе в такую минуту мог придать немцам смелости ринуться вперёд. Они были от нас на расстоянии десяти шагов Был слышен звон и металлический треск, когда пули ударяли по немецким каскам. Первое, что нужно сделать – это их положить. А когда они лягут и уткнуться головой в землю, они наши, дело плёвое – неторопясь убавить прицел и расстрелять их в упор. Если дать очередь в такого лежащего и поддеть его снизу свинцом, у пуль хватит мощи, чтобы подкинуть его вверх и перевернуть на спину. Пулемёт, из которого я бил, был старой и потрёпанной машиной. Но сейчас он работал как штык. Немцы не ожидали здесь встретить пулемётный огонь. Они не думали, что на краю ржаного поля стоят пулемёты. Они приняли могильную тишину за могильный покой. Первые пули их ошарашили и им от них деваться было некуда. Они сразу запнулись, опустились на землю и залегли. Я сделал короткий перерыв в стрельбе, быстро довернул уровень прицела и, нажав на спуск, медленно повел пулемётом из стороны в сторону. Теперь пули шли по самой земле, они стригли стебли, резали и рвали животы и плечи немцам. Рожь падала и ложилась, её сносили свинцовые плети. Показались тёмные бугорки лежащих на земле немцев. Я полоснул им по спинам. Я нажимал на гашетку, а пулемёт замолчал. Дрожь его сразу утихла. От него шел горячий пар. В кожухе кипела вода. Я взглянул на солдата подающего ленту. Он растопырил пальцы, показывая, что первая лента кончилась. – Подавай вторую! – боднул я головой в сторону пулемёта и сказал: – Парамошкин заряжай! Парамошкин метнулся вперёд к пулемёту, а я отвалился спиной к задней стенке окопа. Парамошкин щелчком открыл затворную крышку, протащил конец новой ленты в приёмник, стукнул кулаком по верхней крышке, передёрнул ручкой затвора и сказал:-Можно приступлять! Я показал рукой на пар выходящий из кожуха и посмотрел на прокосы сделанные при стрельбе из пулемёта. Впереди на подстриженном косогоре лежали немцы, захлёбывались своей кровью и прощались с жизнью. Не все пули попадают в голову и сердце. Человек прошитый десятками пуль может лежать долго в полном сознании. Мы своё дело сделали. За траншею набитую трупами они вполне расплатились. Важно теперь лежащим немцам дать немного времени обо всём подумать. Парамошкин взглянул на меня, спрашивая глазами почему мол не стреляем. – Пусть немного охладиться – сказал я и приставил к глазам бинокль. Теперь с большим увеличением я мог рассмотреть, что делается на скошенном поле. Парамошкин извлёк из мешка портянку, намочил её водой из фляги и приложил к пулемёту. Потом он долил холодной воды в кожух, заглушил отверстие пробкой и приготовился вести огонь. Я тем временем оглядел все поле, перевёл бинокль на пулемёты справа и слева, увидел спокойные лица своих солдат и взглянул в сторону четвертого пулемёта, у которого ковырялись солдаты, передёргивая затвор. – Давай Парамошкин! Парамошкин нагнулся, сморщил нос и нажал на гашетку. Стрелял он длинными очередями, делал короткие паузы, старался не допустить перегрева. Он мысленно каждый раз намечал себе новое место, тщательно прицеливался и пускал туда длинную порцию свинца. Два других пулемёта, следуя его примеру, перешли на стрельбу очередями. Ещё минута и вторая лента подошла к концу. Я велел сбросить гашетку и стал прислушиваться к голосу других пулемётов. Заработал четвертый. Они били ровно, по ритму стрельбы можно было сказать, что ничего опасного на других участках нет. Они положили немцев как и здесь. Двести пятьдесят патрон в минуту при стрельбе из четырёх пулемётов, это тысяча пуль на полторы сотни немцев. А мы дали уже по две ленты, на каждую из этих допотопных машин. Если из "Максима" выпустить по две ленты беглым огнём, то можно пожечь стволы. Их нужно менять. По одному, два ствола на каждый пулемёт положено иметь в запасе. Немецкие пулемёты с металлической лентой имели воздушное охлаждение, они чаще стреляли короткими очередями. Я огляделся кругом, похвалил Парамошкина за исправный пулемёт и услышал нервный бой четвёртого пулемёта. Это бил пулемёт старшего лейтенанта. В чём дело? – подумал я. Почему он кудахчет как курица? По звуку было слышно, что часть патрон не доходили в патронник. Я крикнул ординарца. Голова его мгновенно показалась над землёй. Он легко, как перышко, вылетел из окопа и скатился кубарем в пулемётный окоп. – Слушаю вас, товарищ лейтенат! – Пошли связного, пусть узнает, почему не работал пулемёт? В чём там дело? У них земля в коробке с лентой. Ординарец перебежал в воронку и оттуда выбежал связной солдат. Я откинулся на заднюю стенку окопа и подумал: – В самые критичные минуты, когда всё висит на волоске, когда складывается исключительно тяжелая обстановка, рота всегда стояла железно. Мне самому давалось это не легко. Не так просто, не только одним усилием воли, но и затратой душевных внутренни сил. Но стоило преодолеть решительные моменты, немного расслабиться, как во всём теле появлялась какая-то неприятная дрожь. Дрожь, не дожь, а озноб точно. Вот и сейчас я почувствовал его. Длилось это состояние не долго, всего несколько коротких минут, а потом бесследно исчезало. Страх и опасность люди переживают по разному. Одних трясёт до, других – во время опасности, а у меня озноб бывает потом. Здесь на передовой я не знал людей, которые ничего не боялись. Опасность и близость смерти солдаты воспринимали все, но страх внешне проявлялся у всех по разному. Смерть нависала над всеми. На глазах погибали десятки и сотни людей. Одни тряслись, другие теряли разум, а я чаще становился злой. Некоторые не владели собой заранее предчувствуя опасность. Другие усилием воли заставляли смотреть своей судьбе прямо в глаза. Многие впадали в уныние и апатию. Одних трясучая болезнь била на глазах у всех, над ними смеялись, а другие умели скрывать своё мондраже. Пугало ещё и то, что появлялись безысходные мысли. Как держаться все другие? Не пора ли бежать назад? Если лейтенант вместе с ними и политрук сидит в щели, значит ничего опасного нет, страх и сомнения напрасны. Были среди солдат и отчаянные элементы. Но это было с ними не часто и не всегда, а иногда. Частенько эти храбрецы вздрагивали и пригибались, кланялись земле и даже падали в окопе плашмя. А все, кто потрусливей в это время стояли, смотрели на них сверху вниз и нахально улыбались. Но наступал решительный момент, когда самый сильный и свирепый обстрел заставлял всех вдавливаться в землю. Вон Парамошкин, стоит у пулемёта, шмыгает носом и деловито улыбается у всех на виду. А снаряды ревут, головы не оторвёшь от дна окопа. Он и в первый день обстрела, когда все тряслись и жались к земле, стоял на ногах и покуривал. Ему было всё нипочём. А неделю назад! Парамошкин вздрагивал от каждого редкого удара. Видно в сырость и дождь он не хотел умирать. Не хотел в грязной и липкой глине валяться. А здесь на высоте сухая земля, грело солнышко, дышать было трудно. Здесь он не думал о смерти. Он единственный не лёг и не спрятался на дно окопа. Он стоял привалившись к щиту пулемёта и пока неистовстовали немцы, наблюдал за полоской ржи и за лощиной. Но его об этом никто не просил. Сейчас он шутит и улыбается. Остальным при обстреле было не до смеха, Парамошкин был мастак на разные анекдотики и неприличные словечки. Теперь, когда под косогором лежало сотни полторы немецкой пехоты, он сыпал неумолкая, строчил как из пулемёта, строил всякие рожи и корчил физиомордии. Сегодня он был в ударе и навиду у всех. Политрук из своей щели не показывался. Связные из воронки высунули голову, а он стоял перед ними, целился пальцем в лежащих немцев и с натугой раскатисто портил воздух. – Кто кого заглушит! – пояснял он своему заряжающему и разинувшим рот связным солдатам. Солдаты смотрели, вздыхали и улыбались, А Парамошкин войдя в раж выворачивал словечки и сыпал прибаутки. Обычно, когда он надоедал, солдаты одёргивали его. – Ладно кончай трещать! И без тебя уши заложило! В голове гудит! Но сегодня во время обстрела Парамошкин превзошел себя. Он первый увидел поднявшихся немцев и обеспечил исправность пулемёта с запасом на всю стрельбу. Слова и шуточки летели у него как немецкие снаряды, залпами. Солдаты начинали уже вздрагивать всем телом, заливаясь раскатистым смехом. А Парамошкин только этого и ждал. Он был доволен, сиял как новый пятиалтынный, у него блестели глаза. Вот настоящая награда солдату за безстрашье и хладнокровье. Получить такое внимание после боя – одно удовольствие! Увидеть физиономии пулемётчиков с разинутыми ртами, вот высшая награда, что там медаль. Медали носили тыловики. Они к ним липли как мухи. А здесь без медали видели все его у пулемёта. Сам лейтенант, командир роты помахал ему рукой. Он давно ждал такого момента. Что там в болоте, на старом участке обороны, где под дождём сидели все как мокрые твари. Там ни к чему было геройство, там все от страха напускали в штаны. Здесь на высоте он показал себя во всей красоте, хотя не совершил ничего героического. Как человек он был добрый и уважительный. Как солдат он был старательный и бесстрашный. Политрука Сокова он называл политпомом, а свой пулемет – фельдфебелем – Ну что, Парамошкин! фелдфебель твой не подкачал! Фельдфебелем пулемёт он прозвал из-за одного случая. Было это в обороне около Белого. Парамошкин снял одиночным выстрелом бежавшего по дороге немецкого фельдфебеля. Их было двое. Офицер и фельдфебель. Они спрыгнули с подбитого самолёта. Офицер не дотянул до земли разбился – высота была мала, а фельдфебель достал земли и приземлился. Скинул парашют и кинулся бежать. Он пытался добраться до нейтральной полосы, чтобы удрать к своим. Тогда похлопал Парамошкин по кожуху своего пулемёта, припал к црицелу и одиночным выстрелом уложил бежавшего немца, пошли посмотреть, а немец оказался фельдфебелем Так и прозвал он свой пулемёт этим именем. А теперь перед ротой лежала целая сотня. И его работа была здесь. Парамошкин посматривал в прокосы ржи и если замечал малейшее движение одиночными выстрелами добивал его. Немцы пытались подобраться из лощины, чтобы забрать раненых. но плучив порцию свинца откатились назад. Артиллерия немцев молчала. Политрук Соков лежал в своей узкой щели. Во время обстрела его било и бросало вместе с землёй. Не один он терял сознание, когда тело сжималось в комок. Каждый солдат роты чувствовал что летит в бездну. Бывали моменты, когда исчезало и меркло пространство, когда земля и небо менялись местами. Склько нужно было иметь душевных сил, чтобы выдержать все эти страшные удары, нестерпимый рёв и нескончаемый грохот. Каждый короткий миг Соков прощался с жизнью. Не один раз покидала его надежда и он говорил себе – Всё! В любую секунду он мог исчезнуть не успев крикнуть слово-Мама! В такие мгновения никто не думает о других. Только бы пронесло! Только бы не меня! Соков не думал о солдатах. Есть они ещё? Или нет никого! Теперь, когда обстрел стих, когда взахлёб били пулемёты, Соков понял, что немцы пошли на высоту. Он поднялся, осторожно выглянул и посмотрел поверх земли и прикинул. Ему нужно было знать. Кто, кого? Он не стал проявлять особой прыти, как это сделал лейтенанант. Лейтенант молодой. Ему всё хочется и не силиться спокойно на одной месте. А он Соков как ни как на пять лет старше. Он в жизни никогда не рисковал и не понимал, когда это делали другие. Он больше думал, чем что либо делал. Он остался в своей ячейке и стал следить как обернёться атака немцев. Сам он никак не влиял на ход стрельбы. Стрелять должны солдаты, для этого они обучены и это их святое дело. А он, Соков стрелять не любил. Он как попал на фронт, то не разу не подходил к пулемёту. Вон Кувшинов, бывший командир роты, полез один раз и схлопотал себе пулю в висок. Нет, его к пулемёту и под наганом не заставишь пойти. Одно то, что он находился в роте было вполне достаточно. Он политрук в душе с этим не был согласен. Он на этот счёт имел своё совершенно противоположное мнение. Могли же они с лейтнеантом, расположив пулемёты на высоте, уйти куда-нибудь в лес и там пережидать обстрелы. Там в надёжном укрытии, под тремя накатами толстых брёвен легче было дышать.Всё же потолок над головой! Для чего он политрук торчит здесь, как пушечное мясо. Это дело солдат. Сидеть в открытой ячейке под таким обстрелом и когда у тебя на голове одна только каска, было невыносимо. Все умные люди окопались в лесу. Сидят в блиндажах, ждут ночной передышки. Ночью в трашею протянут связь и можно спросить,как дела на высоте и сколько убитых. Не обязательно самому бегать на высоту. Если не терпиться – возьми и сбегай! Но меня не трожь. Пулемётчики на месте! А это самое главное! А где политрук и ротный сидят -никому до этого дела нет! И никого не касается! Ротные политруки и офицеры батальона,все сидят в лесу и никто их за это не преследует! А мы всетаки – полковые! Рота подчинена полку! Его попытка завести разговор высказать своё мнение лейтенанту сразу потерпела неудачу. Лейтенант не дослушал до конца и сразу пресёкх обдуманный и намеченный им разговор. – После каждого обстрела я буду бегать на высоту, а вы с мордастым старшим лейтенантом опять наладите к бабам шпоры точить? – Мне важно, чтобы солдаты видели своими глазами,что командир и политрук роты сидят на высоте и вместе с солдатами жизнью рискуют. – Раз мы вместе с ними, то значит дело важное! Нужно высоту держать! -У солдата уверенность появляется когда он верит в себя! – А кто в себя не верит – тот богу молиться! – Кто нас толкает туда? – Мёртвые нас живых посылают на смерть туда! Соков сидел в цепи и оглядывался по сторонам. Лейтенант его ни о чём не просил и совсем НЕ беспокоил. "Важно что ты сидишь в щели! " – сказал он, – " Больше мне от тебя ничего не надо!" Полтрук знал, что в лес ему не уйти. Самовольный уход мог повлечь неприятности. Лейтенант ему этого не простит. Лейтенант не стеснялся и говорил ему в глаза. – Bсe собратья твои, дорогой Петя, отъявленна шкуры. – А ты хоть и положительный человек, но тоже в любой момент норовишь убежать из роты. – Вот, посидишь на высоте, понюхаешь трупный запах, потом можешь рассказывать пионерам, что ты воевал. – Надо знать, как достаёться нашии солдатам! -Сиди в щели! Не переживай и не бойся! Снаряд в щель не попадёт! Тебя не убьёт! Это я тебе гарантирую! Потом хоть будет что вспомнить про войну! А к чему эти слова? Пошел бы сейчас в политодел, зашел к ротному старшине, поговорил о том,о сём и к вечеру вернулся! Лейтенант неправильно понимает роль политрука в роте. Он с жаром всегда доказывает, что политрук должен быть всегда с солдатами. Не только на кухне, как он выражается, но и в окопах. – Никому не секрет! – кипятиться лейтенант, – Что солдат в минуту опасности разворачивает тряпицу или вынимает из-за пазухи всякие крестики и разные иконки. Вот тебе и твёрдый дух и стойкость в бою! Ты политрук должен служить примером безбожия и безстрашия! А я, извеки, не видел ни одного из вас, который не прятался километров за пять во время боя. У вас появляется прыть только около кухни! Офицеры в ротах, батальонах и полках должны прикасаться к пище после солдат, из того же солдатского котла и получать хлёбово тоже не до сыта. А твои друзья в силу человеческой слабости набивают себе желудок сполна. Возникает вопрос, кто должен служить примером честности. Мне важно, чтобы и ты сидел в роте. Пусть видят все, что война не только удел солдат и Ваньки ротного. Сиди и ничего не делай. Я сам со свем управлюсь и сделаю. Обстановка требует, чтобы вся рота приготовилась к смерти! Но и после этих слов политрук не был согласен с лейтнеантом. Вон политруки стрелковых рот всю войну отсиживаются в тылах полка и никто их за это не гоняет. Пришлют в роту молоденького лейтенанта, тот ни войны, ни порядков, ни жизни не знает. Где уж ш там ему за политруком смотреть. Увёл этот лейтенант свою роту на высоту, а политрук его сидит спокойно около кухни. И сейчас на высоте их трое. Но кто это оценит? Ценность имеет сама жизнь, а не похвала начальства посмертно. Соков хорошо разбирался в стержневых и главных вопросах. Ему как нигде пришлось пережить страшные муки. Вероятность прямого попадания, как утверждает лейтенант, чрезвычайно мала. Но какое это имеет значение, когда всё гудит кругом и грохочет. Он Соков этому не верит. Соков видел траншею забитую мёртвыми.Два батальона и одни трупы! А как спастись от шрапнели в открытом окопе? Рванёт бризантный снаряд и пойдут ооколки вниз до дна окопа веером. Соков боялся, что немцы после отбитой атаки теперь ударят ближе, по самому краю ржи. И он решил пока ещё не поздно пербежать куда-нибудь в укрытие, чтоб голова не торчала снаружи. Нужно найти укрытие над головой Он вспомнил о подбитом танке, который стоял у разбитого сарая. Под днищем танка будет вполне безопасно. Почему он раньше об этом не подумал? Под брюхом танка никакая шрапнель не возьмёт. От боковых осколков можно укрыться за колёсами и гусеницами. Решение созрело сразу. Он решил немедленно перебежать туда. Лейтенант торчит в окопе у пулемёта, это его личное дело. Стрелять из пулемёта должен наводчик, а не командир пулемётной роты. Политрук Соков решительно поднялся, вылез на поверхность земли, поправил свою каску, выбрал наиболее короткое направление и пригнувшись побежал к танку. Пробегая мимо лейтенанта, он буркнул ка ходу: – Я под танком буду! – Не советую! – ответил я. Но политрук торопился и не стал ждать доказательств. Он махнул рукой и побежал дальше. -Ну и дурак!-сказал я ему в догонку. – Первый снаряд будет его! Я не стал останавливать Сокова окриком. Я знал этого человека насквозь. Он был глуп и упрям. Если он выбрал путь, то его не свернёшь с дороги. Его может выгнать оттуда только ненецкий снаряд. Ладно! – подумал я. При первой же опасности прибежит обратно! Наверно лежал и целый день об этой думал, только боялся голову поднять. Пусть испытает сам. Залез же он в первый день к стрелкам в траншею. Или однажды, когда я поддался его упрямству и чуть не сгорел под стогом льна. Пусть бежит! Он и тогда искал укрытия над головой. Щель это вещь! Она в самых безвыходных и тяжёлых ситуациях спасала не раз людям жизнь. Блиндажи в четыре наката разваливались, а солдату в щели хоть бы хны! Но вот немцы снова начали обстрел. Они пустили сначала один снаряд, как бы нас предупреждая, потом ещё три. Я показал Парамошкину на разрывы и улыбаясь сказал: -Особенно не высовывайся! Зашевеляться фрицы! Не торопись! Стреляй помалу! Точнее целься! Рожу не высовывай! -Слышал мой приказ! Грубые слова Парамошкину были по сердцу. Он не любил вежливого и учтивого обхождения. Он считал так, если ему говорили – Вы, то значит он где-то проштрафился или сделал промашку. Он не любил мягких и культурных слов. Я выпрнгнул из пулемётного окопа и перебежал в свою щель. Во время обстрела лучше рассредоточиться. Ординарец увидев, что я вернулся к себе, занял свободную щель, где до этого сидел политрук Соков. Вскоре посышался резкий нарастающий гул немецких снарядов. Немцы нанесли несколько массированных ударов по высоте. С каждой секундой нарастало напряжение и удары. Но немцы не тронули края окошенного поля, они не догадались что пулемёты стоят здесь впритык. Последнип залп загрохотал особенно остервенело и громко. Потом всё притихло. Немцы видно побоялись нашей атаки и ударили по высоте. Мы сидели настороже, ожидая, что пойдут они. В общем друг друга боялись. Немцы больше не стреляли. В воронку вернулся связной. Он мне сообщил, что пулемёт исправили Политрука Сокова ранило в ногу. Он лежал под танком и ждал конца обстрела. Ныла нога, шла темная кровь. Политрук осторожно выполз из-под танка и подал свой голос. Он крикнул несколько раз, его никто не услышал. Тогда он закричал ецё громче. Я сразу понял, кто таь кричит. Но не узнахл голоса политрука. Я велел ординарцу взять с собой плащнакидку и трёх солдат – Беги к танку! Там политрук орёт! Положите его и за четыре угла подымите на руки. И бегом сюда! Вскоре они принесли Петра Иваныча. Он лежал на палатке бледный, держа ногу на весу. – Наложите жгут! И сильно не затягивайте! Пусть помаленьку сочиться кровь! Это полезней, чем перетянуть ему ногу сразу. Сделайте перевязку! – Все четверо бегом в санроту! Через час вы должны быть там! Солдаты взялись за углы полатки и политрук, покачиваясь, поплыл над землёй. С передовой ещё никого вот так по графски не отправляли раненым в сачасть. Я подошел к воронке и спросил связного, что там было с пулемётом? – Земля в коробку с патронами попала. Заклинивало ствол. – А что там с людьми? – С людьми всё впорядке! – А мне передали, что у вас там несколько раненых? – Командир взвода ничего не сказал. Я посмотрел на связного, присел на край окопа и подумал, если командир взвода молчит, то от него ничего не добьёшься. Надо самому идти во взвод. И тронув его за плечо, направился к четвертому пулемёту. Цулемёт старшего лейтенанта стоял на отшибе. Немцы на этом участке в атаку не пошли. Когда мы с солдатом добежали до взвода, старший лейтенант сидел на краю окопа и курил. Он пристёгивал к поясному ремню снятую с головы после обстрела каску. На голове у него была надета фуражка! Это типичная привычка артиллеристов. У них так обычно на поясном ремне таскали стальные каски. У пулемёта ковырялся Балашов. Помкомвзвод Балашов, увидев меня, забеспокоился, виновато опустил голову. Я не стал донимать его вопросами почему но стрелял пулемёт. Это я и сам могу установить, проверив ленту и ствол. Меня удивило другое. Почему в пулемётном окопе их двое. Где наводчик и весь пулемётный расчёт? Окоп был совершенно цел. Прямого попадания не видно -Где остальные, Балашов? -Где пулемётный расчёт? Я тебя кажись опрашиваю! Балашов посмотрел на старшего лейтенанта, потом в сторону ржаного поля, подумал и что-то приглушённый голосом сказал! – Старший лейтенант послал их под бугор за трофеями. Велел с убитых собврать. – Не вернулись они! – Зa. какими трофеями? – С убитых немцев, товарищ лейтенант! Я сразу вспомнил как тщательно целился Парамошкин, когда замечал шевеление во ржи. Он целился думая что ето немцы, а там ползали наш солдаты. А Паракошкин бил их намётанным глазом. – Быстро назад! Что духу есть! Передай Парамошкину прекратить всякий огонь! Потом оббежишь все пулемёты и передай мой приказ не стрелять! Связной метнулся из окопа и побежал вдоль передовой. – А теперь с тобой! -Я хотел достать трофей, чтобы расплатиться с военфельдшером. Он обещал достать лекарства. Сказанное старшим лейтенантом я пропустил мимо ушей. – Ну Балашов! Ты подвёл всю роту! -Я тоже виноват, что оставил этого прохвоста здесь без присмотра. -Ухарь-купец! За какие-то вшивые немецкие часы отправил на тот свет троих пулемётчиков! – Сам не полез! – Послал умирать солдат! У них среди тылового оброда все так делают! -Они солдат за людей не считают! – Извини лейтенант! Я понял свою ошибку! Разреши я сам вытащу раненых?! – Как интересно ты будешь смотреть в глаза всей роте? – Картуз сними! Каску надень! Иди! А я посмотри как ты с этим справишься. Тут посижу, подожду пока ты вернёшься! -А ты Балашов кончай ковыряться в пулемёте. Займись полной разборкой, даю тебе разрешение! Мы с тобой потом поговорим! Старший лейтенант снял с головы свой картуз, отстегнул от поясного ремня новенькую каску, надвинул её поглубже и полез вперёд. Больше я его не видел. Его могли подстрелить немцы. Или видя своё безвыходное положение он сам сдался им. Он видно не знал, что немцы пленных с плохой болезней расстреливали на месте. Мы знали это от немецких пленных. Я просидел в окопе до самой ночи. Трое раненых солдат выползли назад самостоятельно. Старшего лейтенанта они не видели. Мы его списали как пропавшего без вести. Политрук Соков благополучно добрался до медсанбата. Потом,как я узнал, его отправили в эвакогоспиталь в город Торжок. Из Торжка его эвакуировали в Иваново и потеряв ногу на фронт он больше не вернулся. Жил он в Москве на Магистральной улице, а в последнее время переехал в Строгино. Пулемётная рота держала под обстрелом все косогоры и низины бугра. Днем пулеметчики стреляли одиночными, чтобы не выявлять себя. А к вечеру они усталые назначали часовых и ложились спать. Немцы воспользовались ночным затишьем стали выволакивать трупы и раненых. Пусть заберут тех и других. В такую жару и без вони трупов дышать нечем. С одной стороны из траншеи шел трупный дух, а тут под самым носом пустили вонь откормленные немцы. Итак солдат мутит и рвёт. Смердящий дух полз со всех сторон, если было безветренно. Я приказал пулемётчикам ночью не стрелять. По пламени вспышек немцы могут засечь где мы сидим. Для стрельбы ночью нужно иметь запасные позиции. Пулемётчики сами понимали, что вести огонь просто так ни к чему. На каждую пулемётную очередь немцы отвечали орудийной стрельбой, В эту ночь до самого"морген фрю" немцы сидели молча. С того дня на высоте воцарило спокойствие, "Морген фрю" по высоте немцы пускали один снаряд и за ним три другие и до рассвета больше не стреляли. «Морген Фрю!" Господа фрицы! Вы опять жрёте? – кричали пулемётчики в сторону низины прикрыв ладонями рупором рот. Солдаты пулемётчики знали некоторые слова по-немецки. Трупный запах подобрался к пулемётным ячейкам. Отвратительно противный запах и вонь заполнили все низины, воронки и окопы. Особенно сильным он был, когда стихал ночью ветер, когда воздух стоял неподвижным. Он полз по земле и стелился низом. Он в душу вселял какой-то ужас, забирался в голодное нутро, выворачивал кишки и мутил сознание. Одно дело говорить,а другое тянуть его носом и хватать ртом. Так продолжалось несколько дней. Ночью на высооту проложили телефонный цровод, принесли кормёжку, подобрали раненых. Теперь над высотой пули посвистывали. В эту ночь пополнения на высоту не дали. Телефонист связался с полком и меня вызвали на провод. У телефона был сам командир полка. – Тебе нужно собрать всех стрелков и взять их под своё начало! – Собери остатки стрелковых рот, назначь старших, определи им участки обороны и поставь боевую задачу! – И смотри, чтоб никто не сбежал с высоты! Пополнения больше небудет! – Хорошо! – сказал я. Но прежде вы мне пришлёте письменный приказ о назначении меня командиром батальона. В приказе укажите, что Кождан от должности отстранён. Отстранение и назначение согласуете, как положено, с дивизией. – Ты что спятил? Какой тебе ещё приказ, раз я говорю тебе собрать стрелков. Какой тебе ещё письменный приказ, когда ты и так отвечаешь за свой участок обороны. -За участок пулемётной роты! – уточнил я. А за стрелков, которые в лес бегут, я не отвечаю. Без письменного приказа стрелков на высоте собирать не буду. – Какой тебе ещё приказ? – Без приказа я им никто. И потом вы забыли? Как бой, давай лейтенант собирай и отвечай за стрелков. Ты вроде комбат. Ты за всех отвечаешь. А как отвели во второй эшелон, так ты не комбат, на это место назначен Кождан. У вас там в лесу сидят два комбата. Они наверно завшивили от безделия! – Кончай демагогию! – закричал командир полка. – Хорошо я молчу. Говорите вы. Только собирать остатки двух батальонов я не буду. Вы не даёте мне слова сказать. – Ну говори! Ещё в чём дело? – Дело в том, что все политруки стрелковых рот прячуться в лесу с начала наступления. Ни комбаты, ни они, ни разу здесь не были. Бросили солдат и что они сейчас там делает никто толком не знает. – Я не собираюсь за других пахать! За здорово живёшь отвечать за пехоту. Будет письменный приказ – я их командир, я всех загоню в переднюю траншею! Убегут стрелки с высоты – пусть бегут! Я их стрелять не буду! Командир полка не спросил об атаке немцев. Сам я не стал соваться с докладом. Он не захотел продолжать разговор, я тоже промолчал. Меня теперь нахрапом и на испуг не возьмёшь! Прошли первые месяцы войны, когда мной вертели как хотели. Убежит какой стрелок с высоты. Поймают его как дезертира. Меня за это под суд отдадут. Почему не намылить рыло Ваньке ротному. Командир полка был недоволен. Он кинул трубку в руки телефонисту и спросил начальника штаба,который сидел у стола напротив его. – А там кто нибудь есть живой кроме этого лейтенанта? – Кроме него, нет никого! – Вот сволочь! В живых один остался! – А что он говорит? – Требует письменного приказа о назначении комбатом. Этот разговор мне потом передали офицеры штаба. Фраза брошенная командиром полка-"Вот сволочь один остался!"-облетела все службы и тыловые подразделения полка. Улыбались офицеры, ординарцы и писаря – "Вот сволочь,один в живых остался!" После этого телефонного звонка командир полка устроил облаву по всем землянкам в лесу и за лесом. По его приказу обшарили все тыловые подразделения и кухни. Из леса выволокли двух комбатов, батальонных офицеров и политруков стрелковых рот. Собранные топтались возле полкового блиндажа, ожидая грозного решения. Комбатов и их помов отправили в дивизию. Куда девались они потом, осталось неизвестно. Четырём политрукам приказали идти на высоту. Их предупредили на счёт трибунала Остатки стрелков ночью окапались ближе к пулемётчикам. Связной из полка довёл политруков до траншеи и вернулся обратно. Политрукам приказали неотлучно сидеть в окопах вместе с солдатами. Они разыскали остатки рот, поговорили с солдатами и узнали, что совсем не далёко сидят пулемётчики и у них есть землянка. Меня в это время не было на месте, я ходил по роте и проверял пулемёты. На месте воронки мы построили землянку. Теперь она была готова и в ней отдыхали свободные от дежурства смены, землянка была небольшой, но достаточно глубокой. Поверх трёх накатов из брёвен была насыпана земля и укрыта ржаной соломой. Возвращаясь от дежурных расчетов, я подошел к ротной землянке и увидел странную картину. Растерянный часовой и отдыхавшие в землянке солдаты сидели снаружи у входа. Что за чертовщина! – подумал я. Почему солдаты вылезли наверх и не отдыхают? -Вы чего торчите в проходе? – спросил я их. – Солдаты молчали. Взглянув вниз в проход я заметил,что в землянке находились какие-то люди. Оттуда из входа доносились незнакомые голоса. Оказалось, что офицеры, которых выдворили из леса, без особых усилий выставили наружу моих солдат. Я покачал головой. Мне стало даже жарко. Я услышел снизу, из-за висевшей плащпалатки на входе знакомый голос. Это был Савенков. Меня передёрнуло от предстоящей встречи. -Кто там? – Командир роты пришел? – Заходи! Выставив пулемётчиков из землянки наверх, они теперь приглашали меня спуститься к ним, Я спрыгнул в ход сообщения, перешагнул ступеньку, по которым выходя из землянки подымался спокойно, и отдёрнул занавеску висевшую над дверью. В глубине землянки, при свете мигающей коптилки на нарах сидели чужие люди. Твердый ком подкатился к горлу. Солдаты сверху смотрели на меня. Что-то теперь будет? Это подхлеснуло меня. Я повернулся назад и закричал на часового. – По какому праву ты допустил в землянка посторонних людей? Солдат стоял и моргал глазами. Потом он набрал воздуха во внутрь и нерешительно проговорил: – Они сами! Я не мог ничего! Они офицеры! – Какое мне дело до офицеров, которые болтались где-то в лесу! – Если они из стрелковых рот, то пусть идут к своим солдатам! – Ты лейтенант чего шумишь? – У меня фамилия такая! – Спускайся сюда, здесь и поговорим! В землянке мерцал огонёк коптилки. В мигающем свете были видны желтые, вытянутые лица непрошенных гостей. – По приказу вам следует сидеть со своими солдатами! Здесь место для пулемётчиков. Прямо из леса и под накаты! Не жирно ли будет? – Ладно лейтнант не горячись! Все поместимся здесь! Один из прибывших постарше годами махнул рукой /Что мол с ним разговаривать! /, сказал: – Каждый мальчишка будет на нас кричать! Мы отсюда никуда не пойдём! Он посмотрел на меня и добавил: – Ну что? Я отдышался. Вздохнул глубоко, немного помолчал и успокоился. Злость моя постепенно прошла и я спокойно ровным и твёрдым голосом сказал: – Я могу приказать поставить сверху на землянку пулемёт и дать из него очередь трассирующих.Завтра утром артиллерия немцев разворотит землянку так, что от вас мокрого пятна здесь не останется! Но я этого делать не буду. Это нечеловечно! – Вчера мне звонил командир полка.Требовал, чтобы я принял на высоте всех стрелков под своё начало. Я отказался. Если я дам ему согласие, то каждый из вас пойдёт в траншею и будет там с трупами сидеть! – Ну что? – сказал я, передразнив пожилого. – Ладно уйдём! – сказал кто-то. -Сидите! Сидите! Я ещё не кончил! -Кой кто из ваших солдат утром уходят в лес и днём там отсиживаются. – Ладно мы пошли! -Сидите! А на счёт вас, я вам так скажу! Если я приму стрелков, я буду вынужден официально подать рапорт на проведение расследования, почему вы до сих пор отсиживались в лесу. Мягко выражаясь, вы прятали свои шкуры. И ясно, что рапорту будет дан официальный ход. И будьте уверены под трибунал вы все попадёте. – Вы люди взрослые, как вон тот сказал, постарше меня. Вы всё понимаете. – И поэтому идите отсюда по тихому по хорошему. Топайте отсюда! – и я отдёрнул занавеску. Я пропустил их мимо себя. Они заторопились, на лицах у них было недоумение и страх. Страх – куда деваться. Они поднялись по ступенькам и исчезли в ночной темноте. Но лесная братия как я узнал позже, к солдатам не пошла. Они залезли под танк. Этого разговора они мне не простят. С командиром полка вышло не так, он недоволен и эти обозлились. Дураки! Вроде моего Пети -подумал я. В окопы к солдатам не пошли, а в новых окопах, как знать, самое безопасное место. Утром по танку ударили снаряды и там появились раненые. Савенкова ранило в руку. Я видел его, как он радостный покидал высоту. Прошло два три дня, стороны заметно устали. Страсти улеглись. В атаку никто не собирался. Пусть солдаты покапаются в земле. Пусть осмыслят и поймут пережитое. Пусть успокоятся и скажут себе – Вот мы остались живы! Жизнь солдатская короткая, как детская распашонка! На высоте, где когда-то стояла деревня Пушкари, наступило затишье. Немцы присмирели. По ночам светили ракетами, из артиллерии почти не стреляли. Иногда они пускали один, два снаряда, как прежде. Из пулемётов тоже постреливали с умыслом. Иногда дадут очередь трассирующих в нашу сторону, но пустят её метра на два выше нашей головы. Смотрите, мол, мы вас не торгаем! Славяне всё понимали, им разжовывать не стоило. Они тоже пускали поверху в ответ. Пусть начальство смотрит, что мы, мол, воюем! Та и другая сторона приступили к земляным работам. Немцы рыли хода сообщения. По утрам мы видели свежие выбросы земли с их стороны. Днем тоже кое-где мелькали лопаты. Траншею с трупами наши стрелки засыпали землёй. Убитые, как сидели, так и остались в сидячем положении. Никто не рыл для них братской могилы. Славяне делали всё без лишних затрат своих сил. А какие силы у солдата? Существует впроголодь, воюет не на стах,а на смерть. Тут ни физических, ни духовных сил никаких не осталось. Да ещё рой окопы и хода сообщения. У мёртвых всё было закончено. У живых остались свои заботы. Стрелков на высоте осталось немного. Вскоре на высоту стрелкам дали командира роты и вместе с ним явился новый командир батальона. Это был старший лейтенант Карпов, я знал его раньше, он с батальоном оставался на участке где мы сидели под дождём. Он собрал солдат, наметил участки обороны и приказал рыть хода сообщения и строить землянки. От разбитого сарая не осталось ничего. Брёвна быстро растаскали. Сапёры полка, сидевшие в лесу, получили приказ вязать рогатки проволочного заграждения. Днём, в лесу они рубили колья, связывали их в крестовины, ставили между рогатин четырёхметровые слеги и обвя-зываликолючей проволокой. Готовые рогатины подносили к высоте и оставляли внизу. Однажды ночью, когда все рогатины были готовы, их подняли на высоту и поставили перед окопами стрелков. Правый фланг был закрыт от немцев проволочным заграждением. Полковые саперы все сделали тихо. Это была скрытая ночная операция. Немец мог в любую минуту бросить ракету в небо и обнаружить у себя под носом людей и открыл бы стрельбу. Местность была изрыта воронками. При внезапном обстреле можно было укрыться в любую из них. Но сапёрам казалось, что их послали на верную смерть. Это их второй выход на передовую. Первый раз они в городе Белом копали подкоп под больницу. А теперь второй был здесь в Пушкарях. Да и что было бояться? Передовая для них была непостижима. У них одна мысль -поскорей убраться в лес. Сапёры торопились и нервничали. Руки у них тряслись. Колючая проволока цеплялась за одежду. Рогатки несли на себе. Под ногами земля не ровная, того и гляди нога подвернётся. Но в ночной темноте их немцы не. заметили. Немцы стреляли поверху, на всякий случай, чтобы не заснуть. Не то что у нас! У них был заведён порядок – часовой извещал выстрелом, что он не спит на посту. Сапёры, работавшие в темноте, падали на землю при таких случайных выстрелах. Они подолгу лежали, думая, что их засекли. Мы говорили им, – Не бойтесь! Пули будут идти высоко над головой! Если немцы кого ранят из вас,мы им врежим из пулемётов. Но сапёры не слушали, они этому просто не верили. Они лежали уткнувшись на земле, им шло время и стрельба не возобновлялась. Сапёры боязливо вставали, всматривались в темноту и продолжали работы. Наутро немцы увидели новенькое проволочное заграждение у наших., – Фрицы небось ахнули! – поговаривали солдаты между собой. Ещё бы! Свеженькие рогаточки обтянутые проволочкой! Немецкие офицеры небось от зависти напустили в штаны! Рассвирипели увидев проволокут Куда смотрели их вояки? Прозевали! Проспали фрицы! Сидят как дураки! Иван за одну ночь колючий забор поставил! Вот тебе вшивый фриц и руссише швайне! Русский солдат за одну ночь может обделать и не такие делишки. Но новизна быстро прошла, солдатское ликование утихло. К рогаткам привыкли. На них перестали смотреть. Рогатки сделали своё черное дело. Часовые на постах, полагаясь на колючую проволоку, совсем разомлели. У них ослабло зрение, притупился слух, они присаживались поудобнее и вскоре засыпали до утра. Кому охота торчать в окопе, таращить глаза пока от немецких ракет в глазах не запрыгают огненные черти. Сел, притулился в окопе, закрыл глаза, чтобы ползучая световая ракета не лезла в глаза и слушай когда начнёться стрельба или выйдет перестрелка, за проволкой можно сидеть и не пялить глаза на немцев. А стрельба с появлением проволоки совсем прекратилась. В последние дни немцы и ракеты перестали бросать. С наступление темноты бросит пару и до утра успокоиться. Ему тоже надоело смотреть на мигающий огонь. Так было и в эту темную ночь. С вечера для порядка немец посветил нейтральную полосу и притих, как обычно. Солдаты поскребли затылки, погоняли надоедливых вшей и поворочавшись немного заклевали касками. Ночь была тёмная и безлунная, С вечера небо затянуло чёрными туча- Сначало покрапал маленько дождь, а потом над высотой простёрлась какая-то мрачная тишина. До утра всё было без тревог, без задиринки. Ни одного выстрела до самого утра. Часовые сидели в передних стрелковых ячейках, поджав ноги под себя и привалившись к шершавой стенке окопа. Они нехотя изредка поднимали тяжелые веки, смотрели снизу на верхний край, окопа и на кусок черного неба. По цвету облаков, а их пока ещё не было видно, нужно было определить когда приблизитья рассвет. Но главное было не в рассвете, главное нужно было, определить, когда придёт старшина.В животе давно ныло, иногда как ножом скребло. Перевалившись на другой бок и найдя удобную опору,ч асовые закрывали глаза и погружались в забытьё, в ожидании черпака баланды, куска хлеба и щепоти махорки. Кому охота пялить глаза в такую кромешную тьму. Целую неделю копали землю при скудной еде. Тут не только спать, тут ноги протянешь! Да ещё на посту стоять! Куда только начальство смотрит! Если с вечера сразу не заснул, тут в голову разные мысли лезут! Хорошо когда заступил на пост, присел и тут же заснул. Проснулся а тут старшина с кормёжкой явился! А то сидишь и возвращаешься мысленно к мирной жизни, осознаешь что осталось тебе жить всего ничего, плюнешь на всё, глаза сами закрываются. Доживёшь до утра, услышишь котелки загремели, считай что жив опять! Вон, говорят, вчера миной во сне одного убило! А во сне мирная жизнь становиться ещё ярче н милей. Запахнет вдруг тёплым ржаным хлебом, захрустит на зубах крепкий, своего просола огурец, а от домашних кислых щей такой запах пойдеть, такой полыхнёт аромат, что проглотишь слюну и губами прочмок-нешь! Навалился на щи, налупился их до отвалу и повалился на боковую. После такой еды сняться тебе всякие неземные сны. А тут торчишь в зеляной дыре и не знаешь жив завтра будешь? Когда небо чуть затянуло серой дымкой рассвета, когда можно взглянуть на приличное расстояние перед собой, часовой встал на ноги, выглянул поверх земли и ахнул. Рогаток с проволокой перед окопами не было. За одну ночь их как будто языком слизнуло. Вот те и щи со свининой! Солдат побежал к командиру роты. Ротный выслушил его и не поверил. – Как это так? Рогаток нет? Командир роты выскочил из землянки и посмотрел за бруствер. Рогаток на месте не было. Они действительно исчезли. Тут не было никаких сомнений. Хотя не хотелось верить и всё это казалось похожим на сон. Как рогатки с колючей проволокой могли пропасть? Их было десяток и они были связаны между собой. Может их сапёры ночью сняли? Солдаты показали в сторону немцев. Рогатки с проволокой в двадцати метрах стояли от них. Командир стрелковой роты выглянул туда, они во всей своей красоте стояли перед немецкими окопами. Немцы ночью подползли, привязали к рогаткам канаты и при помощи лебёдок их уволокли к себе. В первый момент командир роты растерялся, хотел что-то сказать и не мог. Всё утро потом он ходил по ходам сообщения и окопам, но не ругался и не кричал на своих солдат. Бросаться на них было поздно и бесполезно. Что они могли поделать если бы и увидели как уползают рогатки. Стреляй, не стреляй – потеренного не вернёшь! Немцы сделали подлое дело и теперь ликовали, посматривая на славян. Кому-то из них пришла в голову подлая идея. О том, что немцы уволокли ночью проволочное заграждение в полку узнали позже. Пока ротный торчал в окопе высматривал и обдумывал как ему быть, солдаты раззвонили по всей роте. Вся рота вылезла посмотреть, У телефонистов сперло дыхание, они передали эту новость своим тыловым дружкам. Так что новость, да ещё такая, облетела мгновенно весь полк. Через некотрое время на высоту прибежал комбат. К вечеру, когда новость, как змея,доползла до дивизии, разразился настоящий скандал. Кто-то прибавил от себя, что ночью из роты перебежало к немцам несколько солдат. После этого в дивизии взбеленились. Комбат лично пересчитал по пальцам всех солдат. Солдаты оказались на месте. Первая грязная версия отвалилась. – А что на счёт рогаток? – Этот факт подтвердился! Из дивизии последовал грозный приказ: – Любой ценой вернусь рогатки на место! Стрелковой роте дали команду в окопах ставить столбы. Коловорот в виде горизонтального бревна с креставинами упрёться в вертикальные брёвна. Рогатки можно будет подцепить и наматывая верёвки утащить обратно. Но немцы были не дураки. Они связали рогатки стальными тросами и тросы завели в окопы и закрепили их. А чтобы к проволочному заграждению не подошли, перед ним поставили мины. Рогатая операция провалилась. Один солдат при подходе к проволоке подорвался, остальные повернули рбратно. А вобщем это происшествие всколыхнуло всю дивизию. Сначала ругались и грозились, потом стали шутить и посмеиваться. Настроение передалось с передовой. Сначала стали смеяться солдаты, потом захихикали в полку, начальство снисходительно стало посмеиваться в дивизии улыбались и качали головами. Народ оживился сбросил дремоту. И только одному человеку было не до смеха,-командиру стрелковой роты. Когда его вызывали в батальон, все радостно улыбались, потом начинали смеяться, некоторые особенно смешливые держались за животы. – Это он? – спрашивали они друг друга. – Это тот самый? Им было смешно, а ему от этого смеха хоть в петлю лезь. – Анекдот! Это у него немцы проволоку уволокли? Зесёлый смех и ехидные словечки сыпались отовсюду где б он не проходил. Потом улыбки и смешки перебрались в полк и дивизию. Из полка. кто был посмелей и пока немец не стрелял, бегали в роту посмотреть где стояли рогатки и где они теперь. Такого за всю войну не увидишь! Бегали потому что на высоте стояла гробовая тишина. Некотрые, которые всё же побаивались звонили по телефону и давали советы как быть. – Слушай лейтенант! Их нужно облить бензином и поджечь! Пусть сгорят! Никому, так никому! Лейтенант всех терпеливо слушал, никому не перечил, но уловив в телефонных звонках забаву и потеху, перестал подходить к телефону и отвечать на вопросы. Немцы ликовали во всю! Первое время по ночам они усиленно освещали передний край ракетами. Но видя, что русские с потерей рогаток смерились, тоже успокоились и перестали светить. Улеглись страсти, утихла брань, прекратился смех на передке и в полку забыли про проволоку и в дивизии. Время лучший фактор. Оно своё дело сделало. Солдаты на передовой разошлись по своим окопам, разбрелись по землянкам, незаметно стали впадать в тихую и размерную жизнь. Делать вроде было нечего, суетиться незачем, охранять колючие рогатки не надо. Посмеялись, погудели, помахали кулаками в сторону немцев и от сердца отлегло. Командир роты прославился на всю дивизию. И потом спустя время, когда его вызывали к телефону он готов был покорно выносить всё, любые замечания, разносы и втыки, только бы не вспоминали злополучные рогатки. А виноваты были во всём сапёры. Они не закрепили рогатки на месте, не заминировали подходы к ним. Вчера один из зевак солдат высунул свою фивиономию поверх окопа и ему пулей задело ухо. Комбат прочитал по этому поводу командиру роты мораль, почему он не бережёт своих солдат. – На передовой сейчас каждый человек дорог! Я из-за тебя в полку схлопотал выговор! Не знаю! Понимаешь ты это? Лейтенант ничего не ответил. Да! Времена изменились! Поутихла стрельба! С командира роты стали спрашивать за любые потери. У одного из солдат расстроился желудок. По телефону кто-то из штабных закричал: – Что они у вас там жрут? Опять дристуны появились в санчасти! Ротный молчал, слушал и думал, – Кормите получше они и не будут жевать перепрелую ржь. Командир стрелковой роты частенько заходил ко мне поговорить о делах, рассказать о своих неудачах, жаловался на своё житьё. Я понимал его. Я тоже начинал войну как и он в одиночку. Мне тоже было трудно и многое не понятно. – Не убьёт через полгода! Всё само встанет на свои места! А сейчас не отчаивайся! Меня тоже ничему не учили, а орать и грозить было кому. Солдаты не только жевали проросшую рожь, они засыпали в траншеи убитых и вытряхивалииз их мешков всякую всячину, что пахло съестным. Разве за ними усмотришь? Случилось в Пушкарях и ещё одно происшествие. Намотали немцы на железку большой моток провода и забросили его ночью к окопам стрелков. От клубка отходила изолированная жила телефонного провода. Она тянулась вдоль линии окоп,а затем уходила в нейтральную полосу и далее к немцам. Все думали, что этот моток и провод остался как обрывок старой немецкой линии связи. Многие ходили мимо, видели его и не обращали внимания. Однажды при повреждении нашей линии связи, телефонисту понадобился кусок телефонного провода для надставки. Он вылез из окопа на поверхность земли и потянул на себя немецкий провод. Провод не поддался. Тогда он решил проверить, наша ли это связь и куда она идёт. И каково же его было удивление, когда в телефонную трубку он услышал немецкую речь. Когда же немцы оставили здесь свою связь? Солдаты дежурившие рядом в окопе. тут же усекли что к чему. Один попридержал телефониста, другой быстро сбегал в землянку, принёс катушку телефонного провода, нарастил немецкую связь и подтянул с катушки провод в окоп. Солдаты включили аппарат и тут же образовали живую очередь. Переговорный пункт заработал. Они начали с немцами переговоры. – Але! Але! и сыпали в трубку ругательства и разные знакомые немецкие словечки. – Фриц ферштеен! Хенде хох! Гитлер капут! А от туда неслось – Руссише швайне! Иван капут! Дратвер… цап-царап. Переговоры шли на самом высоком солдатском уровне. Начальство об этом не знало. Солдаты знали, что как только оно засечёт международные переговоры, то их всех сразу вытурят из окопа, а телефонисту сделают втык. Солдаты насыпали телефонисту махорки, подарили старую немецкую зажигалку, чтобы он сидел, не рыпался и молчал. А они по очереди прикладывались к телефонной трубки и учили немцев ругаться матерщиной. Один крутил ручку в аппарате, а другой в это время придумывал хлёсткую фразу, чтоб немцам от неё стало тошно. Он искал подходящее слово, силился и носом сопел. У стоящего сзади лопалось терпение, он выхватывал трубку и с хода выпаливал немецкие слова. – Фриц! Гутен таг! Швейне! Давай цурюк на хаузе! Дейчланд! Ферштеен? Морген фрю алес капут! К вечеру это мероприятие прекратили. Солдат разогнали. Командиру роты сделали втык. Что это за высота? Опять учудили! Что там за солдаты? Мать их твою так! Опять натворили!
* * *
Текст главы набирал Дмитрий@mail.ru
18.09.1983 (правка)
Сентябрь 1942

В боях за Пушкари наши полки понесли большие потери. Мы захватили высоту, оседлали дорогу, инициатива, как говорят, перешла в наши руки, но в стрелковых ротах осталось мало солдат. В когда в 45 полку подсчитали наличие активных штыков, то эту цифру тут же засекретили. Штабникам запретили вслух говорить о ней. На высоте кроме пулемётчиков остался десяток солдат. \Они сидели подавленные, с тупым безразличием. Ничего нового, что могло пробудить их, не происходило, боеспособность их в расчёт можно было не брать.\ Пулемётчики \тоже\ выдохлись и устали. Бесконечные обстрелы вымотали людей. ударь немец ещё раз по высоте, нажми разок, как следует, и всё полетело бы к чёртовой матери. Сколько можно было терпеть? На войне в сорок втором основную тяжесть борьбы несли на себе солдаты пехоты. Нашу артиллерию тогда никто из нас всерьёз в расчёт не принимал. Была ли она вообще? Для нас это была загадка. Куда она била? И била ил вообще? Я, например, ни разу не видел, чтобы над немецкими окопами разорвался хоть один снаряд. Артиллеристы у нас в дивизии числились, ездили цугом, катали свои пушки четвёрками, прятались где-то в лесу \ а за лесом от них было пользы, как раненому порошки от кашля\. Всвязи с нехваткой солдат на передке, медсанбат и санроту ещё раз почистили. Наскребли десяток с затянувшимися ранами, комиссовали и отправили на высоту. В санбате остались лежать только тяжёлые. Они были нетранспортабельны, их в тыл нельзя было везти. Жизнь некоторых из них отсчитывала последние часы и минуты. Они своё великое дело сделали \, и их оставили в покое\. На высоте этим десятком солдат не заткнёшь пустые места. Ночью можно было пройти на высоту с любой стороны \незаметно\. Не возьмут же, например, ездового обозника от живой лошади и не отправят на передовую в качестве солдата стрелка. Кто будет таскать барахло и дёргать вожжами? А потом доберутся, гляди, и до интендантов, и те со своих мест полетят! Нет уж! Тут святое и тёплое место! Здесь брюхатых трогать нельзя! Тылы и полковые службы были в полном комплекте, \пока стояли в лесу под Пушкарями,\ и потерь \ почти\ не имели. Как-то раз убило одного и двух лошадей \, и вся остальная братия отделалась лёгким испугом\. Разинул рот- сам виноват. Как-то перед рассветом меня вызвали в штаб полка. Я сбежал с высоты, прошёл по лесной тропинке, потом свернул на дорогу и долго шёл, цепляя за корни деревьев ногами, было ещё совсем темно. Пока я шёл, стало светать. Но свет в лесную глушь приходит не сразу. Листва и деревья наверху сереют, а внизу, под кроной, на дороге ещё темно. «Ну вот и землянки,» – подумал я, сворачивая по тропе с дороги. – На тебя приказ пришёл! посиди! Сейчас начальство освободится! – объявил мне писарь, мордастый солдат, когда я поравнялся с землянкой начальника штаба. Я огляделся. Кругом землянки и блиндажи, вкопанные в землю под бугром в лесной заросли. На каждой из них толстые брёвна в четыре наката. Полковые сапёры поработали на славу. Вот так в тылах полка работали, копали, пилили, и таскали, укладывали брёвна наши полковые сапёры всю войну. Эпизодически вязали рогатки и выносили их на передовую. и то это делали самые нижние чины. Тут жили штабные, политработники, связисты, снабженцы, складские, обозные, портняжные, сапожные умельцы, писаря и парикмахеры. Они возили, варили, кормили, седлали лошадей, кроили из мягкого хрома начальству сапоги, из добротного сукна строчили в талию шинели, занимались стрижкой, брижкой и брызганьем одеколоном после бритья. Начальство было не против горячего компрессика, массажика с помадой и одеколоном. Каждому угоди! Такая у тыловой братии служба. \ Это не из винтовки стрелять! Волшебное мастерство в пальцах иметь следует\. Вон лейтенанта-пулемётчика вызвали в штаб – весь грязный, в глине, ему не нужно делать завивку, перед ним не надо хребет сгибать, из пузырька лосьоном шипеть. А парикмахер Кац, наш старый знакомый, перед начальством лез из кожи, шипел своей брызгалкой, расчёсывал кудри и гладил расчёской круглые лысины. Попробуй не угоди. Поутру все вылезали из землянок, не то, что на передовой спи, сколько влезет, чистили зубы и умывались привезённой в бочке студёной водой. Не торопясь отправлялись на завтрак, выкуривали после завтрака по папироске и переговаривались, ковыряя в зубах. Кой-кому уже с утра топили баньки, служивые парились, хлестались вениками, жарили вшей, меняли нательное бельё, выполняли, так сказать, свой воинский долг \согласно установленной очереди\. потом баньку проветрят, раскочегарят ещё раз, и в неё пойдёт начальство, и ему придётся обливаться потом. – Ты чего задумался? Ты по вызову, лейтенант? – Пришёл! – Ну-ну! Пойдём в землянку! На тебя приказ пришёл! За что? где я сделал промашку? Я сплюнул на землю и выругался. – Ты чем-то расстроен? Тебе присвоено очередное звание старший лейтенант! Запиши! Приказ 41 армии №0186 от 27.07.42 года. Я хотел было возразить: – Мы же не 41-ой, а 22-ой армии! – Это не твоего ума дело! Тебе сказали сорок первой, запиши и отвали! \Подожди! Поздравляю тебя от имени командования! Давай руку!\ Я вышел из землянки, поддел ногой пустую консервную банку. На душе у меня было нехорошо. Перед глазами траншея, забитая убитыми солдатами. Я вздохнул глубоко. Что сделаешь? Каждому своё! Поддев сапогом ещё одну пустую банку, мне пришла идея. Я поднял её, зашёл к старшине, вырезал из жести кубики с загибами, проткнул ножом петлицу и укрепил кубари. Теперь я был по всем правилам гвардии старший лейтенант. Старшина протянул мне кружку. Мы чокнулись с ним, и он поздравил меня с присвоением воинского звания. Я не спросил, откуда достал он \четвертинку\ водки. Обменял у тыловиков. Летом нам водки не давали. Вскоре я вернулся на высоту. Мне за Пушкари звание! А солдатам что? О наградах и медалях в штабах для солдат и не заикались. Дело это варилось в тайне. Что кому было положено, это был секрет. Наверное, должны были сказать: «Представь одного или двух солдат к награде». Конечно, самолёт мы не сбили, танк не подожгли. Но удержать Пушкари под таким неистовым огнём могли только люди героически стойкие, преодолевшие \небытие многих сотен, которые остались в траншее\ смерть. На следующий день старшина принёс на передовую колоссальное известие. В лес подошла свежая дивизия. Нас будут менять, и мы отправляемся в тыл на формировку. Вот такое сообщение сразу поставило на ноги всех моих солдат. Ночью эта дивизия вывела своих солдат на передовую. Мы проворно собрали свои вещички, долго не думая, передали свои окопы, указали сектора обстрела, разъяснили, где находятся немцы, кивнули головой на траншею с засыпанными трупами и сняли пулемёты. А что? Пусть знают, что тут было до них! похлопав по плечу и пожелав им всего хорошего, мы по-быстрому сбежали с высоты и с лёгким сердцем пошли по лесной дороге. Мы были счастливы, что, наконец, навсегда покинули это проклятое место. Мы не верили, что на какое-то время уходим от войны, что избавились от смертельной \тоски и\ опасности. С немцами мы ещё встретимся. Но это будет не завтра, а когда-то потом. Впереди у нас сейчас целая жизнь! Без войны, без страха и смертельной угрозы! Наше счастье было так велико, что нам казалось, что мы плывём по дороге. Мы избавились от бесконечного грохота, визга и воя снарядов. Мы уходим в глубокий тыл, где нет войны. Где спокойно течёт мирная жизнь, где каждый день проходит неторопливо. Интересно, как там? Хорошо воевать, когда ты превосходишь огнём и оружием противника. Когда беснуются взрывы и в судорогах бьётся земля. Солдаты на передке вылезают на поверхность, стоят и смотрят, как корчатся немцы в дыму. В Пушкарях, в сорок втором корчились мы, а немцы, простите, стояли поверх земли и смотрели. Тогда оно было именно так! В сорок втором воевали немцы, а мы, так сказать, обливались кровью. Тот, кто не был на войне, на переднем крае, тот не знает, чего нам стоила тогда война. Совсем не многие перешагнули рубеж сорок второго. Я не имею в виду участников, которые отсиживались в тылу. Я делю людей на две группы. Я имею в виду солдат и офицеров, которые были в ротах, и тех, кто у них сидел за спиной в тылу. Война для тех и других была разная, они о ней и говорят, и помнят по-разному. Теперь мы шли по лесной дороге, и ветки хлестали нам в лицо. В лесу было прохладно, темно и сыро. Нам было приятно от этих ударов. Здесь всё нам казалось особенным и новым. И ветки, хлеставшие по глазам, и брызги болотной воды при переходе болотин, и запах свежей хвои. А вообще, идёшь в темноте, и ничего не видать. Хорошо! К новому состоянию нужно привыкнуть. Мы засиделись в окопах и ходить разучились. Мы то ступаем по твёрдой земле, то хлюпаем сапогами по болотной жиже. Но почему мы торопимся, куда мы спешим? Кто нас гонит вперёд? Когда у нас есть впереди несколько месяцев, а это целая вечность! Наконец-то мы вылезли из небытия, наконец, мы живые и расправили плечи. Здесь легко и свободно дышится. Мышцы и жилы можно расслабить и спокойно идти. Я подаю команду убавить шаг, и солдаты, сбавив темп, идут медленно. Нужно потянуть эти первые минуты, думаю я. Потом они не будут так чувствительны. Одна дорога сливается с другой, по этой ещё километра два идти. И вот мы подходим к блиндажу штаба полка. Работников штаба в блиндажах уже нет. Они снялись раньше. Нас у штабных землянок встречает старшина. Добраться до места сосредоточения мы можем и сами. Тут же стоит ротная повозка, запряжённая лошадью, на неё мы грузим свои пулемёты. Я сел на лавочку около землянки и закурил, а старшина с солдатами стал грузить и распределять вещи на телеге. Докурив, я придавил ногой окурок. Погрузка закончена. Повозка двинулась и покатила по лесной дороге. Мы шли за повозкой сзади. Ночь была тихая и по-летнему тёмная. Впереди фыркала лошадь, скрипела телега, стучали колёса, попадая на корни деревьев. Мы молча шли, поглядывая по сторонам. В пути повозку не раз приходилось подталкивать в гору. Мы подхватывали её и перетаскивали через рытвины и болотины. – Эй! Навались! – кричал старшина. Лошадь храпела, ходила из стороны в сторону, хлюпала жижа, отдувались солдаты, взбирались на бугор и ускоряли шаг. Лошадь под горку катила без понукания. Сколько времени мы так шли, трудно сказать. Мы отвыкли от переходов, потеряли чувство времени. Мы засиделись в обороне. Ноги наши затекли в Пушкарях. Тёмные прогалки леса медленно уплывают назад. Дорога то скатывается вниз, то снова медленно поднимается в гору. Где-то в лесу, не доходя до Нелидова, должна собраться вся наша дивизия. Лес иногда отступал от дороги. Непроглядные поля и одинокие чёрные избы без света и лая собак уходили назад вместе с дорогой. Кругом темнота, кусты и канавы, рытвины избитой дороги и тихий ночной, без шорохов, ветер. \Посмотришь на небо, там звёзды горят. Оступишься на дороге – так и идёшь, уперев взгляд под ноги\. Спины солдат покачиваются вразброд, солдаты идут кто как, без всякого строя и не в ногу. На войне всегда ходят именно так, где двое, где трое, а где гуськом друг за другом. Прикидываю в уме, идти ещё километров восемь. Вот – думаю – жизнь! Какая она разная дл каждого на войне! Когда я сидел на лавочке около землянки и курил, увидел – напротив висит что-то белое. Говорю старшине: «Сходи, посмотри! Штабные бельишко своё стиранное забыли. Забери! Лишние кальсоны и рубашка для солдат пригодятся!». Старшина пошёл посмотреть и говорит: «Товарищ гвардии старший лейтенант! Это бабское бельё какой-то штабной крали!» Видно, впопыхах без порток убежала. Мы, конечно, засмеялись. Нам это потеха. А чья-то ППЖ без фильдеперсовых штанов и фильдекосовой рубашки осталась. Вот полковые, и на войне без этого жить не могут! Да! Кому война, а кому хреновина одна! Часа два мы протопали по ночной дороге. В конце пути нас окликнули в темноте. – Сворачивай в лес! Стоянка два дня! Располагайся, словяне! Мы свернули с дорожной насыпи, съехали вниз, перемахнули через канаву и вошли под тёмные ели. Повозка запрыгала, затарахтела \лошадь несколько раз дёрнулась\ и покатила куда-то вниз \в темноту\. Где-то в темноте, между стволов огромных елей мы остановились. Лошадь шумно дышала, а у нас были приятные мысли, что мы в глубоком тылу \сегодня ночуем\. Мы были привычны ко всему. Мы не стали в потёмках искать сухого и высокого места. Мы просто потопали на месте ногами, под елями вроде сухо, кто где стоял, повалились на землю. В темноте леса всё кажется тесным и нереально близким. Ночью в лесу скрадывается пространство. Вот твои ноги и руки, вот толсты ствол могучей ели, вот лежит твой сосед, такой же солдат. Дальше смотри, всё равно ничего не увидишь. Слышишь и чувствуешь глубокое дыхание лошади, позвякивание стальной уздечки, да хруст веток под ногами идущих людей. Кругом в лесу стояли обозы, ходили, сидели и лежали люди. Старшина, забрав термос и мешок для хлеба, вместе с повозочным ушёл куда-то в темноту. Где-то там в лесу дымила и пускала запах полковая кухня. Лес был наполнен запахом дыма и сыростью с привкусом прелой болотной листвы. Пахло людьми и лошадиным навозом. Процедура раздачи пищи в темноте у старшины не вызвала затруднений и не отняла много времени. На этот счёт у него была набита рука и намётан глаз. Он мог, не глядя, осязая на вес и на ощупь, прикинув вес пайки в шершавой ладони, всё жидкое, твёрдое, чёрствое и россыпью в виде порошка разделить с точностью до грамма. Солдаты знали, что всё, что получено и принесено в термосе и мешке, всё старшина разделит и раздаст солдатам поровну. Этого требовал от него ротный. Солдаты быстро управились с едой, достали кисеты, оторвали газетной бумажки и задымили махоркой. Они сегодня прошли не большой путь, но без привычки, видно, заметно устали. Много недель сидели, согнувшись, в земле, от ходьбы и от маршей отвыкли. Солдаты были довольны, что их в лесу встретили хлебом и похлёбкой. Видно, наш полковник, командир дивизии, Ерофей Владимирович Добровольский накрутил хвоста интендантской братии. Внимание для солдата имеет большое значение. Как его встретить? Котелком или матюгом? Раньше, при Березине, это практиковали. Своих чувств солдаты вслух не высказывали, они лишь по необходимости перебрасывались скупыми словами. И в этой сдержанной солдатской беседе можно было уловить, что на душе у каждого спокойно и хорошо. Вскоре все повалились спать. Утром, когда рассвело, мы увидели вокруг себя войско, лежащее на земле вповалку. При свете дня лес заметно поредел. Земля из узкой и тесной раздалась вглубь и вширь. Солдаты лежали, кто на спине, разинув рот, кто на боку, поджав под себя колени. Казалось, что огромное пространство леса завалено телами убитых, они лежали неподвижно. Только лошади ворочали мордами да помахивали хвостами. Старшина поднялся на ноги раньше всех. Это была его святая обязанность. Он забрал свои мешки и ушёл толкаться на кухню. Повозочный зауздал лошадь и ушёл искать водопой. Я поднялся на ноги, посмотрел на лежащих солдат и решил сделать подъём. Пусть привыкают к походной жизни. Хватит валяться. Нужно чистить оружие, приводить в порядок личные вещи, пересчитать боеприпасы и сдать их в боеснабжение, чтобы на себе лишнего не тащить. Нужно договориться с полковым начальством о выделении роте ещё одной повозки для размещения пулемётов и комплекта коробок к ним: на одной кляче всего этого на большое расстояние не увезёшь. Одна заезженная лошадёнка не потянет всего. В общем, два дня, которые дали на сборы, – только-только для засидевшихся в окопах солдат. На второй день стоянки стало известно, что немец сбил с высоты Пушкарей сменивших нас солдат. Теперь они лезут на высоту и пытаются сбить немцев оттуда. Да! Нам повезло! Как всё это случилось? Подробностей никто из штабных не знал. Вскоре по нелидовской дороге мимо нас потащились подводы с ранеными. Мы вышли на дорогу из леса, стояли и смотрели на забинтованных собратьев из пушкарей. Из повозок торчали обмотанные бинтами руки и ноги. Здесь были молодые бледные и старые, покрытые морщинами, небритые солдатские лица. Обмотанные потемневшими от крови бинтами, они лежали и сидели на телегах. Они тряслись и болтались на тарахтевших по дороге телегах. Они раскачивались и подпрыгивали на ухабах, стонали и охали, кричали и ругались на повозочного. Обоз состоял из десятка подвод. Здесь были запряжённые парой, длинные, как открытые гробы, армейские повозки. Среди них вперемежку тащились и куцые деревенские скрипучие телеги. Обоз медленно продвигался вперёд. Дорога была одна для всех. И для нас живых, и для них раненых. Она извивалась по топким болотам и лесам, вползала на бугры, скатывалась в низины и уходила к Нелидово. Кто сразу после войны проехал по этой дороге, тот знает, что она собой представляла в те дни войны. Около Нелидова она переваливала через железнодорожную насыпь и забиралась всё выше к Торжку. Туда лежал путь обоза с ранеными. Мы первый раз видели эвакуацию раненых. Нам не приходилось бывать на дорогах вдали от фронта. По сути, это был наш первый отход в глубокий тыл. Мы смотрели и думали, что вот так и нас когда-нибудь повезут по такой же изрытой дороге. Будут трясти по буграм, гатям и ямам, протащат через леса за дальний горизонт. И где-то на перевалочной базе у заброшенного полустанка запихнут в эшелон. Раненых сопровождал фельдшер. Два санитара, брюхатых, как бабы, шли позади него. Лошади, ступая, кивали головами. Повозочные шли сбоку, причмокивая и подёргивая вожжами. Лица у них были деловые, без сожаления и признаков жалости. Они не обращали внимания на стоны, и жалобы. Просьбы измученных разбитой дорогой людей их не касались. – Придержи хоть под горку! – просили раненые. – Полегче через канаву! – причитали они. А повозочный подёргивал вожжи, чтобы с хода перемахнуть через канаву. Я стоял и смотрел на обозных хмырей, и мне почему-то вспомнились злые лица московских извозчиков. Такой, не колеблясь, мог запросто заехать оглоблей в лицо. – А ну! Берегись! – закричал повозочный, когда поравнялся с нами, – Чаво рты разинули? Эй, берегись! А то зашибу! – Я тебе зашибу! Тыловая крыса! – выскочил на дорогу и закричал в ответ Парамошкин, – Куда гонишь, навозная куча? Людей везёшь, а не дрова на кухню! Повозочный никак не ожидал встретить здесь от стоявших солдат встречный отпор. Ему и в голову не пришло, что эти, так сказать, любопытные, только что вышли из ада, с той высоты Пушкарей. Он, вероятно, подумал, что они из тех тыловиков, что никогда не видели раненых. Его лисья морда сразу преобразилась. Из властной и нахальной она стала угодливой и пугливой. Он притормозил лошадь, и повозка, наехав на выбоину, встала. Повозочный вытер лоб рукавом, привалился к телеге, как-то сгорбился и оторопело смотрел на стоявших солдат. Он сразу понял, что имел дело с фронтовиками. Из-под круглой каски выглядывали его маленькие бегающие глазки. – Смотри, лошадиный помёт, каску держит на голове! А винтовка под ранеными в повозке! Они и винтовку, подлец, разучился таскать! А тоже, гнида, подаёт зычный голос! Повесить его вот на этой самой сосне! Я посмотрел на передок телеги, дуло винтовки действительно торчало над бортом. В голову колонны заторопился фельдшер. – Кончайте ругаться! – сказал я своим, – Помогите раненым! Дайте им из фляжек воды! Ко мне подошёл фельдшер. Он был худ и высок. И поэтому, видно, казался сгорбленным. Короткая шинель до колен, как у меня, на голове пилотка со звёздочкой и зелёные со змеёй петлицы. – Что-нибудь случилось? – спросил он. Мы поздоровались. Я сказал: – Нет, ничего! Земляки, по-видимому, встретились! – Пока вперёд не трогай! – сказал он повозочному, – Пусть остальные подтянутся, и раненые отдохнут! – Что там, в Пушкарях? – спросил я. Лошади подходили и вставали друг за другом. Фельдшер обернулся и сказал: – Никто точно не знает, что там происходит. Кругом всё гудит и трясётся земля. Мы были внизу, подбирали раненых. Вы знаете, просто ужас! Земля летит из-под ног! Вот, эти первые, которых мо подобрали. Они тоже ничего не могут сказать. На высоту пошли связные, но оттуда никто не вернулся. Просто кошмар! Мы стояли и смотрели на раненых. Солдат, что сидел впереди, повернул голову в нашу сторону и осипшим, хриплым голосом спросил: – У вас, братцы, курево есть? Руки мне порвало! Сверните цигарку и суньте мне в рот! Курить охота! Терпения никакого нету! А тут видишь, во! – и он показал замотанные бинтами руки. Здесь были разные люди и разные судьбы. Люди, оторванные от земли, безразличные к свету и ясному светлому небу. Они были измучены \тяготами войны и\ своими кровавыми ранами. – Ты чего, брат, плачешь? Сильно болит? Успокойся, не надо! Потерпи, браток! Радуйся, что ещё жив! Рана не голова, зашьют и подлечат! У пожилого солдата, сидевшего в подводе с перевязанной ногой по щекам катились крупные слёзы. Он плакал беззвучно и совсем не всхлипывал. Он сморщил небритое, забрызганное грязью лицо. – У меня там сына убило! Мальчонку маво! Теперь я остался один! Наши слова разбередили его душу, задели за живое его страшную рану, которая никогда не заживёт. И он \, не сдерживаясь,\ затрясся весь и застонал. У меня ком подкатил к горлу. Такого солдату не пережить! Пулемётчики подошли ближе к повозкам. Кто помогал повернуться на месте, кого нужно было переложить на другой бок, кто давал пить из своей фляжки, кто крутил цигарки из обрывков газетных листков. К ним тянулись руки и глаза, полные благодарности. Мы хорошо понимали, что удар немцы готовили нам, а приняли его на себя эти люди. Они пострадали за нас. Как нам были близки и понятны эти страдания и муки! Лошади медленно тронулись и, кивая головами, пошли. Мимо нас прошли последние подводы. Потом разойдутся, растрясут свою кровавую поклажу, и понесутся над дорогой хриплые крики, стоны и голоса; так устроен наш мир. Да! На войне русские солдаты стояли насмерть! К вечеру мы получили приказ на маршрут. Две подводы, гружёные пулемётами и лентами с патронами в закрытых коробках, пилами, топорами и другим солдатским хозяйством, тронулись из леса, выехали на дорогу и покатили в сторону Нелидова. Мы шли той самой избитой дорогой, по которой накануне уехали раненые. Тут один путь для живых, и кто смотрит в могилу. Была осень. Дни стояли тёплые и солнечные. Через некоторое время, миновав нелидовские леса, дорога вырвалась на открытые просторы. Кругом непаханые поля. Деревни в десяток домов. Где-то впереди, в районе станции Земцы, располагался наш новый район сосредоточения. Рота шла по дороге, в ходьбу мы постепенно втянулись. Дорога медленно, но упорно поднималась в гору. Был солнечный яркий день. Вдруг откуда-то справа раздался паровозный гудок. Всеми забытый и когда-то хорошо знакомый, он заливался и летел призывно нам навстречу. От неожиданности мы даже встали. Солдаты переглянулись и заулыбались. Но вот гудок вдруг смолк. Мы подумали, что произошла ошибка. Что-то другое приняли за гудок. А может, нам это только показалось? Вот ведь стоим и ничего! А когда идёшь, и топот ног мешает уловить неясный звук, да ещё непривычный. Но вот он снова и ещё голосистей возник где-то за бугром и понёсся над дорогой. Он летел, разрезая мирную тишину, обгонял взбитую ногами пыль на дороге \, которую лёгким ветром уносило куда-то в сторону\. Он заглушал топот солдатских сапог и скрип идущих наших повозок. Непонятное душевное волнение, что-то давно забытое и потерянное оживало внутри. Гудок паровоза вернул молодых к их юности, а пожилых солдат к дням ушедшей жизни. Полотна железной дороги и паровоза нам не было видно, но мы чувствовали его где-то рядом. Мы шли по дороге и слушали старую песенку, давно забытую музыку паровозного гудка. А он переливался, замолкал и снова заливался. Отчётливо были слышны позвякивания цепей, лязганье букс и свистки вагонных сцепщиков. Было душно, и жарило солнце. Мы шли по булыжной дороге, здесь был настоящий глубокий и мирный тыл. Хотя у тыловиков он считается фронтовой полосой, и они числятся, как и мы, в действующей армии. Сколько раз мы мечтали взглянуть на картину мирного тыла. Сколько раз пересказывали друг другу солдаты мелкие подробности довоенной мирной жизни. Интересно, как здесь в тылу? Как живут люди, что они делают, о чём они думают, какие они? Здесь им не грозит ни смерть, ни обстрелы. Впереди по дороге показались дома. Дорога к середине деревни поднималась несколько вверх и потом, перевалив возвышение, вместе с домами уходила под горку вниз. Через некоторое время мы вступили в деревню. Справа и слева от дороги – сараи, заборы, огороды и дома. Железнодорожной станции мы так и не увидели. Она осталась где-то сзади и в стороне. Мирных жителей в деревне не было. Мы с любопытством глазели и искали людей. \Мы долгое время их не видели. Какие они?\ Окопы, вши, грохот снарядов, летящая земля, осколки и пули, убитые и раненые в крови. А здесь светит солнце, вдоль дороги тихая деревенька, непаханые поля и паровозные гудки. По всем признакам, жителей в этой деревне нет. Они выселены, как говорят, эвакуированы. Огороды не ухоженные, собак, кур и людей нигде не видать. Но в домах кто-то живёт. Дома в деревне не пустовали. Здесь размещались какие-то тыловые службы. Когда мы прошли несколько домов, то увидели, что от дома к дому перетянуты телефонные провода. Кое-где у дверей, под навесом крыш стоят часовые. У одного большого дома сзади, со стороны огорода, стояла высокая металлическая антенна. Она была поставлена на трубочных опорах и растянута стальными растяжками. Там, за домом, прислонившись к стене, стояла крытая грузовая машина. Мы входили в середину деревни. Повозки наших ушли далеко вперёд, лошади с горки дёрнули и покатили рысью. И вдруг там, впереди, чуть выше над домами, в прозрачном воздухе под облаками, мы увидели немецкие самолёты. Они беззвучно плыли в нашу сторону. Они шли как-то боком, ровным строем и не торопясь. Увидев самолёты, мы остановились и стали изучать их направление. Нам нужно было решить, идти спокойно по дороге или немедленно свернуть в проулок между домами, отойти от деревни и лечь в чистом поле. Попробуй, узнай, куда они летят и куда повернут. Но мы, зная повадки немцев и не раз побывав под бомбёжкой, тоже косили глазами, прикидывая, куда нам бежать. Важно было не прозевать момента. Выбрать правильное направление. Решить, где они нанесут свой первый удар. Нужно было успеть свернуть в боковую и вовремя отбежать от дороги. В деревне оставаться нельзя. \Выгодней лежать в открытом поле. Немцы не свернут ради кучки людей, если увидят сверху нас. А когда лежишь или сидишь, тебя сверху не обнаружат.\ Важно не бегать и не метаться, когда самолёты идут на тебя. И вот ведущий «Юнкерс» наклонился к земле, сделал небольшой доворот и пошёл над дорогой. Чёрные точки бомб оторвались и стремительно понеслись к земле. Но мы в этом разбирались не хуже немцев. Мы были шустры и быстры, соображали мгновенно. Мы метнулись в сторону, пробежали вдоль забора и уже лежали на приличном расстоянии от огородов. Кругом открытое поле и нам было отлично видно, как рвутся бомбы, как дым застилает дорогу, как вверх поднялась земля и вместе с ней вскинулась щепа и охапки соломы. Немцы снизились и ревя прошли вдоль деревни, отвернули в сторону и навалились на станцию, где стояли вагоны. Паровоз завизжал, стал подавать частые гудки воздушной тревоги. И вот он умолк – бомбы уже сыпались на полотно железной дороги. Взрывы следовали один за другим. Когда бомбёжка кончилась, паровоз как-то жалостно прогудел. Парамошкин поднялся на ноги и с напускным серьёзным видом обратился к одному из лежащих солдат: – Сапунов! Лежишь?!! Немцы чуть паровоз не прикончили! Вставай! Хватит сопеть! Пошли! У нас был в роте пулемётчик Сапунов Тимофей. Никто его никогда не задевал и не трогал. Он был спокойный парень и серьёзный. Самолёты ушли, мы поднялись медленно и пошли в деревню. Завернув из проулка на дорогу, мы увидели повсюду свежие воронки от бомб. От них ещё шёл сизый дым. Пройдя несколько вперёд, мы подошли к дому без передней стены. Она во время бомбёжки от дома отвалилась, а вся остальная внутренняя часть совершенно не пострадала и осталась целой. Переднюю стену вырвало по самые углы. Мы смотрели во внутреннюю часть дома. Вот дым несколько рассеялся, и большая комната осветилась солнечным светом. Обстановка в избе стояла на месте. У боковой стены – две железные кровати. На них – набитые соломой подушки и серые солдатские одеяла. На подушках – белые наволочки. У дверей на вешалке – офицерские шинели и фуражки. На широкой деревенской лавке у стены – телефонные аппараты, и к ним из распахнутого окна с улицы тянулись пучком телефонные провода. Здесь же, на лавке, застыла фигура солдата. Он сидел, несколько отвалившись к стене. Он не шевелился и не дышал. Он был мёртв. Посередине избы стоял деревянный стол с точёными круглыми ножками. За ним, склонившись над бумагами, сидели двое военных, по облику – офицеры. Они как бы прислонились к столу. Они сидели напротив друг друга и тоже были мертвы. В один миг погибли трое, не поднимая головы. Они, вероятно, не слышали гула моторов, и когда сверху сыпались бомбы. Часовой, стоявший снаружи, возможно отошёл и не видел, что идут самолёты, не подал сигнал воздушной тревоги, а может, с перепугу и убежал куда. Освещённая солнцем комната казалась театральной сценой. Над сценой только что подняли занавес, артисты застыли каждый в своей приготовленной позе. Сейчас свистнет паровоз, они шевельнутся, каждый скажет свою приготовленную реплику, и последний акт пьесы начнётся на сцене. В этой пьесе про войну не было только зрителей, сидящих в душном зале. \В ней участвовали все, кто играли, и кто стоял на дороге посередине деревни.\ Каждый в этом акте играл свою роль. Немцы завывали и бомбили, мы бегали в проулок и лежали в поле, так сказать, за кулисами, а ведущие актёры успели сыграть свою последнюю роль. Они на театральных подмостках показывали \современную\ пьесу, как на фронте умирали тыловые работники. Разница была только в том, что на передовой солдаты в землю ложились тысячами, а здесь всего трое. В этой колоссальной разнице был огромный смысл. Явились солдаты, прибежали часовые. Мы оглядели их с ног до головы и тронулись по дороге. – Теперь похоронный марш будут играть! – вставил Парамошкин. Мы прошли деревню, ещё километров шесть и свернули с дороги в общипанный лес. Здесь в лесу где-то будет наше место стоянки. Было видно, что в лесу до нас стояли воинские части. Здесь они пополнялись людьми, получали оружие и меняли обмундирование. Повсюду в лесу были видны бугорки неглубоких землянок. Между землянок шли утоптанные тропинки и разбитые, с глубокими рытвинами, дороги. Кустарник был начисто вырублен, нижние ветви деревьев обломаны. До нижних ветвей хвои можно было достать, если забраться на плечи другого. Всё это было обломано на дрова. Но в целях маскировки сосняк рубить не разрешали. Местность вокруг землянок была сильно замусорена. В канавах и ямах валялись пустые ржавые банки, грязное рваное тряпьё, помятые и дырявые каски, разбитые и порванные противогазы, истрёпанные сапоги и другое солдатское барахло. Несколько дней у нас ушло на очистку землянок от мусора, на рытьё новых отхожих мест, на заготовку свежего лапника в дальнем лесу. Нары в землянках мы застелили свежей хвоёй, думали, что избавимся от чужих, оставленных здесь вшей. Дали солдатам несколько дней с дороги отдохнуть. Стали строить баню, решили как люди помыться. Однажды в землянку, где мы сидели, пришёл связной из штаба полка и сообщил мне вслух, что я должен явиться в дивизию. – Вас из полка забирают! Солдаты заволновались. А связной сказал, чтобы я отправлялся прямо сейчас. Грустное было расставание с солдатами. Парамошкин протиснулся вперёд и глубоко вздыхал. Я долго жал ему руку. – Что поделаешь, Парамоша! Приказ есть приказ! Пришёл старшина, подошёл Балашов, потом все по очереди подходили и качали головами. Все они понимали, что расстаёмся навсегда. Много было пройдено, пережито и сделано! Без них я один – ничего! Они знали, что я их берёг и ценил, если когда и ворчал на них. Мы жили одной семьёй. Вместе сидели в окопах. Вместе подвергались опасности и смерти. Кого им теперь дадут? Сначала я зашёл в штаб полка, а затем отправился в штаб дивизии. В небольшой деревушке за лесом я разыскал начальника штаба. Он объявил мне, что я назначен начальником штаба отдельного пулемётного батальона. Батальон будет входить наравне с полками в дивизию, и из этого следовало, что боевые задачи нам будет ставить командир дивизии полковник Добровольский и его штаб. Запомнилось мне имя полковника – Ерофей. Служба на переднем крае и сидение с солдатами в окопах отошла для меня на задний план, так думал я. Теперь я не Ванька-ротный, не простой смертный, как многие тысячи, теперь, если можно так сказать, я штабная крыса и тыловик. «Ну что?» – сказал я сам себе – «Раньше ты их терпеть не мог, а теперь сам влез в их шкуру, и тебе не плохо!». Я перешагнул через рубеж и оставил его позади, где сплошным потоком лилась человеческая кровь, где исчезали тысячи жизней, не оставляя следов и могил. «Откажись!» – говорил я сам себе – «Зачем шило на мыло менять! С шилом к начальству в душу не залезешь!». «Ладно, посмотрим!» – отвечал я, подумав. Батальон формируется заново. Он войдёт в состав дивизии наравне со стрелковыми полками. По огневой мощи батальон будет превосходить любой стрелковый полк. В боях за Пушкари они усмотрели непреложный и неоспоримый факт. Без пулемётной роты, полагаясь на одну пехоту, высоты дивизии не удержать. Взвесив все «за» и «против» и оценив боеспособность пулемётчиков, командование приняло решение создать отдельный пулемётный батальон. 4-ый отдельный Гв. пульбатальон в своём составе должен иметь четыре пулемётных роты полного состава. Офицеров, знающих хорошо пулемётное дело и технику, в дивизии не было, и мне поручили комплектование штата из прибывающих с пополнением людей. До назначения комбата всеми делами по формированию буду заниматься я. Мне показали по карте отведённый район и лесной участок, где будет располагаться и стоять батальон, где и когда я буду получать людей, где находятся склады снабжения, где мы будем получать оружие, боеприпасы, обозное имущество, повозки, лошадей, фураж, продукты питания и обмундирование для солдат. Война, которая потом начнётся, для меня, по-видимому, не кончилась совсем. Сейчас я буду заниматься хозяйственными делами, а потом пулемётные роты будут бросать с участка на участок, и на передок придётся выводить их мне. Сходить на передовую и пробыть там день или два – это совсем не то, что сидеть в роте безвылазно. Одно дело – побывать в роте, а другое дело – сидеть с солдатами в окопах и обеспечивать «Ни шагу назад!». Я становился тыловиком. Так, во всяком случае, мне казалось. Возможно, из меня и не получится типичный тыловик, для этого нужно иметь чувство ужаса и страха, чтобы не загреметь на передовую. Они себя считали фронтовиками и официально были приписаны к действующей армии и находились на фронте, хотя линия фронта и находилась где-то там впереди. Таких фронтовиков, дотянувших до конца войны, в тылах за линией фронта сидело множество. Они имели боевые награды, и никто не считал себя тыловиком. Я стал тыловиком, но несколько отличался от них, потому как вышел из роты. А мои эти новые сослуживцы, штабнички и тыловички, вообще не знали, что такое война, они держались прочно за свои насиженные места \и друг за друга\. О пулях и грохоте, о холоде и голоде, об окровавленных солдатах и о трупном запахе они не имели представления. Войну, как она есть, они домысливали понаслышке. Да и характер у меня был испорчен войной, стал прямой, несгибаемый и неуживчивый. За матушку правду я лез напролом. Много обид и несправедливости пришлось пережить. А другой защиты не было. Но кое-чем я должен был теперь походить на тыловиков. Мне нужна стала парная баня, чистое бельё, новое обмундирование. Запачканным окопной глиной, в нечищеных сапогах я не мог являться на глаза начальству. Покажись в своём прежнем виде – и на тебя вшивый писарь будет с презрением смотреть. Здесь внешний вид ценился выше, чем боевой опыт окопника. А к тем, кто ходил и не вздрагивал при ударе немецкой бомбы, проявлялась неприязнь и отчуждённость. – Ну вот, тыловой работничек! – говорил я сам себе, – Хотя ты и не привык кланяться, но всё равно придётся нагибаться тебе под низкими потолками деревенских изб. Не будет у тебя забот о куске хлеба или стрельнуть покурить. В кармане у тебя пачка «Беломора» и ты дуешь дым через верхнюю губу. В твоих руках судьбы сотен людей и ты решаешь, кого куда, кому идти в обоз, а кому к пулемётам. Мальчишки, прибывающие на фронт, были в массе своей солдаты-романтики. Им бы поскорей построчить из пулемёта. Война им казалась весёлой игрой. Приходила маршевая рота, и среди солдат в строю я видел разных людей. Здесь были пожилые, уставшие от жизни люди и неспокойные молодые живые глаза. Из-за их спина, из-за задних рядов выглядывали прохиндейские и нахальные рожи. Нужно было суметь разобраться и решить, кого куда. Нужно было проныр и пройдох не допустить к солдатским пайкам и кухням. Только глазом моргни – они тут же прилипнут к солдатским повозкам, их потом силой от них не отдерёшь. Штат батальона большой, а время на знакомство с людьми ограничено. Нужно всё делать быстро, почти на ходу, и решить, кто будет пулемёты таскать, кто будет дёргать вожжами, кому достанутся кухни, черпаки и термоса, кто будет делить солдатские краюхи хлеба и рассыпать по кучкам махорку. В этом человеческом потоке и судьбах людей нужно быстро и умело по совести разобраться и поставить точку. – Для нашей работы, – пытался внушить мне присланный в батальон интендант, – Нужны не честные дураки, а смышлёные и ловкие люди! Проходимцы, если хотите! – Ну-ну! Ты не очень! – одёрнул я его сразу. Он, видно, решил меня сразу проверить. – Вы, товарищ гвардии старший лейтенант, боевой офицер! И, простите меня, Вы в нашем деле ничего не смыслите. Послушайте меня, старика! Я как-никак тёртый калач! Не вмешивайтесь Вы в наше тёмное дело! Мы сделаем всё, как следует! Нам нужны на складах и на кухне знающие и умеющие люди. Я хорошо знаю, кто подойдёт нам, а кто нет. Я сопоставил его слова с тем, как нас на передке кормили. Я не терпел ловкачей и проныр, которые пробивали себе дорогу за счёт солдатского желудка. Во мне ещё осталась непримиримость к этим скользким людям. С некоторых пор я стал замечать, что в тыловые подразделения стали просачиваться, минуя штаб, разные угодные интенданту людишки. Тогда при первой же встрече я предупредил интенданта, людей, взятых и не оформленных приказом по батальону, немедленно отправить обратно. – Если я завтра проверю, и у вас окажутся неоформленные лица, Вы будете иметь объяснение с начальником штаба дивизии. Никто не имеет права брать людей самовольно со стороны! После этого разговора всё стало на свои положенные места. Первая брань лучше последней! Батальон продолжил формировку. Прибыл еврей начфин, получили лошадей и повозки. Лесные прогалки, вначале безлюдные, теперь огласились говором солдат. Живая ватага ходила и топталась на месте. Кроме офицеров штаба дивизии, которых я знал теперь хорошо в лицо, у меня появились знакомые лица в полках, тылах и на складах. Я часто встречался с ними при оформлении накладных, документов и разных бумаг. Они говорили о своих делах, обсуждали новости и ходившие анекдоты в дивизии и делились своим мнением. В потоке людей, которые прибывали как пополнение из тыла, жили свои разговоры, понятия и взгляды на войне. В тылу было голодно, и многие думали, что, попав на фронт, они отъедятся на фронтовом пайке. Сама война им казалась нетрудным делом. Такую они её видели в кино. Словяне-новобранцы – легковерный народ. Им всё доступно и просто. Если ему в деревне не давали от души порезвиться и помять кулаки, то он сможет здесь приложить свои руки о немецкую рожу. Они страшно удивлялись рассказам фронтовиков про войну. В их сознании перемешали неприятные новости о войне и о немцах, о колоссальных наших потерях. – А какого же… там говорят? – Поживёшь – сам увидишь! В солдатской массе шли неторопливые разговоры о жизни и обо всём. Солдаты – народ суетливый, строили землянки, топили бани, бегали голыми получать чистое бельё. В лесу слышались удары топоров, треск разбиваемых ящиков, доставали оружие, вынимали патроны, грохотали повозки, подвозили амуницию, примеряли сапоги и шинели. Иногда за говором людей слышались пулемётные очереди – проверяли пулемёты. Лес шумел голосами людей, фырканьем лошадей и трескотнёй ружейных выстрелов. Солдатская масса, внешне серая и одинаковая, по-разному жила и работала в лесу. Одни ходили, как сонные мухи, другие быстро мелькали между землянок и стволов. Новому человеку вся эта толкотня и беспорядок были непостижимы. Почему они все толкаются и суетятся, как встревоженный перед грозой муравейник? Где здесь территория роты, где тут расположены тыловики и обозники? Солдатские землянки и офицерские блиндажи, склады, стойла для лошадей и бревенчатые срубы – всё это перемешалось и было разбросано в беспорядке в лесу. Явных границ между ними не было видно. Но солдаты хорошо разбирались в хаосе и толкотне. Они с первого дня усвоили, где их землянка, а где идёт делёж продуктов, и гремят котелки. Вот по лесу петляет избитая повозками дорога, вот от неё в сторону пошла узкая, убитая солдатскими ногами тропа, здесь и сворачивай. Ещё пару шагов – и твоя ротная землянка. Отсюда они бегут, позвякивая пустыми котелками, сюда они обратно медленно бредут, занятые едой и мыслями. Кое-где около землянок торчат часовые. Но стоят они на часах не для того, чтобы охранять солдатские землянки. Их главной задачей является вовремя засечь появление на дороге высокого начальства. Часовые не обращают внимания на снующих солдат. Словяне одинаково серые. Кому они нужны? Важно не прозевать штабных из дивизии. Часовые всегда начеку, если на дороге появилась фигура в ладно сшитой шинели с чисто выбритым лицом. Кому нужна такая охрана? Солдаты шныряют и вертятся вокруг целый день. Кто тут свои, кто тут чужие? Идёт, пугливо не озирается – значит, свой. Все тут свои, все тут наши! Да и какая разница, если придёт чужой из полка? Может, пришёл найти земляка, хочет навестить, знать, давно не видел. Отдельно за лесом в маленькой деревушке стоял штаб дивизии. Туда без дела никого не пускали. На постах стояли солдаты охранной роты. Они занимались только одним этим, самым важным, делом. Они знали в лицо, кого пропущать, а кого гнать в три шеи. По другую сторону леса пролегала железная дорога. По ней подвозилось снаряжение, и снабжались войска всем необходимым. На лесном участке пути, в промежутке между станциями, на перегоне, прямо под откос насыпи шла разгрузка вагонов. Вдоль полотна вправо и влево складывали ящики, тюки и мешки. Их сверху для маскировки забрасывали ветками и небольшими обрубленными деревьями. Если сверху взглянуть, то среди редкого леса увидишь сплошные завалы. Что здесь где лежит, опытным глазом не разберёшь. Земля вдоль насыпи была поделена на квадраты. Каждая такая площадка была огорожена колючей проволокой. В одну из них сносили ящики с консервами, в другую отправлялась мука, в третью шло обмундирование, а там, на отшибе, хранились боеприпасы. На разгрузку вагонов посылали наших солдат. На разгрузку в основном ходили стрелки из полков, пулемётчиков на эти работы не посылали. Ящики и тюки носили на спинах и на руках, укладывали в штабеля и забрасывали деревьями. Повсюду в лесу вдоль железной дороги можно было видеть бугры и завалы. Но под завалами и кучами не везде лежало добро, многие из них были пустые. Эшелон обычно подавали ночью. Разгрузку успевали закончить до утра. С рассветом жизнь за проволокой прекращалась. Всё живое до появления немецкой авиации успевало убраться в лес. Часовые на постах прятались в узкие щели. С утра, как обычно, над районом разгрузки зависал немецкий «костыль». Он долго кружил и урчал в вышине, переваливаясь с боку на бок, высматривал и вынюхивал, где и как что лежит. А когда убирался за горизонт, из-за леса ему на смену выплывали огруженные группы бомбардировщиков «Юнкерс». Они, не снижая высоты, при первом заходе расходились в стороны и сыпали бомбы по площадям. После их первой бомбёжки в воздухе появлялась немецкая «рама», она снимала на плёнку попадания и причинённый ущерб. Лес, где стояли солдаты, немцы не бомбили. Основным занятием немцев была перевалочная база. Самолёты-разведчики появлялись в небе и вели дневной постоянный поиск. С рассветом при появлении самолётов-разведчиков, всякие хождения в лесу прекращались. Взрывы и грохот приучали новобранцев не особенно бояться. Под бомбёжкой можно было предварительно обстрелять своих солдат. А это был немаловажный фактор воинского духа. Иногда они налетали на лес, где стояли солдаты. Местами над лесом они сбрасывали до полусотни бомб. Но так как перед началом налёта солдаты успевали разбежаться по щелям и покинуть свои землянки, потерь среди личного состава почти не было. За всё время стоянки появилось несколько легкораненых. Первые налёты для новичков были страшны своим неотразимым грохотом. Но шло время, словяне понемногу привыкали. Немецкие самолёты чаще налетали на армейские склады. Они дорожили временем, пока стояли погожие дни. А осень, известно – переменчивая пора. Сегодня ясно и тихо, а завтра нахмурилось небо и хлещет ветер и дождь. При бомбёжке около железнодорожного полотна немцам иногда удавалось нащёпать штабеля снарядов и бочки с бензином. При первом удачном ударе в воздух поднималось пламя, и слышались раскатистые взрывы. А когда бомбили ящики с консервами и тюки с обмундированием, в воздух летели обрывки досок, земля и тряпьё. Сверху, с самолётов, никакого эффекта не было видно. Зато солдаты ждали второго момента с нетерпением. Они потирали руки нетерпеливо, ждали, когда маленько стемнеет (к вечеру немецкие самолёты не летали), чтобы броситься и бежать туда. Авось, взрывной волной за проволоку выбросило съестное. За колючую проволоку иногда летели банки консервов, целые килограммы сливочного масла, веером разбрасывались сухари, печенье, мыло и сахар. Дни без бомбёжек для солдат были скучными и неинтересными. Всё поступающее добро уходило со складов своим путём и порядком и солдатам ничего не перепадало. А когда ящики взмывали вверх и рассыпались в воздухе, душа от счастья уходила в пятки. А на пасмурную, нелётную погоду смотреть было противно. Вот и сегодня было исключительное попадание. А то эти идиоты немцы рыщут, где бы чего поджечь! Им давай чёрный дым до небес и яркое пламя. А в ум не возьмут, кому от этого польза! Сегодня немцы – просто молодцы! Стоит их похвалить за такую работу! Сегодня за проволоку полетел целый ворох ящиков с консервами и другое. Вот сволочи! Наконец-то попали! Сегодня за колючей проволокой вечером будет ползать весь шустрый народ. Такие моменты особенно приятны и памятны для солдата. Сегодня к колючей проволоке словяне поползут вперегонки. На фронте к колючей проволоке они так шустро не подбираются. Уходить с постов на вылазку было нельзя. За самовольную отлучку сажали под арест. Попасть под арест в такие дни – не нужно на плечах иметь головы! В ротах уже дознались о самовольных отлучках под проволоку. К вечеру командиры рот ходили по землянкам и проверяли наличие солдат. Испытать своё счастье хотелось всем и каждому, но не всем попадались под руки банки консервов и куски съестного. Удачливых было немного. Их можно сосчитать по пальцам, они были у всех на виду. Они ходили по лесу со вздутыми заплечными мешками. В землянке на нарах мешок нельзя оставлять. Он всегда за спиной \, и в очереди на кухню мешок торчит на спине горбом\. Основная масса солдат прибыла из тыла. Первые дни они чувствовали себя голодными и завидовали тем, у которых в мешках что-то лежало. И вот в землянках стали твориться воровские делишки. Утром то в одной, то в другой землянке возникала брань, и слышались крики. Причём безо всяких видимых причин вся землянка солдат поднималась на ноги, срывалась с места и высыпала наружу. Солдаты все разом вместе начинали орать и галдеть. Командиры стрелковых рот вначале не понимали, что собственно, творилось. Всё это возникло неподалёку от нас, где жили стрелки. У нас в батальоне всё было спокойно, потому что наши солдаты на разгрузку не посылались и на вылазки за продуктами не ходили. На крики и шум выбегали ротные и подавали команды строиться, чтобы успокоить своих солдат. В строю выяснялось, что кто-то ночью лёг рядом сзади на нары, порезал мешок и забрал у спящего продукты. – Что ж, по-вашему, в землянках появились жулики? Чтобы сразу пресечь перебранку и смуту, офицеры рот строили своих солдат и начинали досмотр вещей в солдатских мешках. Из мешков вываливалось всё на землю кучей. И когда у кого-то обнаруживали консервы в мешке, гвалт начинался снова. Раздавалась команда «Смирно!», и подозреваемого уводили в землянку к командиру роты. Там солдата подвергали строгому допросу, но находились живые свидетели, которые эти две банки у солдата видели раньше. Действительно, в этом деле было много загадочного. Но воровство и порезы мешков не прекратились. Они продолжались в других полках и ротах. То в одном, то в другом полку появлялись скандалы и утихали. Но так как пропадали только добытые за проволокой продукты у солдат, то им орать и жаловаться запретили. Пригрозили, что выяснят и будут сажать за самоволку. После этого все сразу успокоились. Прошло много дней. Однажды я возвращался верхом из дивизии и по дороге заехал в свой бывший полк. – Товарищ Гвардии старший лейтенант! – услышал я знакомый голос. – А! Старый знакомый! Как у тебя идут дела? – Возьмите меня отседова! – он почесал ногтями небритую щёку и вопросительно посмотрел на меня. – Сразу, сходу обещать не могу. Мне надо со штабом полка об этом договориться! Зайди ко мне как-нибудь! Ты знаешь, где мы находимся! Поговорим! Может, что сделаю для тебя. У тебя что-то случилось? – Не могу! Нельзя мне здесь больше оставаться! – Ну и дела! Через пару дней Парамошкин зашёл и разыскал меня. Мы с ним сели около землянки на лавочку, и он мне поведал свою беду. – Это мы потрясли в стрелковых ротах мешочников. \Вы мне дали слово, что про это никому ни гу-гу! – Как договорились! – ответил я.\ Попал я по глупости в нехорошую компанию. Познакомился я со старшиной Гердой чисто случайно. Он зашёл к нашему старшине, а я там в это время был. Наш старшина отошёл куда-то ненадолго, а старшина Герда меня и подцепил. Пригласил зайти, поговорить, мол, надо. Я думал, он меня где в тылы устроит служить. Пошёл. Первый мешок в землянке стрелков он сам разрезал. Мы стояли в сторонке, учились у него. Жертву он заранее присматривал, глазомерно оценивал, толкал нечаянно плечом, ощупывал руками мешок, похлопывал по плечу. Всё делалось тонко и искусно, как на Сухаревском рынке в былые времена, чтоб солдат с консервами ни о чём не догадался. Мешочнику дарма давали закурить. Почему-то в добыче продуктов за проволокой особо отличались нацмены. Или им просто везло, или у них в темноте глаза острее и зорче. Добытые продукты они не ели и берегли их на чёрный день. Словяне, те продукты съедали, не доходя до землянок. А у этих в мешках по пустому котелку бренчали банки, сухари, сахар. – Старшина Герда потом рассказывал нам. Стоишь в толкучке на кухне, привались на мешок и ласково поглаживай рукой. Сильно не дави, перебирай сквозь материю содержимое пальцами. Нащупаешь банки с говядиной, так и засосёт всё внутри. У нас в полку пулемётчиков на работы не водили, из расположения под проволоку уйти было нельзя. На дороге стояли полковые из охраны. А если бежать кругом, то пока доберёшься, придёшь туда к шапочному разбору. Вот мы и клюнули на предложение Герды. Отойдёшь в сторонку из очереди, а у самого слюнки текут. – И что ж, у старшины Герды были подручные? – Нас было трое. Я, Герда и ещё один солдат. Иногда вцепишься обеими руками в мешок, а тебя за шиворот тянут сзади, выживают из очереди. Орут, дураки, ты, мол, здесь не стоял. Поогрызаешься для вида, ослабишь руки и вылетишь, как пробка. Внимание толпы в такие моменты приковано на кухне, на поваре-жулике. Несправедливо! Кто-то таскает в заплечном мешке дармовые продукты, а кто-то с пустым желудком всю ночь от этой мысли ворочается. \- Чем меньше есть солдат еды, тем легче встретит час беды! – сказал я. И добавил: «Где-то слышал или прочитал, сейчас не помню».\ – А у тебя, друг, беда от еды! – Мы солдатский паёк не трогаем! \Что его, то его! Он тебе и закурить не даст, не то что наши словяне\. Старшина говорил так, мы как вроде революционеры! Хотим несчастных освободить от гнёта, каким они придавлены со стороны спины пыльным мешком. Мы не трогаем солдатского пайка, как это делают жулики-интенданты. Мы готовы возмездие им воздать! Никто из нас не обижал пайковой едой простого солдата. Такой закон войны! Солдат тоже чувствует пустоту в желудке, как и все его собратья. А иначе нельзя. Имей солдат при себе запас продуктов, он тут же их съест. Впроголодь держать нашего брата полезно и нужно. Куда старшина, туда и они. Жисть впроголодь заставляет солдатиков шевелить мозгами и ногами. – А что заставило вас обирать мешочников? – Как что? Пропустишь сквозь зубы кухонную жижу, и такой появляется зверский аппетит, а тут перед тобой мешочник гремит консервами. Взял бы и расстрелял! Конечно! Нас можно судить за это. Но того, что было, теперь не вернёшь! Солдат чего боится? Что перед смертью не поел и будет мучаться, умирая впроголодь. Перед самой ей хорошо поесть досыта! Посмотрите кругом, кто ковыряет в зубах, а кто сплёвывает через зубы. От одного только вида солдатской похлёбки мурашки по спине ползут. А брали мешки мы так. Из землянок на свет божий солдат выгоняют на работу несколько раз. Они толпой вылезают наружу, строятся, а потом по дороге, как стадо баранов, идут на разгрузку. Возвращались они табуном. Толкаются в проходе землянки, работают локтями, хотят поскорей место на нарах занять. Лежать было тесно. Умещались на боку. Укладывались торопливо, ворочались недолго, засыпали сразу и крепко. Все похожи друг на друга: грязные, мятые, небритые и нечёсаные. Солдаты были из нового набора. Старшины и сержанты солдат в лицо не знали. При выдаче пищи ротного старшину не интересовала фамилия. Они считали людей по пустым выставленным котелкам. Если число котелков со списком взвода совпадало, то старшина подавал команду: «Давай, наливай!». Варево разливалось быстро, повара на этом деле насобачились и руку набили быстро. Так что урвать с кухни лишнюю порцию не удавалось никому. Солдат стоял и глядел, когда над его котелком мелькнёт половник повара. Он по всплеску, на глаз, знал густоту своей порции. Нам оставалось одно – ждать вечера. Проще было в землянку затесаться с толпой пришедших с работы. Вместе с ними лезешь на нары и ложишься позади облюбованного. Когда все уснули, достаёшь бритву, делаешь надрез. На груди у тебя свой, приготовленный для перегрузки мешок. Перекладываешь банки в свой нагрудный, подымаешься и встаёшь. Люди, не просыпаясь, подвигаются на свободное пространство. Выйти наружу было легко. Ночью частенько выбегали солдаты, если с вечера надуются чаю. Кипячёной воды в землянке хватало. \Для этой цели стояли термоса. Пей, сколько хошь! Воды никому не жалко. Промывай себе кишки и мозги!\ В одну и ту же землянку мы больше разу не заходили. Выбирали другую. Но вылазки давали немного. У нас появилась уверенность, что мы можем потрясти интендантов. Помните, я говорил, возмездие? Старшина Герда, как руководитель могучей кучки, пока мы шлялись, извлёк из своей головы новую идею, разработал крупного масштаба план. Доводку деталей плана и рекогносцировку объекта он взял на себя, а мы, как всегда, работали на подхвате. Тонкий стратег, изворотливый тактик, чуткий психолог, он вёл нас к великой цели. Он имел когда-то дело с воровским миром, занимался умственной работой и решением пространственных задач. Умственная работа не вызывала у него никаких затруднений. В душе он был артист и тонко играл в жизни, как на сцене. «Братишки!» – так называл он нас – «Что ж вы головы повесили, соколики мои, или выпить захотели, алкоголики?» – тянул он басом. Мы слушались и уважали его. Откровенно, мы и побаивались его. Лишние слова он не бросал, скажет, и всё вроде на месте. Он никогда не кричал на нас, заботился, мог отдать нам все свои запасы, но только главное, что он держал в неприкосновенности, – это власть над нами. Я рассказываю всё начистоту! – Ладно, я верю. Парамошкин-Парамошкин! Был ты исправный и храбрый солдат, а в кого ты превратился? Но ты не рассказал мне самого главного, про бочку со спиртом. – Теперь про бочку! Старшина Герда в полку служил на вещевом складе. Он часто захаживал к нашему старшине, \там мы и познакомились\. Не помню, как это случилось, что он прибрал нас к своим рукам. – Да, жалко мне тебя! – сказал я, – В полку ты был хорошим солдатом! Избаловался ты теперь на тёмных делишках, пропадёшь! – Пропаду, товарищ Гвардии старший лейтенант! – Так что, эпопея со спиртом – тоже ваших рук дело? – Наше! Куда денешься? Я расскажу Вам всё по порядку. Дело это требовало исключительного чутья, непреклонной воли и предельного настроя. В таком деле одной прыткостью ничего не возьмёшь. Здесь нужен аналитический ум, полёт мысли и самообладание, как говорил нам старшина Герда. Тут нужна солидность властный голос, зычный и раскатистый. На простой налёт Герда не пошёл. Он решил взять со склада спирт и съестное на виду у охраны. Мы одни, без него, не потянули бы этой операции. Мы могли легко справиться с несколькими мешочниками и ротозеями, а тут стояла вооружённая охрана. Когда Герда изложил нам свой план, мы сразу поняли его талант и полёт мысли. «Хватит мелочиться!» – сказал он нам – «Завтра пойдёте в разведку! Часовым на глаза не показываться! Физиономии свои не выпяливать напоказ! Будете ползать за проволокой, вроде как крохоборы!». Сам он установил пути подъезда и вынужденного отхода, места, где стояла охрана и щели, где во время бомбёжки прятались они. Немцы каждый день бомбили базу, от воя и взрыва бомб у часовых притупились мозги. Мы видели, как они прятались в укрытиях. Одного из нас старшина произвёл в сержанты, а сам нацепил знаки различия майора. Он носил офицерское обмундирование, шинель у него была сшита у полкового портного. Для этого случая он надел хромовые сапоги. Нужно было показаться у главных ворот, где стоял часовой, и были землянки. Старшина в чине майора играл роль начальника гарнизона, а я и сержант – свиту его охраны. Момент посещения склада был выбран самим старшиной. Немцы с утра налетели на базу. Складское начальство сбежало подальше в лес. Когда кругом посыпались бомбы, мы вошли на территорию склада, нас было трое. Мы неожиданно появились перед часовым, сидевшим в щели. Майор напустил на себя ярость и свирепость и стал поносить сержанта и меня: «Почему на складах не стоят часовые?» – орал майор, а осколки и куски земли летели над нами. «Слушаюсь, товарищ майор!» – отвечал сержант – «Будет исполнено!». «Люди охраны забились в щели, а вам, разгильдяям всё нипочём! Отдам всех под суд! Всех пересажаю! В пехоту на передовую отправлю!». Демонстрация перед часовым удалась. Часовой, разинув рот, глазел на майора. Осколки и земля долетали до нас. Мы вздрагивали и пригибались, а майор стоял, выпятив грудь, и их не замечал. Часовой тоже приседал раз от раза, он выглядывал и смотрел на усатого майора, а майор размахивал руками и грозился нас посадить. Через некоторое время мы удалились со склада. Отойдя немного, мы легли в канаву, чтобы перевести дух и перекурить. Я посмотрел на Герду, он был весьма вспотевший. «Пора!» – сказал он мне, и я побежал за лошадью, стоявшей в кустах в стороне от дороги. Я подогнал подводу, мы сели в неё – и прямо на склад. Первое, что сделал майор, теперь он набросился на часового. «Опять сидишь в яме!» Майор, ещё больше распаляясь, подошёл к часовому, взял у него винтовку и передал её мне. «Сержант, снимите с него ремень, арестованному не положено брюхо перепоясывать!» – и он объявил солдату трое суток аресту, а сержанту сказал, что он пойдёт под суд. «Отведёшь его на гарнизонную гауптвахту!» – качнув головой в сторону солдата, приказал он мне – «Передашь начальнику караула, что я трое суток дал! И не забудь взять расписку! Знаю я вас, проходимцев. Отпустишь дорогой, а потом вас ищи! Давай иди!». Мы вышли со склада, я повёл солдата по дороге. Пока мы медленно шли, над нами с рёвом проносились немецкие «Юнкерсы». Мы припадали к земли или вовсе ложились в придорожную канаву. Часовые, стоявшие по углам заграждения, не знаю, видели или нет спокойно выехавшую и нагруженную повозку. Мне было видно хорошо идущих за ней людей. Как только повозка исчезла из вида, я заорал на солдата: «Ложись! Самолёт прёт на нас!» Солдат прыгнул в канаву и уткнулся в землю лицом, а я бросил его ремень и винтовку и драпанул по кустам. Когда мы собрались у старшины Герды в землянке, вкатили бочку и внесли два ящика говяжьих консервов, часовые тревоги на складе не подняли. Кажется, всё обошлось благополучно. Мы уже ликовали и почёсывали пальцами под скулой, но Герда разочаровал нас: «Спирта ни грамма никому! Я же говорил, что нужно воздать велико благодарно тем потерпевшим братьям-словянам, у которых вы резали мешки». Целых два дня мы принюхивались к заветной бочке и смотрели с завистью, как старшина наливал термоса. «Не только вам, но и мне нельзя до поры прикасаться к спирту. Нужно иметь выдержку!». Мы ничего не понимали. В каждой солдатской землянке стояли термоса с кипячёной водой. Начальство опасалось эпидемии кишечных заболеваний. Место в лесу было низкое, заболоченное и сильно загаженное. Доставкой кипячёной воды занимались повозочные. С вечера они получали кипяток, и солдаты на ночь гоняли чаи. К утру остывшая вода оставалась в термосах для питья. Лес был захламлён разными отбросами, солдатам запрещали черпать воду из луж. И вот, однажды утром, в одной из солдатских землянок вскочил с нар солдат и решил испить остывшей водицы. Черпнул кружкой, потянул в себя, и дух перехватило. А когда отдышался, полез в мешок за котелком. Чуть звякнул им, как на нарах ещё две головы поднялись и вылупили глаза. Солдаты – народ решительный. Не успел один отойти от термоса с наполненным котелком, как в тот же миг у термоса оказались ещё двое. Никто никого не спрашивал, откуда спиртное, никто никого не будил. Что это за Христово чудо свалилось на их землянку? С вечера в термосе была вода, к утру чистой слезой пробивает спиртом. Все успели хлебнуть, а некоторые и нализаться. Ещё через час волшебная жидкость из солдатских котелков попала в соседнюю роту. Шёл бойкий обмен на сахар и на махорку. Все почему-то шептались, делали серьёзные лица, а рожи у всех были красные и с них не сходили улыбки. Когда всё было выпито, обмен и выдача в долг прекратились, солдатики были уже во хмелю. Кто кого угощал и поил, кто сколько выпил, кто первый открыл это чудо, и было ли оно вообще – никто не мог сказать. Ещё через час у всех на душе стало жарко. Офицеры рот сначала удивились, что солдаты с раннего утра затянули песни. Но солдаты не изверги и не злодеи, они помнят и ценят своих ротных офицеров. Они через ординарцев уже передали им налитую по горлышко завинченную фляжку. Днём спирт появился ещё в одном полку. А к вечеру весь лес обсуждал необычное происшествие. Когда в политотделе узнали про спирт, и к ним доползла весёлая весть, стали искать, где спирт появился в самом начале. Хотели найти первоисточник. Но после долгих спросов и поисков ничего не нашли. В этой десятитысячной солдатской массе отыскать руку агента и вражеского лазутчика не смогли. Пришли к выводу, что пьяные снабженцы потеряли бочку со спиртом, следуя по дороге, а теперь молчат. Хмельного и пьянок больше не обнаружили. На этом поиски прекратили, но спирт тихой сапой помаленьку продолжал ползти. Прошло ещё несколько дней. Однажды утром на перевалочную базу был подан эшелон с боеприпасами под разгрузку. Товарных вагонов было немного, всего десятка полтора. В вагонах лежали ящики со снарядами, минами и патронами. Но половина вагонов, что была в голове состава, была нагружена реактивными снарядами М-20 / «Катюш»/. Разгрузкой этих вагонов должны были заниматься сами ракетчики. Наших солдат к секретному грузу не подпускали. Около вагонов стояла специальная охрана. Реактивные установки в то время на фронте применялись не часто. Боевым частям они не подчинялись и находились в ведении штаба армии и фронта. Их держали в резерве и выбрасывали вперёд только на самые ответственные участки фронта. Обычно к линии огня они подвигались скрытно. Подъехав, выпускали залп и сразу уезжали в тыл. Для разгрузки обычных боеприпасов на перевалочную базу направляли наших солдат. И в этот раз стрелковые роты были посланы к вагонам, стоявшим в хвосте состава. Небо совсем просветлело, когда паровоз, расцепив эшелон на две части и отогнав их несколько друг от друга, ушёл куда-то на перегон. Вагоны с реактивными снарядами стояли отдельно под охраной. А те, что были с обычными боеприпасами, их стали разгружать наши солдаты. С вагонов сорвали пломбы, открыли двери, положили покатые сходни, сняли верхние ящики, уложили их на спины солдатам; небо совсем просветлело. Вдали послышался гул немецких самолётов. Немцы как будто ждали этого момента. Солдаты побросали на землю ящики и разбежались, кто куда. Самолёты спокойно, не торопясь, пролетели над эшелоном, расцепленным на две части. \Первую порцию фугасок и зажигалок они бросили туда, куда убежали солдаты.\ Два самолёта впереди и сзади с первого захода разбомбили полотно. Состав оказался отрезанным. Обе отдельные части вагонов были обречены. Немцы сделали заход, сбросили бомбы и развернулись снова. Они снизились над полотном, прошли вдоль вагонов, над вагонами взметнулись всполохи пламени, послышались частые взрывы, и вагоны пустили дым. Сквозь стенки, окна и двери стали пробиваться языки пламени. Горели ящики со снарядами и минами. Но вот показался густой чёрный дым, и воздух сотрясли мощные взрывы. Для немцев этот налёт был очень удачным, снимки получились эффектными. Мы стояли на опушке леса и смотрели, как взрывались снаряды и мины. Вот один из вагонов вздрогнул, приподнялся над полотном, окутался дымом и мощный взрыв разбросал его на куски. В другом подожжённом вагоне, по-видимому, лежали винтовочные патроны, потому что оттуда послышалась частая беспорядочная стрельба. Но вот и в вагонах, где лежали реактивные снаряды, окна и двери тоже лизнуло пламя. Сейчас вагоны взметнутся, подымутся над землёй, раздастся мощный неистовый взрыв, и он разнесёт всё кругом: и рельсы, и шпалы, и насыпь, и проволочные заграждения полетят в стороны. Мы пригнулись, ожидая взрыва, и смотрели туда. Он мог прокатиться над лесом каждую секунду. Но к нашему удивлению взрыва не последовало. Из горящих вагонов стали вылетать подожженные реактивные снаряды. – Вот это веешь! – воскликнул кто-то из стоявших на опушке солдат. Когда такой снаряд вылетал на простор из горящего вагона, сзади остервенело скрежетало и било огромной силы длинное пламя тягового заряда. Один снаряд выскочил и сразу взмыл вверх, описывая плавную дугу. Потом он приблизился к земле, скользнул легко по ней и стал рыскать, в кого бы угодить. Снаряд, скользя по земле, разгонялся ещё быстрее и со страшным рёвом, запрокинувшись носом вверх, снова взмывал в воздух и пролетал над лесом, где, разинув варежки, стояли мы. Следующий снаряд из вагона вывалился плашмя на землю. Он, подпрыгивая над ней, стал поднимать облака пыли, песка и гравия с полотна дороги. Вот его хвост приподнялся, голова зарылась в землю. Сейчас он взорвётся – мелькнуло у нас в голове. Но он не взорвался, он несколько раз ковырнулся и, замотав, как бык, головой, ринулся вперёд и исчез в облаке пыли и дыма. – Они без взрывателей! – крикнул кто-то. Мы стояли у своей землянки и смотрели на горящие вагоны и на вылетающие оттуда огненные чудовища, которые со скрежетом и воем пролетали метрах в ста от нас по кривой. Снаряды вылетали из вагонов, ударялись о землю, подпрыгивали вдруг на месте и, задрав своё рыло, неслись с рёвом вверх. Их вагонов они вылетали в разные направления. Многие теперь, скользя по буграм и кочкам, неслись прямо на нас. Они бросались из стороны в сторону, обжигая за собой деревья и траву. Они громыхали и дико ревели уже у наших землянок в лесу. Они наводили ужас и страх на людей. Они ползли и вертелись на месте, вдруг замирали, потом вмиг оживали и снова бросались вперёд. Лес огласился рёвом и скрежетом, они неслись на наши землянки. Представляете, такая огненная чушка пролетает у вас над головой. Или ещё хуже, когда она проскакивает между ногами у бегущего по дороге солдата, обдавая его жаром и пламенем. Ну, а если пролетит под брюхом у привязанной к телеге лошади, что будет тогда? Можно себе представить, что творится с перепуганным животным или с обезумевшим от страха бегущим по дороге человеком. А когда такой «зрячий» снаряд залетал в проход землянки, где на нарах и на полу сидели и лежали солдаты, что там творилось? Один снаряд угодил в извилистый ход сообщения, где обычно прятались солдаты при налётах немецкой авиации. Представляете себе, когда такая огненная стрела мчится по ходу сообщения, обходя все извилины и скребя по дну головой? Как оттуда выскакивают братья-словяне. Куда там быстрота стаи пингвинов, когда они удирают из воды от моржей. В конце окопа эта штучка роет носом землю, бьётся и бушует, беснуется в неистовой силе и, встав на дыбы, обдав огнём и жаром всё сзади себя, прыгает к вершине деревьев и взлетает куда-то в вышину. Представляете, если сотня таких снарядов носятся с бешеной скоростью по лесу, одержимо ревут, прыгают и мчатся в сплошном хаосе и беспорядке. Вот в немецкие окопы запустить бы таких с десяток! Славный бы был переполох! А что творилось с нашими солдатами, которые только то прибыли и ни разу не побывали под хорошим обстрелом! Человек не знает, что может случиться, куда он может спрятаться, где уберечься. Людям казалось, что весь лес охвачен рёвом и пламенем, что земля вокруг взбесилась, что кругом всё гибнет и сгорает в огне. Какую можно было подать солдатам разумную команду, крикнуть что-то толковое? Мы стояли около своей землянки и непрерывно вертели головами, ожидая каждую секунду подлёта снаряда с любой стороны. Но в какие-то моменты мы забывали даже о снарядах, когда перед нашими глазами возникали страшные и смешные сцены. За одним солдатом вокруг насыпи землянки целых несколько кругов гонялся реактивный снаряд. А когда солдат выдохся и, обезумев от ужаса, полез на дерево, снаряд задрожал, словно почуяв, что жертва ушла от него, что сумела улизнуть куда-то. Снаряд заворчал, мотнул головой, прицелился, выбросил пламя и полетел в соседнюю роту. Подобные моменты были настолько поразительны и необычны, что солдаты стали роптать о сверхъестественной силе. У солдат создалось впечатление, что эти металлические цилиндры живые и способны осязать, зреть и дышать необузданной огненной злобой и силой. Но вот скрежет и рёв постепенно начали стихать. Все облегчённо вздохнули. По звукам и рёву в лесу мы сразу почувствовали, а затем осознали, что новых их нет, и наступает спад. Новые пришельцы не появлялись, а у этих кончился заряд. Хвостатое пламя остепенилось, заметно поникло и только сопело. У снарядов больше не было силы взлетать. Они ползали по земле, многие неподвижно лежали, дрожали мелкой дрожью. Другие успели оцепенеть, и из их хвостатого оперения понемногу выплёскивалось яркое пламя. У некоторых стабилизаторы попали в лужи, они шипели и пускали пары. Силы сдвинуться с места у них уже не было. Тяговый заряд сгорел и иссяк. Солдаты сразу воспряли духом, разогнули \колени, расправили\ плечи, послышались разные шуточки, матерные словечки. Конечно, не всех охватила паника, безудержный страх и слепое отчаяние, не все бегали и носились по лесу. Некоторые, кто побывал на передовой, стояли около землянок и посматривали, с какой стороны появится пугало. Но была и паника. Для кого страх и паника, а для кого просто потеха! Картина паники и полёта снарядов была бесподобна. Но как только снаряды притихли и замерли, нашлись и такие, у которых сразу руки зачесались, которым не стоялось на месте. Они из любопытства пошли посмотреть, пощупать руками, побежали сразу к снарядам. Нашлись и такие, отъявленные лихачи, которые тут же, растопырив ноги, стали поливать струёй раскалённые ракеты. Струя шипела и брызгала, и над ракетой поднимался клубами пар. Солдаты толкались у ракет, хотя головной заряд мог и не выгореть. Он мог вдруг взорваться, но это, после пережитого, мало волновало кого. Важно было другое \, чтоб другие из землянок видели, что им наплевать на ракеты и на всё\. Они пинали ракеты ногами. Там и тут сбились кучки солдат. Они высказывали своё мнение и слушали бывалых людей. Теперь тут же стояли и те, которые только что от страха чуть в штаны не наложили. А что? Со страху у солдат бывает и это. Подходили и ротные офицеры. Страшновато, конечно, было от рёва \и хвостатой сигары. Все и боялись, что снаряд ударит в дерево и разнесёт всё вокруг. А раз при ударе не взрывается, то чего его бояться!\. Какая тут опасность, когда ни одного во всём лесу не разорвало на куски. \Лежат они теперь на земле и потихоньку сопят.\ А говорят, что они секретные! А чего тут секретного? Железо кругом и боле ничего! Сгоревшие снаряды с дороги убрали, стащили их в канавы и рвы. Потом появились сапёры, сгрузили их в телеги и увезли. Эшелон с боеприпасами сгорел \ и взлетел в воздух. Почему состав пришёл с большим опозданием? Почему его оставили без прикрытия с воздуха? Где была наша авиация? Аэродром и наши доблестные соколы жили в деревне совсем недалеко. А немцы летали совершенно в открытую. Что-то совсем не понятно! Солдаты говорили разное, но снаряды, ракеты и мины пропали\. С точки зрения крещения солдат-новобранцев, трескотня и рёв сыграли свою положительную роль. Страху, как следует, нагнало! Теперь взрыв десятка снарядов им будет нипочём. Убитых в лесу не оказалось, обожжённых несколько нашлось. Им повезло. Их тут же перевязали и отправил в тыл. Теперь новички перестали вздрагивать при немецкой бомбёжке. И теперь, когда бомбы сыпались на станцию, солдаты \на них совсем не обращали внимания\, ходили по лесу, спустя рукава. \Солдаты прекрасно понимали, что при выходе их на передовую, там их ждут пострашнее дела. И они восприняли случаем ниспосланное испытание как должное и солдатское дело.\ Одним это пошло на пользу. Им нужно было попробовать себя под рёвом, под огнём. Тыловики и интенданты, выпучив глаза от ужаса, тряслись и метались по лесу, потом они сбежали совсем. Вот кому пришлось пережить смертельный страх. А что фронтовики? Они и не такое видели! Вскоре было принято решение рассредоточить полки и роты, развести по всему району. Солдаты на новых рубежах должны были строить резервную линию обороны. Роты людьми были пополнены, оружием укомплектованы. Стоять и топтаться без дела на одном месте по всем соображениям было неразумно. Когда солдаты бездействуют – жди происшествий. «Майор Малечкин А.И.» Лес опустел, землянки были заброшены, дороги и тропинки в низинах заплыли лужами. Лужи замёрзли, покрылись тонким, хрустящим льдом. На деревьях нависли сосульки. Однажды утром пошёл крупный и мокрый снег. Зима навалилась на землю первым снегом. Солдатам выдали валенки, зимние шапки и перчатки. В тылах и обозах повозки поменяли на сани. Начальство обзавелось лёгкими ковровыми саночками, такими, в которых когда-то московские извозчики-лихачи развозили достойную публику. Ординарцы, вестовые и повозочные, приставленные к начальству, надели новые полушубки. А фронтовые солдатики, поддев под шинели ватные телогрейки и стёганые штаны, остались такими же шинельного цвета серыми. Они долбили схваченную морозцем землю, вели хода сообщения, строили землянки и блиндажи. Дивизия перешла на новое место. Пулемётный батальон был развёрнут поротно на новом рубеже. Нам приказали строить пулемётные гнёзда и убежища для солдат в земле. Штаб батальона стоял в деревне, которую занимали авиаторы. В один из ноябрьских дней из дивизии к нам прибыл Майор Малечкин Александр Иванович. Он был назначен к нам командиром батальона. Ему тогда было около двадцати пяти. Был он небольшого роста, плечист, ходил как-то вразвалочку и иногда даже себе подпевал: «Я милого узнаю по походочке…». Он был очень подвижен, не мог усидеть долго на месте, ему всегда чего-то не хватало, и он постоянно куда-то торопился. У него было простое русское лицо. На ходу он любил бросить шуточку, ввернуть острое словечко. Он никогда ни о чём особенно не задумывался. Всё, что относилось к делу, он тут же решал. Жизнь в нём кипела и бурлила. Он был счастлив и собой доволен. Положение у него было крепкое, он был на хорошем счету. Образование он имел небольшое. В военных картах он не любил разбираться, поручал это дело всегда мне, зато в других картах он не имел себе равных. Он не стеснялся с нами перекинуться в картишки. И с озорством, с какой-то лихостью садился за стол и играл в любую игру. Уследить за ним во время игры было невозможно. После игры он вставал, окликал своего ординарца, тот выводил ему осёдланного коня, он выходил из избы, садился в седло и мчался, как он говорил, по неотложным делам в дивизию. Во внутренние дела рот он особенно не вникал, показывал на меня пальцем и грозил кулаком в мою сторону. – Ты этим займись, всеми делами. Ты у меня начальник штаба, – в пулемётной технике он, можно сказать, не соображал, – Ты специалист-пулемётчик, имеешь боевой опыт, ты давай в дела и вникай! В батальон он обычно возвращался к вечеру, зайдёт в нашу избу, побалагурит, расшевелит всех, по дороге прикрикнет на повара и пойдёт к себе. Он любил поесть сытно, но его мало интересовало, откуда повар всё брал, как и перед кем отчитывался. Повар его страшно боялся. – Ты знаешь, что говорил Пётр I? – Никак нет, товарищ гвардии майор! – Тебя, жулика, расстрелять мало. Если интендант месяц около кухни повертелся, его запросто вешать надо. Безо всякой проверки и сразу в расход! Интендант батальона, старший лейтенант административной службы, тоже во всю старался и кое-что поставлял к столу майора. – У солдат из котла, наверное, мясо спёрли! Обжарили с лучком, нате, ешьте, товарищ гвардии майор! – Ну что Вы, товарищ майор! Разве мы это позволим! – А, понятно! Вы это мясо им и не клали в котёл! Ну и прохвосты! – Что Вы, на самом деле, товарищ гвардии майор? Что мы, одного прокормить не можем? У нас по другим каналам на Вас на одного можно достать, вот мы и достаём. – Так-так, бери выше! На складах, значит, обвешивают солдат! Повар, как половой харчевни, со сковородкой в руке выглядывал из-за спины своего хозяина. Хозяин харчевни – интендант – стоял навытяжку перед майором. Майор сидел за столом, а повар – «человек» с накинутой на руку портянкой – толкался несколько в отдалении. – А портянку к чему на рукав повесил? Наверное, с вонючей ноги смотал? – Никак нет! Со стола смахнуть! Специально для Вас держу! Она, товарищ майор, диетическая! – Какая-какая?!! – Гигиеническая! – поправляет интендант. Я и командир роты сидим в углу у окна на лавке, мы подыхаем со смеху, и майор от души смеётся. Спектакль он разыгрывает для нас. Но, видя, что они для него стараются и лезут из кожи вон, он, наконец, смиряется и умолкает. Интендант, уловив, что гроза прошла, из-под себя делает взмах и вполоборота, рыча в сторону повара, произносит: «Давай!». Повар стоит на полусогнутых сзади, выставил вперёд сковородку и поплыл к столу. Майор качает головой и говорит вслух: «Ох, и жрать охота!». Повар тут как тут. Майор берёт вилку и принимается за еду. Интендант поворачивается и уходит. Повар моргает глазами, пятится задом к двери. Он кивает глазами ординарцу, мол, сковородку опосля принесёшь. Майор, проголодавшись, наваливался на еду и лукаво посматривал на нас. Но вот он закончил, отодвинул сковородку, обтёр ладонью рот и обтёр её об штаны, кивнул головой ординарцу: – Понесёшь сковородку, жуликам шепни, скажи, мол, слышал разговор, что комиссия политотдела дивизии будет проверять, как кормят у нас в батальоне солдат. Понял? Ну, что у Вас? – обратился майор ко мне, – А! Да-да! Вспомнил! Сейчас оденусь, пошли! Майор надел полушубок, накинул портупею, затянулся ремнём. Внешний вид у него был щеголеватый. Рукава полушубка закатаны белым мехом наружу, валенки тоже отвёрнуты, на манер модных бареток. Грудь у него всегда была нараспашку, а на ремне медная пряжка в виде звезды всегда блестела. Она каждый день тёрлась зубным порошком. – Сегодня тёр? – спрашивал он каждый раз по утрам своего ординарца. В батальонном обозе он выбрал себе коня, сменял его на жеребца в дивизии, достал где-то никелированные звонкие шпоры, нацепил их на валенки и, цепляя ногу за ногу, прохаживался перед строем солдат и звенел. За короткое время он завёл себе в дивизии друзей и знакомых, пока солдаты рыли окопы и накатывали блиндажи. Малечкин до войны жил где-то в городе Горьком, там осталась у него семья – жена и ребёнок. Он показывал мне фотографию жены и сына, она и сейчас у меня перед глазами, как будто я её видел вчера. Раньше Малечкин в нашей дивизии не служил. Он прибыл к нам после ранения. Он успел побывать на фронте, водил в атаку стрелковый батальон и заработал орден «Александра Невского». За что, и при каких обстоятельствах он отличился, он не любил рассказывать. Вскоре в батальон был назначен комиссар, худощавый капитан /или, как его называли, старший политрук/. Он был несколько старше майора, держался спокойно, говорил мало и всегда со всеми был вежлив и обходителен. Штаб батальона занимал одну избу, а капитан с майором размещались в другой. Их изба стояла на отшибе в конце деревни. Авиаторы нам выделили две избы. Одна изба у них была занята до нас караульной службой, а в другой размещалась губа. Обе избы были грязными и замусоренными, с забитыми окнами и без стёкол. В остальных домах располагались службы аэродромного обслуживания, САО, и в другом конце деревни жили лётчики. Мы поселились в деревне временно. А так как охрану и посты поставили мы, то им пришлось потесниться на эти две избы. Кроме двух столов и деревенских лавок авиаторы нам ничего не оставили. У них на губе солдаты спали на кроватях. Мы спали на полу и с вечера топили русские печи. В штабную избу, она была побольше, приходили ночевать офицеры рот, а солдаты жили и спали в пустых нетопленных сараях. Зима, налетевшая на поля и дороги, надолго нависла над землёй тёмными тучами и нелётной погодой. По деревне без дела слонялись лётчики и технари. Они иногда останавливались, смотрели на наших солдат, рывших землю, улыбались и шутили, что они не так втыкают в землю лопаты. Все они жили в натопленных избах, спали на кроватях с подушками, простынями и одеялами, питались в своих лётных столовых и ходили в буфеты, как их тогда называли – абрамторги. Авиаторы ходили по деревне всегда чистенькие, гладко выбритые и как девки надушённые. Некоторые из них для фасона по холоду носили хромовые сапоги и фуражки с капустой. Наши солдаты не пропускали их шуточки мимо. От взгляда и слуха солдат не ускользали улыбки и подковырки. Они тоже начали авиаторам отпускать ехидные словечки. Поддевали их за самое живое, так, что те стали жаловаться своему начальству: «От этих гвардейцев нигде проходу нет!». А наши им при встрече высказывали: – Ну что, славные соколы, наложили в штаны? Немец уже второй месяц бомбит железную дорогу, а эти всё брызгают себе в харю одеколоном, вонь распустили, как от гулящих девок несёт! До железной дороги тут хода пешком два часа, а они, вояки, фасон да камуфляж здесь наводят. Ходят в фуражечках по зиме, перед бабами красуются, а немец летает себе и бомбит перевалочную базу. Вояки занюханные! Кроме пулемётных гнёзд и ходов сообщения наши солдаты строили для авиаторов блиндажи и укрытия на случай бомбёжки. И видя эту несправедливость, видя, как без дела шатаются белоручки и лоботрясы, солдаты не стали давать им прохода. – Боитесь, несчастные, налётов? Готовите себе отхожие места? – и после выкриков, насмешек и дружного неистового свистав них со всех сторон летели снежные комки. Солдаты-гвардейцы теперь ходили по деревне, как хозяева. Они никому не давали спуска и никому не уступали дороги, делая вид, что не замечают встречных, а те, боясь испачкаться о затёртые глиной шинели, обходили их по глубокому снегу стороной. Возможно, обстановка накалилась бы ещё больше, но мы получили приказ и в одну ночь исчезли в снежных просторах. Дивизию выводили на передовую. Было начало декабря сорок второго. Мы должны были сменить потрёпанные в боях пехотные части. К утру все роты собрались в лесу, там стоял готовый к отъезду обоз. Батальон построился в походную колонну, майор зачитал короткий приказ. Мы вышли на дорогу, под ногами скрипел твёрдый снег, в лицо хлестал холодный и колючий ветер. Кое-где на буграх поднималась и слетала лёгкая снежная пыль, ветер сбивал дыхание и слепил глаза. Солдаты шли, опустив головы, ветер горбил и пригибал солдат к земле. Майор не обращал внимания на ветер и на летящий снег. Он сидел в седле, верхом на своём жеребце, позвякивал шпорами и потягивал поводья. Жеребец фыркал, рвался из-под седока и парадной, торжественной рысью переступал с ноги на ногу. Майор наш вперёд ехать не торопился, он повернул голову коня так, чтобы он шёл боком по дороге. Важно было всем показать, что он умеет держать лошадь, как надо, и что идти вперёд на врага – это дело доблести майора и солдата. Все пешие опустили и завязали шапки, подняли воротники, пригнулись к дороге, и только он, их командир, выставив грудь вперёд и несколько откинув верх голову, танцевал на коне перед ними на дороге. Майор любил эффектные позы. Он считал, что это подымает дух у солдат. Подвигаясь вперёд, он улыбался колючему ветру. Он своим видом хотел показать, что прикажи нам сейчас дивизия, и батальон ринется в бой и будет немца гнать до самого Смоленска. Майор показывал солдатам себя со всех сторон. Его конь то топтался на месте, то бросался вперёд и мчался галопом, майор нахлёстывал плетью своего жеребца. Жеребец храпел, выкатывал карие глаза, и из-под задних копыт его летела снежная пыль и комья снега. Солдаты посматривали на своего командира и восхищались им. «С этим не пропадёшь!». Я тоже в уме перебирал своих бывших командиров и начальников, в них не было такой лихости и мощной силы. Они хоть и ездили в ковровых саночках, около них, выпятив грудь, тянулись сытые рожи денщиков, вестовых и охраны, но сами они имели жалкий и невнушительный вид. У нашего майора было радостное и торжественное лицо. Он был счастлив и доволен, что, бросив всякие ненужные тыловые работы, батальон уходил на передовую биться с врагом. Впереди батальона шёл командир пулемётной роты старший лейтенант Столяров. Я шёл сзади батальона, подбирал больных и отстающих солдат и сажал их на повозки обоза. У меня была тоже лошадь под седлом, но я шёл пешком, а она шла, привязанная за уздечку в обозе. Я посматривал на свою мохнатую невзрачную кобылёнку, на неё накинули одеяло, и она тащилась за передними санями обоза. Лошадь мне нужна была на всякий случай, если по колонне передадут: «Начальника штаба вперёд!». И укрыта она была, чтобы сильно не остыла, чтобы можно было её сразу пустить по дороге галопом. Обоз шёл ходко. Деревенские сани на твёрдом снегу скользили легко. Они поскрипывали, сползали с колеи, зарывались в пушистый снег и так же легко выползали на середину дороги. Окованные железом полозья попискивали на снегу. От лошадей шёл пар. Повозочные подёргивали вожжами, лошади мотали головами. Не многие из солдат знали, что ждёт их впереди. На их лицах особой радости не было. Свои мысли каждый из них переживал по-своему. Идти в валенках без привычки было неудобно. Ноги скользили и разъезжались в стороны. Но путь был далёкий, и вскоре мы втянулись в зимнюю дорогу, снег хрустел под ногами. Роты растянулись. Когда идёшь по неширокой зимней дороге, узкая колея, пробитая и укатанная санями, и рыхлая стёжка, взбитая копытами лошадей, не позволяет идти и глазеть по сторонам, всё время приходится смотреть себе под ноги, выбираешь, где лучше ступить и где твёрже земля. А горизонт уплывает назад. Видно, как впереди перед тобой мелькают пятки солдатских валенок, или пошатываются сгорбленные фигуры, спины, запорошенные снегом, и винтовки, перекинутые через плечо. Медленно ползёт земля под ногами. Мороз и метель по-прежнему хлещут в лицо. Но вот колонна встала и сбилась в кучу. Солдаты поворачиваются спиной к ветру и присаживаются в снег. Обозные пристроились на край саней, а некоторые, подогнув колени, медленно опускаются на край дороги. Уставшее войско село на снег. Все видят молча, не спрашивая, почему передние встали. На далёком переходе в снежную пургу никому не до вопросов и тем более не до разговоров. Хорошо ещё, немцы в такую погоду не летают. На дороге случился затор, и люди рады были перевести дух и дать отдохнуть ногам. Солдаты думали, что их майор по-прежнему скачет где-то впереди и подаёт команды. Майор давно уже не нахлёстывал плетью своего жеребца. Он подъехал ко мне и сказал: – Начальник штаба, веди колонну! Я, видно, простыл. Меня что-то знобит. Он отъехал в конец обоза, забрался в сани, его укрыли брезентом. Я подтянул у седла подпруги, сел верхом на свою мохнатую лошадёнку и, обгоняя по целине лежащих на снегу солдат, подался вперёд к первой пулемётной роте старшего лейтенанта Столярова. Я подъехал, спрыгнул на землю, отдал уздечку стоявшему рядом солдату и увидел впереди развалившийся мост. Здесь перед нами прошла колонна, мост не выдержал, гнилые брёвна рухнули. Пустить людей и обоз по льду, в объезд через ручей, было опасно, и командир роты остановил колонну. Ручей неглубокий, но все вымокнут. Но мосту провалились поперечные брёвна. Нужно было заменить их новыми. Я велел командиру роты взять из обоза поперечную большую пилу и послать в лес солдат за новыми брёвнами. Мы стояли у ручья. Время тянулось медленно. – Что встали? – спросил майор, высунув голову из-под брезента. – Затор на дороге, товарищ майор! Передали, что мост провалился! Начальник штаба поехал туда. – Возьми лошадь и поезжай туда. Передай старшему лейтенанту, чтобы долго не копались. Солдаты принесли из леса спиленные брёвна. Их положили вместо провалившихся, солдаты перешли на другую сторону ручья, за ними по накатам моста пошли лошади обоза. Я ушёл вперёд с первой ротой. К вечеру мы подошли к хвойному лесу и остановились на привал. Солдатам полагался отдых и кормёжка. Мы выбрали подходящий съезд с дороги на опушку и, протаптывая первую, рыхлую борозду в снегу вошли в лес. В лесу было тихо и безветренно. Ветер шевелил только верхушками мохнатых елей. Костров и огней разводить не полагалось. Солдаты быстро сбились в кучки, нарубили свежего лапника, набросали из него себе лежанки и повалились спать. Через некоторое время подошли наши кухни, и вот среди ночи поднялся галдёж, послышался стук котелков, тёмные тени солдат замелькали среди повозок. Через час людей накормили, они успокоились, лес снова притих. Только часовые, постукивая обледенелыми варежками, ходили, покачиваясь и ёжась от мороза. Серое утро пришло медленно и незаметно. В лесу немного потеплело, в воздухе закружились снежинки. За ночь всех лежащих в санях и на земле на зелёных подстилках запорошило свежим снегом. Когда я поднялся и огляделся кругом, то в лесу увидел белые неподвижные бугорки и нагромождения. Если бы с вечера я не видел, где стояли сани, лошади и где лежали люди, то сейчас по этим белым снежным буграм не понял бы, что здесь лежит и спит наше войско. Да и сани с поклажей, засыпанные снегом представляли собой причудливые лесной снежный завал. Лошади, с вечера укрытые попонами, стояли неподвижно и походили на огромные лапы елей. Перед глазами предстало какое-то занесённое снегом мёртвое царство. Под снегом было тепло и тихо. Я подошёл к саням, где лежал майор, откинул брезент со стороны головы и хотел разбудить его. Но майор вдруг открыл глаза. – Я, наверное, простыл и заболел, – сказал он хриплым сиплым голосом, – У меня, вроде, температура. Я снял варежку, положил ладонь на лоб майора, голова у Малечкина действительно была горячая. – Ты лежи! – сказал я ему, – Я сейчас пошлю за фельдшером. До передовой батальон я доведу сам. Верхом поеду в дивизию за получением боевого приказа. Скажу, чтоб тебе прислали врача. А пока, майор, накройся и лежи без всяких выходов. Сейчас накормим солдат и тронемся в путь. Думаю, что к вечеру доберёмся до места. Пусть тылами в пути займётся комиссар, а я с ротами пойду впереди колонны. Майор часто и глубоко дышал, воспалённое лицо и глаза у него горели. Я собрал командиров рот, дал им необходимые указания на дорогу и приказал им сделать подъём. Солдаты зашевелились, стали стряхивать с себя белые сугробы, повозочные – обметать лошадей, на кухне давно шла работа. Старшины резали хлеб, рассыпали по кучкам махорку, попахивало дымком, солдаты похаживали в ожидании съестного. Это была первая стоянка в пути. Нужно было накормить солдат до выхода на дорогу.
* * *
Текст главы набирал Сергей@ic-design.ru
19.09.1983 (правка)
Ноябрь-декабрь 1942

До выхода на формировку мы воевали на восточной стороне города Белого. Теперь, получив пополнение, дивизия должна была подойти к городу с юго-западной стороны. Нам было приказано срочно выйти в район деревни Батурино и Причистое. На этом участке мы должны были сменить потрепанные в боях части корпуса Соломатина. Они вели наступательные бои, перерезали дорогу Белый-Духовщина, сумели прорвать укрепления полосы обороны немцев, но понесли большие потери. Теперь обессилив, они могли не выдержать удара немцев и потерять захваченные рубежи. Немец мог в любой момент нанести им ответный удар и отбросить их за дорогу. Вот причина, по которой мы должны были спешить. Дорога Белый-Духовщина была для немцев важной жизненной артерией, по которой шло снабжение войск стоящих в Белом. Других большаков на Запад здесь не было. Это была единственная дорога, соединявшая немецкие войска с тылами в Смоленске. Теперь мы выходили к Смоленской дороге с другой стороны. Мы шли со стороны непроходимых болот и лесов, которые называли Батуринские болота. Пути человека неисповедимы. Они идут непонятными замкнутыми кругами. Несколько таких кругов мне пришлось сделать вокруг города Белого. Многие мои боевые товарищи остались на этой земле, не успев завершить и половины витка. А мне, как видите, повезло покружить вокруг этого города. Два раза мне пришлось обойти вокруг города Белого, Посидел я и в ледяном подвале, где теперь Заготпункт, воевал на мельнице, которая сгорела на моих глазах. Брал Демидки, воевал в Струево, стоял в обороне на окраине города около больницы, но в самом городе не разу не бывал. Однажды ночью ходил на окраину брать языка, но кроме метели и снега в темноте ночи ничего не разглядел. Да и в такие тревожные и напряженные минуты смотришь за обстановкой только вокруг себя. Я не рассказывал вам об этом небольшом эпизоде, но надеюсь, что потом расскажу. Не разу не пришлось мне пройтись по улицам города, окинуть их взглядом и посмотреть на дома. Остановиться, осмыслить и почувствовать характер и облик города Белого. Короткие зимние дни и длинные ночи смотрели мы в его сторону, подолгу вглядывались в неясные очертания домов. Мы пытались представить себе этот город. У нас сложилось своё представление, но оно было не верным, когда я увидел город после войны. В течение очень долгого времени у меня было желание увидеть город, за который было пролито так иного крови. Я не раз задумывался и задавал себе вопрос, что это за город, вокруг которого мы всё время топчемся и теряем людей. В моём воображении он оставался не белым, а кроваво красным! Много раз я видел его во сне, там внизу за кромкой края окопа. Это был город моей военной юности, город отнявший стольких солдат. Сколько раз пришлось обойти вокруг этого, как мираж, белого города. Дорога из Белого на Смоленск шла по твердой земле. Сначала она обходила Батуринские болота по краю холмистого поля, потом она постепенно забиралась всё выше. И где-то в районе Батурино-Пречистое переползала через водораздел. Деревня Батурино стояла на господствующей высоте. Справа к дороге подходили леса и болота. Немцы такие места всегда обходили стороной. На болота, топи и мхи они поглядывали с опаской. Без танков и пушек немцы не воевали. Немецкая пехота побаивалась топких с болотной хлябью мест. Они избегали гниющих завалов леса. Бездорожье для них считалось непроходимой местностью. За время войны их солдаты не разу не сунули нос в эти места. Батуринские леса долгое время никем не были заняты. В них скрывались в основном местные дезертиры. Одного взгляда на карту достаточно, чтобы понять, что на север и запад от края дороги простираются обширные заболоченные земли и непроходимые леса. Даже зимой огромные пространства болот, покрытые мхами и снегом, не замерзали. Здесь мог пройти только русский солдат. Но не будем наивны, доверчивы и легковерны, не думайте, что русский солдат способен на всё. Всё это избитые и потёртые, как старые дырявые штаны, слова. На деле всё оборачивалось по-другому. Я шагал рядом с солдатами и смотрел, как они пошатываться. В строю были разные люди: сильные и здоровые, слабые и больные. Идёт по дороге солдат, ткнётся в снег и не может подняться. Просто мы молодые и сильные не понимали, что даже здоровому преодолеть эти болота было не под силу. Но у нас не было выхода. Чтобы идти всё время по твёрдой земле, нужно было сделать огромный крюк. У нас на это не было времени. У нас оставалось одно, идти быстрее по топкой лесной дороге. "Русский солдат должен пройти везде!" – так заканчивался приказ, который мы получили на совершение марша. А по делу дивизия должна была провести инженерную разведку пути, построить мосты, положить где нужно надёжные гати, а не просто пускать батальон по кратчайшему пути, пойдёте мол там сами разберётесь. Лесная дорога шла по лесным островам твердой земли, где почву держат корни деревьев. А кругом укрытая снегом податливая трясина и болотная жижа под мхами. В воздухе, когда идёшь, искрятся снежинки, под ногами поскрипывает снег, а попал на болото, под тобой дышит живая трясина. Не всё было так гладко, как представляло себе начальство, издав приказ на кратчайший переход. В густой болотной жиже могли погибнуть солдаты, исчезнуть повозки с грузом, людьми и лошадьми. А плавающему снегу не было конца. Зимой трясина и плывучие мхи имеют коварное свойство. Пробитая поверх них по снегу дорога некоторое время держит, а потом начинает вздуваться и уходить из под ног. По такой колее могут пройти десяток солдат и повозка с грузом, но в какой-то момент она вдруг изрыгает коричневую жижу и весь участок, по которому идут люди, вместе с дорогой уходит под снег. Густое тёмное месиво пузырясь всплывает наверх. Хорошо, что в таком месте оказалась небольшая глубина и солдаты провалившись оказались по колено в воде. Ну, а если бы обоз или целая рота идущая змейкой вдруг исчезнет под снегом вся сразу на большой глубине? В некоторых местах накатанная дорога утыкалась в свежие провалы и размоины. Какой глубины они? Удалось ли из них выбраться людям? Сколько людей могла поглотить такая полынья? Солдаты останавливались, но стоять на краю на одном месте было опасно. Снежное ложе могло провалиться и уйти из под ног. И вот кое-где на снегу под тяжестью людей появлялась вода. Начиналось паническое шараханье. Солдаты вертели головами, пятились назад. В первый момент отрыва почвы каждый думает только о себе. А потом, когда чувствует под ногами твердую почву, смотрит на товарищей попавших в беду. Они кричат, дают друг другу разные советы и когда последние выбираться на твердую землю все утихают, настораживаются и оглядываться кругом. Я шел с небольшой группой солдат впереди, мы тыкали в снег заострёнными кольями, щупали под собой твердую землю и обнаружив её край, уводили солдат и обоз в сторону от полыньи. За нами, дрожа от ветра и холода, стуча обледенелыми валенками, тащилось всё остальное усталое войско. По открытым безлесным участкам мы шли с большой осторожностью. На явно подозрительных местах вслед за солдатами пускали одну гружёную повозку и откровенно боялись, что проложенный обходной по снегу путь может в любой момент уйти из под ног в чёрную жижу. Где-то стороной прошли наши полки и их обозы. Где-то по гатям в объезд тащили пушки и боеприпасы. Впереди нас прошел стрелковый батальон, который мы при выходе на передовую должны будем поддерживать. Батальон шел без обозов налегке. А у нас пулемёты, боеприпасы и всякое другое. При проходе топких мест и провалов стрелковые роты ограждений после себя не вставили. У нас было в обычае идти и не думать о других. Идете сзади! Смотрите, куда лезете и выбирайте сами себе путь. Не большой конечно труд воткнуть перед проломом простую палку. Но для этого нужно с собой везти целый воз жердей. Лишних повозок для такой роскоши не было. Воткнёшь палку на дороге, а что она даст? Задремавший повозочный может заехать по горло в болото и только тогда проснётся когда станет тонуть. Так что постановка всяких там вех не солдатское дело. Это работа сапёров. Это немцы могут за полгода сделать замеры, настелить гати и навести где нужно мосты. А нам и так хорошо! Идём и идём! Прошли -и порядок! Главное – у нас не было времени. Мы должны были вовремя поспеть на передовую. Мы прошли по мокрому снегу, заходили в трясину, по пути солдаты промокли, валенки и шинели покрылись коркой льда. Ноги отяжелели, стали не в подъем. Солдаты могли обморозиться, но помочь им на ходу было нечем. Нельзя было после каждой переправы останавливаться, заходить в лес и сушиться у костров. Я тоже стучал оледенелыми валенками, ватные брюки на коленках хрустели. Солдаты это видели, у них тоже позамерзала одежда. В пути отбирали наиболее слабых, их отправляли в обоз. Там их переодевали, укрывали брезентом. К вечеру дорога стала петлять по сосновому лесу, почва под ногами была твёрдая, в лесу было безветренно. Все почувствовали, что скоро привал. Солдаты ускорили шаг и через некоторое время мы подошли к отдельной роще и встали на ночлег. Открытых костров нам разводить не разрешали. Но сейчас был исключительный случай. В лесу было тихо, в воздухе кружились снежинки. Погода была не лётная. Солдат нужно было срочно отогреть и обсушить, иначе батальон через час замёрзнет и окоченеет. Утром на снегу будут лежать обледенелые трупы. Солдаты услышав, что можно развести костры, достали из саней топоры и пилы. Завизжали двуручные пилы, послышались глухие удары топоров, на землю стали падать целые деревья. Стволы разрезали на короткие брёвна, в дело пошли сухие сучья. Лес сразу наполнился запахом хвои, смолистой древесины и тёплым, живым запахом огня и дыма. В лесу между повозками и стволами деревьев запрыгали огни костров. И тёмные, неуклюжие фигуры солдат засуетились около. Вот костры разгорелись, частый и беспорядочный стук топоров умолк, суета и беготня прекратились, солдаты привалились поближе к огню. Кто сушил портянки, кто ватные штаны и шинели, а кто над огнём вертел свои валенки. Солдаты грели голые пятки, шевелили онемевшими пальцами, совали застылые руки в огонь. Некоторые, расторопные, подсушив свою обувку, грели бока подвалившись к костру. Едкий дым медленно полз и крутил, поднимаясь вверх. Потом он поворачивал к земле и заставлял измазанных в копоти солдат тереть глаза и вертеть головами. Дым резал глаза, на щеках появлялись слёзы, он перехватывал дыхание, душил надрывным кашлем солдат. Но весёлый огонь делал своё нужное дело. Он грел промокшую и озябшую на ветру солдатскую душу. Дым не помеха. Главное лечь поближе к огню, так чтобы жар дошёл до костей. Лежишь, а от тебя как от бака с грязным бельём идёт во все стороны белый и тухлый пар. Приятно лежать в самой близи у огня! И вот всех по очереди начинает обходить старшина. Он железной меркой плескает каждому в кружку положенные сто грамм водки, суёт кусок чёрного хлеба. Тут нет ни толкотни, ни сутолоки. Здесь как в купе вагона у каждого своё лежачее место. Вон дым завернул и пошел на лежащего слева соседа, тот поднимается, отдувается, машет руками. А у тебя жар играет каждым мускулом и ты дышишь чистым лесным воздухом налитым хвоей. Хочешь, грей живот и смотри на мигающие огоньки, хочешь, отвернись и тепло побежит по спине приятной истомой. А как только почуешь озноб и по спине побегут мурашки от холода, поворачивайся на бок и вертись у костра сколько тебе хочется. Лицом к костру – жарит лицо, глаза покраснели, поворачивайся спину прогреть. Подашься легонько к огню и чувствуешь, как теплая струя пойдёт по самому позвонку. И от какого удовольствия и блажи закроешь глаза и хочется вздремнуть. В глазах продолжают прыгать огоньки. Важно, чтобы солдата в такой момент не вспугнули стуком котелка, хотя он его давно уже ждёт. Ведь может какой нибудь дурак крикнуть нарочно: – "Вставай братцы, кухня пришла!" Еда и хлёбово дело важное, из всех солдатских дел самое значительное, по важнее всякого сна. Но если на самом деле кухня притопала, то вставай, пошевеливайся и не зевай. И чем раньше плеснут тебе в котелок, тем ночь покажется длинней и сон будет крепче. Спи себе, да спи! Ведь больше от старшины ничего не получишь. От этой мысли солдат успокаивается и начинает зевать. Зевает во весь рот, да так, что скулы трещат. Горячие угли не сразу остынут, засыпаешь в тепле, вот что приятно. Но как говориться, хорошего без плохого не бывает. Не всем везёт выспаться у костра. Найдутся умельцы, которые во время сна прожгут себе шинели или валенки. А валенки горят тихо и почти незаметно. Солдат думает вот хорошо, ноги в тепле. А валенки уже горят. Наступает момент,когда тлеющий огонь через портянку доходит до голой пятки и резанёт её как острым ножом. Вскочит солдат и уловит ноздрёю запах горелой шерсти. Ткнет запятником в снег, а он ещё больше обожгёт паром ногу. Тут одно спасение быстро снимай сапог. Утром, когда я стал обходить пулемётные роты, погорельцев набралось не мало. У двух валенки, у трёх коленки на ватных штанах, у некоторых прогорели шапки, у других локти и полы шинелей. Но нашлись и спецы, которые ухитрились прожечь себе задницу в ватных штанах. Из мокрого, обледенелого и продрогшего до костей войска, оно превратилось в закопчённое, с прожжённый дырами и пропитанное запахом пота и гари сборище. Но оно ожило телом и душой. И при всех досадных прожогах повеселело и стало смеяться. Хохота и издевательств друг над другом было достаточно. А когда мимо солдат шествовал прикрывая рукой неудачник с прожжён задом, смеялись до слёз, до хрипа, катались по снегу, колотили ногами лёжа на спине. – Жалко не видит Малечкин эту картину. Он бы приказал немедленно поставить этому солдату мыльную клизму! – сказал я и все схватились за животы и захлебываясь от смеха повалились на снег. Мы заменили кой кому дырявые шинели и штаны, валенки, из которых наружу вываливались голые пальцы. Но на всех старых запасов не хватило. В обозе нашли старые списанные телогрейки, которыми на стоянках зимой укрывали лошадей. Всё это порезали на куски и выдали каждому погорельцу как норму на заплатки. Им приказали поставить заплатки на дырявые зады, коленки, бока и локти. После такой метаморфозы грязные, испачканные сажей, давно небритые пулемётчики стали походить на бездомных бродяг, чем на гвардейское войско. Никто ни на кого не кричал и не читал морали. Всё было естественно. Смех и ехидные замечания солдат были лучше всякой морали. Нужно и их понять. Они шли мокрые, в ледяных колодках, силы на исходе, добрались до леса, и уткнулись в костры. Утром после кормёжки батальон подлатался, построился, вышел на дорогу и пошел в сторону передовой. До переднего края оставалось километров пять, шесть, не больше. Если сказать обыденную фразу, что дивизия совершила марш, то за ней ничего, просто понятие. А тут вы представили живых людей. Солдаты идут по дороге медленно переставляя ноги.!!!Для каждого переход и марш определяет своё содержание и понятие. Для одного он может быть легким в ковровых саночках, а для других при полной выкладке тяжелым и изнурительным.!!! (Глава 18 лист 7) Одни быстро катили по твердой земле в объезд на резвых рысаках, укрывшись с головой тулупом цигейковым мехом во внутрь. Им ни ветер, ни снег в лицо нипочём, так слегка пощипывает, вроде как одна приятность. Другие рангом пониже тряслись поджав ноги в деревенских розвальнях, подхлёстывая и погоняя своих шустрых лошадок. Они тоже были укрыты бараньими тулупами, сидя спиной к ветру, покачивались на ходу. А те, на которых не было никаких рангов, которых считали на тысячи, шлёпали по мокрому снегу в разводьях болот. Они были рады летевшему встречному снегу, потому, что ненцы не летали, и в лесу можно было разложить на ночевку огонь. Я всё время думаю, кто присвоил себе славу наших солдат, кто отодвинул в неизвестность те нечеловеческие жертвы и усилия, которые принесли своей Родине эти солдаты. Кто эти сытые и довольные? Знаете кто они? А нужно было бы знать Лес поредел, мы вышли на твердую, накатанную дорогу. Через некоторое время справа и слева стали попадаться заброшенные стоянки в лесу. Кругом из под снега торчали остатки негодного и брошенного военного имущества. Тут и там разбитые ящики из под снарядов и мин, цинки из под патрон. Из под снега выглядывали сломанные колеса телеги, разбитый передок армейской повозки, рваные солдатские сапоги и какое-то непонятное тряпьё. На суку дерева висел противогаз и дырявый солдатский ботинок. Чуть дальше обрывки конской сбруи и куча почерневших от времени бинтов и испачканных солдатской кровью. Среди деревьев и сугробов были видны запорошенные снегом ровные площадки Здесь когда-то стояли санитарные палатки. Это была тыловая стоянка наших предшественников. Тылы их снялись, и покинули лес, а передовые части ещё стоят на передовой и ждут смены. Вон под деревом осталось несколько шалашей с порыжевшей хвоей, к ним вели засыпанные теперь узкие тропинки. Словом не видя ещё края леса, от которого мы должны будем свернуть вправо и пойти к передовой,мы видели, что топаем по прифронтовой полосе. Здесь наверно стояла солдатская кухня, рядом с дорогой уголь и пахнущий сыростью пепел. Здесь же валялись заготовленные впрок дрова. Мы шли и цепляли за корни деревьев ногами, повсюду валялись обрывки телефонного провода и мотки колючей проволоки. Здесь среди хаоса и леса видны были глубокие воронки от бомб. Дорога скатилась несколько вниз,а там дальше на самой опушке леса видны были лесные постройки рубленные из сырых бревен. Тут были склады, тут стояли повозки и коновязи. Не видя людей мы ещё издали учуяли знакомый запах живого. И безошибочно определили, что не весь лес покинут, что здесь идёт жизнь своим чередом. Запах жилья и дыма, людского и конского пота явственно доносило до нас слабым ветром. Пройдя ещё километра два, мы увидели, что здесь стоят тылы какого-то полка. Своих можно узнать по особым приметам. Вроде на всех шинели, шапки и валенки одинаковы. Но по тому как их носят повозочные, как на них примяты напялены шапки, где они держат варежки за поясом или пазухой, по лошадям и по упряжкам, не зная в лицо своих тыловиков, мы сразу их узнаём. Подходишь поближе и сразу видны приплюснутые физиономии повозочных. Это сибиряки. В боевых подразделениях у нас давно сменился и не раз солдатский состав. Сибиряков никого не осталось. А в обозе полков, чего им может сделается? Как были при лошадях, так и живут, славу бога. Война им хоть на двадцать лет. Лес, где стояли тылы одного нашего полка был не на высоком месте. Копать землянки даже зимой здесь было бесполезным делом. Вода была близко под мёрзлой коркой земли. Поэтому по дедовскому способу на поверхности земли ставили бревенчатые срубы и накрывали их плоскими крышами из брёвен. Получалось вроде сарая, вроде теплушки. Бревна конопатили, мха было навалом, внутри ставили железные бочки с трубами и топили сколько каждому влезет. В срубах имелся узкий проход, завешанный куском палатки или мешковины. Люди входили и выходили, садились на возки и куда-то исчезали. Между теплушками толкались солдаты, фыркали лошади, смотрели на людей и жевали сено. От куда-то выбился запах солдатской кухни. Запахло приятным запахом солдатского варева. У тыловиков сейчас была серьёзная работа. Они только что переехали. Им нужно было достроить склады, заготовить дров, подвести сено, вырыть колодцы и сделать многое другое, что требовала боевая обстановка. Когда на переднем крае начнут убивать пехоту, у них наступит передых, а сейчас при полном комплекте полков у них самая тяжёлая работа. Каждый день передовая кроме кормёжки требовала патроны, снаряды, лопаты, железные ломы, кирки и взрывчатку. Руками, схваченную морозом, землю не ковырнёшь. Рыть окопы в мёрзлой земле дело не плёвое! Нужны боеприпасы, бензин для ночных светильников, километры телефонного провода, мотки колючей проволоки. Дивизия вставала в оборону. Она растянулась на десяток километров, сменив сразу несколько потрёпанных в боях частей. -Ваш майор Малечкин здесь! – крикнул часовой, когда мы проходили мимо него с повозками и пулемётами. -Товарищ майор! Батальон подошел! Майор Малечкин вышел из теплушки. Он улыбнулся и помахал мне рукой По внешнему виду он вроде больше не болел. Он был свой, как говорят, среди полкового начальства. С марша он уехал, когда заболел и теперь поджидал нас в тылах 45 гв.полка. Нам предстояло выйти на передний край, где уже занимали оборону стрелковые роты. Тылы батальона вероятно останутся здесь, рядом с тылами полка, метрах в пятьсот от опушки леса. Мы сделали короткую остановку, чтобы снять с повозок пулемёты, коробки с лентами, запасные стволы и патроны. Одна рота встанет на Бельскую дорогу, остальные уйдут соответственно по полкам. Рота Столярова останется пока в резерве дивизии и будет стоять здесь в лесу. Три роты в сопровождении связных ушли на дальний участок обороны. Рота Самохина осталась здесь, мне предстояло вывести и расположить её на дороге. Рота Столярова должна была заняться работами, чтобы оборудовать теплушки для наших тылов. Самохин построил роту и мы пошли на Бельский большак. Впереди шел связной, я и командир роты. Было ещё совсем светло, когда мы подошли к опушке леса. Впереди с опушки открывались бесконечные просторы и снежные бугры. Они небольшими террасами уходили куда-то вверх. Оторвавшись от опушки мы сразу попали под бомбёжку. Мы не слыхали и не видели откуда появились самолёты. На передовой где-то впереди слышались разрывы снарядов. Передовая звучала обычной перестрелкой. Мы легли в снег. Сброшенные бомбы казалось летели именно в нас. Но когда они стали рваться, оказалось что они ушли далеко в сторону. Через некоторое время мы встали и медленно тронулись вперед. Снежные вершины бугров и высот были освещены солнцем. Из-за далёких высот послышался гул приближающихся снарядов. Дорога впереди покрылась всплесками взрывов. По другую сторону этого склона вниз на дорогу полетели линии трассирующих пуль. Активного боя на передней линии не было, это была обычная перестрелка. Мы шли цепочкой друг за другом. По пути мы зашли в неглубокий овраг, легли в снег и стали ждать вечера. Когда стало темнеть я вышел на дорогу, прошел несколько вперед и поднялся на бугор. Я хотел осмотреться кругом, чтобы представить себе кругом лежащую местность. Далёкие холмы и господствующие высоты пропали из вида. Кругом чуть белеющий снег, а под ногами утоптанная солдатскими ногами твёрдая дорога. Она идёт на передовую, вперёд. Командир роты Самохин вывел солдат на дорогу. Впереди пошли связные из стрелкового батальона, за ними я, потом Самохин с солдатами и сзади старшина роты с повозкой. Кое где нам навстречу стали попадаться солдаты. Мы шли по дороге, поднимались на небольшие холмы, скатывались под горку и выходили на ровное место. Но вот вдруг трога уткнулась в овраг и мы увидели людей, землянки подкопанные под скат обращенный на дорогу, стрелковые окопы и отдельные солдатские норы в земле. Это был тот самый передний край, на котором поперёк дороги стояла пехота. Впереди небольшое возвышение, а дальше, по ту сторону ровного снежного поля сидели немцы. Взглядом можно было проследить нечёткие очертания дороги, укрытой снегом и уходящей вперёд. Солдаты остановились, опустили на землю стволы пулемётов, сбились в кучу, стояли курили и ждали дальнейших распоряжений. Над нашими головами то и дело посвистывали немецкие пули. Приятно слышать знакомый посвист пуль, когда стоишь в глубине оврага, дымишь махоркой, пританцовываешь от мороза, а они летят где-то выше. По опыту мы знали, что развод пулемётов затянется на долго. Во-первых, для станковых пулемётов готовых ячеек на переднем крае не было. Нужно было выбрать места, копать мёрзлую землю и долбить пулемётную ячейку. Солдаты остались стоять в овраге, а мы с командиром стрелковой роты прошли по всему переднему краю. Мы добросовестно просмотрели его, переходя где ползком, где перебежками. Осмотрели внимательно нейтральную полосу, за которой находился немец. Огневые позиции немцев мы конечно не знали.!!!Мы знали одно, что большак Белый-Духовщина, где стоят друг против друга сильные стороны, огневую мощь будет обеспечивать пулемётная рота. И особой активности в выявлении огневых точек противника нам пока не нужно было знать, огневую систему немцев нащупают сами пулеметчики.!!! (11 лист) Здесь в овраге на самой передовой, в отличии от полковых тылов, все приспосабливалось к местности. Чего здесь только не увидишь? Здесь и сутулые фигурки солдат, и торчащие чуть выше над краем оврага макушки наблюдателей, и утоптанное дно оврага, где можно не боясь немецких пуль походить взад вперёд и размять ноги, и выкурить не прячась, свёрнутую из газеты цигарку из махрятины. Здесь солдатам раздавали хлёбово, рубили топором на порции хлеб. Здесь от норы к норе шныряли чем-то озабоченные солдатики. А вон чёрная дыра в земле, завешенная куском распоротого мешка – это вход в землянку командира стрелковой роты. В ней спал он и командиры взводов всех званий и степеней. Теперь стрелкам будет веселей – пришла целая орава пулемётчиков. Командир пулемётной роты лейтенант Самохин со взводными временно поживёт у стрелков, а завтра с рассвета начнёт копать для себя блиндаж. Сейчас важно тихо и незаметно влезть в оборону, расставить пулемёты и постепенно закапаться в землю. Если немец заметит движение, он может подумать, что славяне накапливаются для атаки. Немец откроет огонь – будут напрасные потери. Смена на переднем крае и ввод свежих сил самое ответственное дело. -Лейтенант! – спросил я командира стрелковой роты, – Давно появилась немецкая авиация? -Нет, всего второй день! Видно немцы заметили передвижение по лесным дорогам, хождение солдат по передовой. Прошло два дня, как стрелки сменили части Соломатина. Теперь и нам предстояло приспособиться к новому месту на передовой. Мы притащили с собой небольшую санитарную палатку, её поставили в овраге для отдыха пулемётчикам, пока они вроются в землю. Старшина и повозочный ушли по дороге назад, чтобы к утру на лошади доставить сюда пищу. Теперь они знали как проехать и где находиться их рота. Я наметил где должны были стоять пулемёты и велел командиру роты развести расчёты на места. Я сел в сугроб, позвал своего ординарца, велел ему достать пачку махорки и мы закурили. Я сидел, пускал крепкий дым и думал. Немец неспроста пустил сюда авиацию и два дня подряд бомбит. Немцы всегда свои атаки начинают после обработки о воздуха. Два дня назад была не лётная погода, теперь светило солнце и они вырвались на простор. Где они могут ударить? Здесь, вдоль дороги или на одной из тех высот, куда мне завтра предстояло идти? Здесь дорога, справа лес, по которому мы пришли. Слева высоты, на которых сидят немцы. Часть высот была в наших руках. Немец не пойдёт вести наступление вдоль дороги с открытым флангом, он может получить удар из болота, хотя вдоль опушки леса у нас не было ни артиллерии, ни резерва солдат. Немцы предполагают что вдоль опушки у нас идёт сплошная линия обороны. И с утра до вечера бомбят опушку леса. Завтра мне придется пойти на высоты. Отвести туда пулемётную роту. Я сидел в овраге на Бельском большаке, курил, ждал когда все пулемёты будут собранны и проверены в стрельбе. Я по голосу различал где какая может быть неисправность. Мы прошли по всей линии обороны с Самохиным, ползали по глубокому снегу, выбирались на гребень, осматривали впереди лежащую местность, говорили с командирами взводов, с сержантами – командирами расчётов, с наводчиками, заряжающими и солдатами – подносчиками патрон. После этого я ушел в тыл. По дороге вместе о нами шли полковые телефонисты. С переднего края вообще старались не ходить в одиночку. Человек мог попасть под пулемётный обстрел и остаться лежать в снегу истекая кровью. Вскоре мы добрались до тылов батальона. Я доложил майору Малечкину, что рота Самохина встала в оборону на дороге. Он поехал с докладом в дивизию, а я забрался в сани, укрылся брезентом и лёг спать. Завтра перед рассветом мне предстояло вести на высоты другую роту. Майор вернулся часа через два, разбудил меня и сказал: – Быстро поднимай роту! Через два часа приказано быть на месте! Стрелковая рота на стыке полков, расположенная на скатах высоты 245 после массированного удара артиллерии подверглась танковой атаке противника. В результате удара стрелковая рота понесла большие потери. В обороне дивизии образовался прорыв. Командир дивизии Добровольский приказал немедленно вывести на склоны высоты пулемётную роту с двумя противотанковыми пушками. -Давай бери роту и веди её на высоту. Майор достал карту и показал мне место, где мы должны будем занять оборону. -Отметка на карте сверена с противотанковым дивизионом. Пушки подойдут на рубеж самостоятельно, ты их не жди. Пулемётчики были подняты по тревоге. Командир роты старший лейтенант Столяров строил своих солдат на дороге. После того, как солдатам зачитали приказ, мы вывели роту и пошли по снежной дороге. В лесу было совсем темно. Когда мы дошли до опушки леса мы увидели чистое ночное небо, обсыпанное бесконечным количеством звёзд. День обещал быть солнечным, а погода лётной. Отойдя от опушки леса с километр мы увидели батальонную землянку торчащую под снегом несколько в стороне от тропы. До переднего края, подумал я, ещё километра два три. Успеем затемно выдвинуться на исходное положение? Командир роты, старший лейтенант Столяров был обстрелянный офицер. Солдатскую службу и технику он знал, но не любил по карте на местности разбираться. Он имел небольшое образование и сам признавался в этом. – А чего стесняться! – говорил он, – Вон в полках сидят капитаны, дай бог имеют четыре класса церковно-приходской! Они конечно куражатся перед нами, делают умный и серьезный вид, копни его по карте, он сделает вид, что ему заниматься этим делом некогда. Даже выступить перед строем солдат без бумажки не научились. Профаны и всё! Если Столяров по-хорошему и честно признался, что не сможет вывести роту по снежным буграм в указанную точку то майор Малечкин делал при этом умный и сосредоточенный вид. – Я не выйду точно на место! – сказал Столяров. – Ничего! – ответил Малечкин, – Начальник штаба тебя туда выведет. – Вот точка на карте. Я её перенёс с карты штаба дивизии. Бери азимут по компасу и топай напрямую! – А где мы стоим? – Ну брат! Это уж ты должен сам сообразить! Столяров был дотошным командиром, он не переставал задавать вопросы майору. – Ладно кончай свою болтовню! Есть приказ дивизии и ты с ротой должен выйти куда надо. И потом, чего ты здесь разглогольствуеш? Тебя поведёт начальник штаба! Он как-нибудь найдет куда тебе нужно идти! Кончай разговоры! Столяров посмотрел на меня и сразу успокоился. А я заглянул в карту майора и попросил его собственной рукой поставить точку на моей карте, куда нужно было роту вести. – Это для порядка! – добавил я, – если с отметкой будет какая ошибка, то чтобы потом мне не!!!вешали лапшу на шею!!!. Майор охотно нарисовал мне жирный кружочек и провел дугу, в направлении которой пулемётная рота должна занять оборону. Отступив немного в сторону, он поставил дату и время выхода роты на рубеж. Когда я взглянул на карту Малечкина,!!!понял, сам!!! Малечкин роту на место не привёл бы. Собственную стоянку, где находился обоз батальона, он отметил с ошибкой в два с лишним километра. Я ему ничего не сказал, я видел, что Столяров в него сразу же вцепиться. Вернусь назад, потом с ним вдвоём разберёмся. В лесном массиве всё одинаково и однообразно, зацепиться глазами за характерный объект на местности незачто. Майор, вероятно, взял за ориентир небольшую поляну, которая проглядывала за постройками тылов полка. Я же за привязку взял изгиб дороги, по которой водил пулемётную роту на Бельский большак. От этой точки на дороге я посчитал обратное расстояние. Они не могли сидя в лесу правильно взять отправную точку. Меня удивило другое. Когда я был командиром роты меня никто не водил на передовую. Во время наступления я сам ориентировался на местности. А здесь одни прикидывались умниками, а другие, как Столяров откровенно непонимающими профанами. Столяров, тот откровенно волновался и переживал, а майор втирал ему очки. – Послушай майор! Отойдём в сторонку! – сказал я вмешавшись в разговор. -Я пришел в батальон с передка. Никогда ни перед самым плохим солдатом не лицемерил. Всё что ты пытаешься ему здесь внушить, для меня слишком прозрачно. Зачем ты наводишь тень на плетень? В топографии ты не уверен и всегда чего-то боишься или совсем не хрена в ней не понимаешь. Если нужно посадить роту в назначенное место, я могу это сделать с ошибкой в десять – двадцать метров. Но скажи об этом прямо. Зачем человеку голову морочить? Он всё равно тебя не поймёт. И потом, на кой чёрт я должен за полковых начальников работать. У них в полку прорвало оборону, пусть присылают офицера, забирают роту и ведут её на высоту. У меня есть обязанности по штабу, а я бегаю с поручениями как посыльной. Получается смешно. Я должен пойти к командиру роты и напомнить ему, чтобы он не забыл поесть и поспать. У нас майор должно быть полное понимание, в тёмную воевать нельзя. Я готов сделать всё и в любых условиях, но ты должен со мной быть откровенным, иначе тогда подучиться срыв. Ты знаешь, что я передовой не боюсь. Я даже буду скучать сидя за бумагами. Но не делай из меня безучастного связного. Я по характеру не уживчив, когда мною начинают помыкать. – Всё! Договорились – ответил майор. И с того дня у нас установились дружеские и нормальные отношения. Малечкин перестал куражиться передо мной. Мы вышли по тропинке из леса. Солдаты сильно растянулись. При пере ходе это не имеет значения. Вот мы пересекли большак. По ту сторону большака протоптанных тропинок не было. Мне нужно было выбрать направление по снегу. Вся рота была одета в новые маскхалаты, кожухи пулемётов были замотаны чистыми бинтами. Мы не хотели подвергать солдат неожиданным обстрелам, мы выбирали обратные скаты и придерживались низинок. Мы поднимались всё выше, обходя открытые места и избегая пряного обзора со стороны немцев. Белое пространство медленно уходило назад. Покрытые снегом поля и бугры меняли своё очертание. Я иногда останавливал роту, выходил по нехоженому снегу вперёд, поднимался на гребни и перевалы высот и осматривал впереди лежащую местность. Я проверял наш путь и заданное направление, по которому нам нужно было идти. Каждый раз,когда я смотрел в открытое пространство, картина снежных высот представлялась в совершенно новом виде. Только гребни дальних высот, где сидели немцы, неподвижно белели, освещённые утренним солнцем. По их размытому очерку и не очень чёткому горизонту я проверял и сличал с картой своё место нахождения. Кое-где на снегу стали попадаться чёрные воронки от снарядов и бомб. По свежим следам обстрела можно было заключить, что передовая была недалеко. Вот на нашем пути попалась утоптанная тропа, уходящая куда-то вправо. Узкая, извилистая стёжка петляла куда-то в сторону. Куда она вела? Где она брала начало? По ней можно уйти совсем в другую сторону. Все пути к передовой обычно жмутся в низины, идут вдоль кустов, петляют в складках местности. Их прокладывают методом проб и ошибок. Солдаты стараются не попасть под прямой обстрел и эти тропы иногда кружат окольным путём, чтобы подобраться к передовой. Но сколько они не петляли по складкам местности, они выползали на снежные перевалы, на прямую видимость, здесь солдаты и попадали под огонь. Знаю по себе, когда приходиться преодолевать открытое место. Каждую секунду ждёшь встречного выстрела, очереди из пулемёта, или миномётного обстрела. Вот и наша лощина кончилась. Впереди бугор, который нам нужно преодолеть. Мы были все одеты в чистые маскхалаты. При переходе открытого места я приказал не махать руками, идти медленно, пригнувшись к земле. Но солнечный свет выхватил наши фигуры светлыми пятнами на фоне снега, и немцы заметили нас, когда половина роты перешла перевал. Несколько разрывов мин последовали тут же. Я крикнул остальным, чтобы перебежкой преодолели высоту. Мы скрылись в лощину, но немец продолжал обстреливать нас не видя. Он пускал одиночные мины то туда, то сюда. Едва мы поднялись на очередную седловину, немецкий миномётчик стал нас обкладывать минами со всех сторон. Разрывы мин следовали чаще и ближе. В любую секунду мина могла разорваться у кого-нибудь в ногах. Немец бьёт, а мне нужно следить за местностью, чтобы не сбиться с пути. Когда идёшь, нужно всё время держать в голове весь маршрут. Важно не потерять нить, начальную и конечную точку в пространстве, учесть все извилины, углы и повороты. А тут по мозгам бьёт миномёт. При близких разрывах мин солдаты лезут на край лощины. А что это даст? Мина может ударить и там, по самому краю. Мы ложимся и ждём. Что будет дальше? Разрывы мин уходят в перёд. Кругом всё бело и голо. Миномёт вскидывает снег впереди. Сколько не лежи, нужно вставать. Крупномасштабной карты у меня нет. Местность зимой принимает совсем новые очертания. Дороги и ручьи, овраги и низины, засыпанные снегом, перестают быть характерными ориентирами. Сличать карту с голой бугристой местностью дело не легкое. А тут еще бьёт миномет. Каждый взрыв отвлекает и сбивает с мысли. Выйти по карте в намеченную точку в открытом, заснеженном пространстве не так-то просто. На протяжении всего вертлявого пути нужно выдержать точно взятое направление. Я иду впереди, за мной следует ординарец моё Парамошкин, Столяров метров в двадцати сзади ведёт своих солдат по нашим следам. По моим расчётам где-то впереди за перевалом должен находиться наш исходный рубеж. Через некоторое время рота выходит на рубеж. Солдаты ложатся в снег. Они довольны что здесь не стреляют. Ошибка в расстоянии может быть не более двадцати метров. Я беру азимуты вершин высот. Сюда на этот рубеж должны подойти артиллеристы. Где их теперь искать? Может где рядом сидят. Я зову ординарца и мы идём назад по снежным холмам. Артиллеристы без нас на исходный рубеж не пойду. Мы лезем по глубокому снегу с перевала на перевал и ни где никаких свежих следов. Они с двумя пушками сидят где-то в сугробах. Им и нам отдан приказ. Всё остальное мы должны сделать сами. Никто нас за руку навстречу друг другу не поведёт. Ошибка в расстоянии при выходе с двух сторон может составить и не один километр. Поднявшись ещё на один бугор, замечаю впереди сизый дым от костра. Мы ходим, ищем их битый час по буграм, а они развели костёр и греются в низине. Подхожу ближе, заглядываю в снежный овраг, повсюду вдоль него копошатся люди. Отдельные кучки солдат. Две пушки. Зелёные ящики со снарядами валяются на снегу. Два небольших костра, у которых сидят солдаты. Спускаемся по снежному скату, на нас никто не обращает внимания. Передков и лошадей около пушек нет. Их отцепили и отогнали в сторону. Артиллеристы при выходе на рубежи стараются всегда рассредоточится. В этом они молодцы! Костры на фронте вообще разводить не разрешали. А здесь вблизи передовой солдаты были себе хозяева. Засечёт ненец дым, ударит по огню, им же самим и достанутся мины. Причем здесь начальство. Оно сидит в лесу, а здесь передовая На передовой эти вопросы решали просто – разводили костёр, отходили в сторону, и если немец по костру не стрелял, шли гурьбой, садились к огню, сушились, грелись, курили и чай кипятили. Я подошел к группе солдат сидевших около снарядных ящиков. Они резались в карты. Играли четверо, остальные смотрели. Кто молчал, кто!!!подкачивал!!!, а кто давал деловые советы. Им сейчас было не до нас, ни до немцев и ни до войны. Их внимание было сосредоточено на картах, они были заняты исключительно важным делом. Я смотрел на них и решил сам отыскать, кто среди них лейтенант – командир батареи. Все они были одеты в белые маскхалаты, на головы накинуты капюшоны, поверх шапок каски, знаков различия не видать. Я сел рядом с солдатом сидевшем поодаль от группы, достал кисет, свернул папироску и прикурил. – Командир батареи вон тот, что сидит растопыря ноги? – Он самый! – ответил солдат. – Я, я! – Командир батареи! – Вы от пулемётчиков? За нами пришли? – Ну чего ты сидишь? Ходи! Твой ход! – обратился он к игравшему в карты солдату. И посмотрев в мою сторону добавил: – Покури! Я сейчас! Но не дождавшись конца игры, он бросил карты, поднялся и подошел ко мне. Мы поздоровались. Фамилию лейтенанта я не запомнил. – А пулемётная рота где? – Пулемётчики впереди. Метрах в трехстах отсюда. На исходном рубеже в снегу лежат. Вас ожидаем! – Пушки сейчас тащить нельзя! – ответил лейтенант, – Слишком светло! – Возьми связных и пойдём к пулемётчикам. Там на месте все и решим. Где пушки ставить, где пулемёты в снегу окапывать! – сказал я. Я хотел ещё что-то сказать, но в это время услышал гул немецкой авиации. Самолётов была целая группа. Они шли вдоль линии фронта в направлении нас. Зениток у нал на переднем крае не было. Истребители наши не летали. Немцы были хозяевами в небе. Самолёты переваливаясь с крыла на крыло бросали бомбы и постреливали из пулемётов. Никто никаких команд солдатам не подавал. Вот самолёты вышли на нашу лощину и от серебристых крыльев оторвались черные бомбы. Каждый видел куда они падают. Солдаты шарахнулись в разные стороны к мгновенно уткнулись лицом в рыхлый снег. Теперь каждый ждал своей собственной бомбы. С десяток бомб неслось сверху в лощину. Десяток взрывов взметнулось над снегом и всё кругом заволокло белой пылью. Самолёты сбросили бомбы, отработали и отвернули в сторону. Когда смотришь снизу на летящие бомбы, точно не скажешь куда они именно ткнуться. Кажется, что они летят именно в тебя. Хотя можно и в такой момент определить их направление. Нужно только заметить, где находиться нос и хвост самолёта, который бомбит. Если они на одной линии с тобой, то нужно немедленно рывком уйти куда-либо в сторону. Снег и куски мёрзлой земли взметнулись в грохоте ещё раз. Мы дрогнулись телом и замерли приготовясь к смерти. Но вот тишина и гул самолётов уже в стороне. Время зимой бежит очень быстро. Не успел оглянуться – уже вечереет! Не знаю, видели немецкие лётчики припавших к земле людей. Мы поднялись на ноги и огляделись. Пушки стояли целы. Раненых и убитых не было. Только что эти солдатики резались в картишки, сидели на снарядных ящиках и посмеивались промеж собой, а теперь лица у них были вытянуты от пережитого страха!!!угрюмы18!!!Они никак не могут осмыслить убиты они или остались живы? Подумаешь бомбежка! – скажет иной кто сидит в лесу. Побухало! Погремело! И никого не убило! Но если бы этот иной прилёг рядом с солдатом, когда на него сверху сыпались бомбы! Он бы узнал – убьёт его прямым попаданием или нет? Попытался бы пережить вместе о солдатом завывание летящих к земле бомб. Мы все смертны, все когда-то подойдём к своей последней черте. Но мы думали, почему человек хочет жить, хочет, чтобы это случилось не сейчас, не сегодня, а потом, после, когда-нибудь потом! Одному судьбой дана долгая жизнь, а он хныкает. Другой знает, что конец близок и с сожалением смотрит на мерцание серого дня. Это и есть его последняя отрада жизни и надежда. Что поделаешь, когда большего не дано. Это последнее и малое стало так ценно и дорого. Обидно до слёз, что среди серого дня приходится умирать. Солдат лежит вдавив своё тело я сугроб, а сверху усыпляться бомби. Они ревут и всё живое ждёт последнего взрыва. Это надо пережить, почувствовать каждой жилкой, натянутой и налитой тёплой!!!18!!! кровью. У кого нет сомнений, кто легко, не задумываясь, судит о бомбёжки, тому не мешает однажды сделать над собой усилие и представить только один кошмар, один из тех, тысяч, которых пришлось пережить солдату на войне. И именно такой, когда у человека застывает кровь в жилах от страха, когда перехватывает дыхание, когда мороз по коже от позвонка и до затылка ползёт. Не все с простых слов способны представить переживания человека. Но это быстро проходит когда опасность ушла. Сейчас я лежу на больничной койке, пишу, тороплюсь, зачеркиваю и снова пишу. В палату заходят люди. Они с любопытством посматривают в мою сторону и удивляются – Сколько можно писать! Другие спрашивают меня: – Что вы всё время пишите? – Мемуары, знаете, надоели всем! Там одни восхваления, сплошные победы и крики ура! – Я пишу письма о смерти. Я пишу о тех, кто на моих глазах умирал. – Письма с того света! Вам это не понятно? Да! Вы этого не перепили! Вам этого не понять! Что поделаешь – добавляю я. А сам думаю. Царь хотел, чтобы солдаты отдавали жизнь за царя. Все хотят чужой кровью свои дела поправить. А мы за что воюем? За русскую землю! За наш свободный народ. Но перед смертью всегда нужно разобраться за кого ты стоишь. Но вот бомбёжка кончилась. Грохота нет. Он прошел как шелест листвы. Встаёшь и ни каких ощущений. Мало-помалу начинаешь понимать, что ты остался жив. Идёшь по снегу вперёд, запнулся за труп, нагибаешься, смотришь, это не тот солдат что сидел с тобою рядом, у которого ты прикурил. Мёртвый лежит на спине. Глаза у него открыты. Перешагиваю труп, делаю два шага, передо мной пожилой солдат. Лежит на боку. Ему осколком оторвало руку. Он скулит придерживая её. Дальше несколько оглушенных. Они сидят в снегу, крутят головой, после тупого удара. Что это за жизнь? То умирай, то воскресай! Вот так всю войну! Что там Христос! Я сам воскресал не одну тысячу раз. И каждый раз снова. Пора и меня записывать в святые! Живой человек переносит раны с болью и стонами. А смерть легка, она безболезненна! Она коснулась тебя, и ты потерял сознание. За сотую долю секунды увидишь вспышки цветистой радуги, а потом сверху!!!???!!! чёрный бархат и наступит бесконечность. Я однажды видел его. Вот когда ты познаешь истину. Вот когда ты постигнешь бесконечность. Морозный колючий снег хлещет тебе в лицо. На ресницах налип белый иней. Постепенно начинаешь ощущать озноб и холод. Медленно оживаешь. В нос ударяет едкий запах взрывчатки. Ни боли, ни крови, только чувствуешь, что вши грызут. Вот так постепенно возвращается к тебе сознание. Закусишь зубами варежку, сдёрнешь её с руки, засунешь руку за пазуху поскребёшь, погоняешь вшей и считай что ты жив и тебе стало легче. Вот так наверно и Христос наш воскрес! Сядешь в рыхлый сугроб, вдавишь его под собой, оторвёшь от газеты листок для закрутки, разровняешь щепоть махорки, завернёшь, послюнявишь газетный край, чтобы прилип, затянешься голубым дымком и выпустишь его через ноздри. Хорошо! Тебе говорят что-то, кричат даже, а ты сидишь, дымишь махоркой и не не слывешь. Тебя оглушило немного. Вот так и приходишь в себя после бомбёжки. То, что тебя оглушило и ты получил контузию, то это ровно ничего! На это не обращай особого внимания. А кто здесь не контуженный, если не раз и не два под бомбёжкой? Все здесь на передке трёхнутые, пристукнутые и контуженные. Умные люди на передовой не сидят. Они при орденах и медалях в тылах полка ходят. А если с такой контузией эвакуировать на лечение в тыл, кто будет воевать? Контуженный это тот, у которого изо рта кровь течет, из ушей и из носа хлещет, руки и ноги отнялись. А ты такой контуженный, как я по их мнению просто пристукнутый. Вы получили приказ закрыть в обороне брешь! Дали две пушки и четыре пулемёта, вот вы и действуйте! Командир дивизии провел на карте красную черту. Считает дыра заткнута. А они сидят в снегу и ни как не очухаются. У немцев отличная связь. Возможно, что самолёт пролетая сообщил на землю координаты нашей лощины. Не успели мы придти в себя, как по лощине ударил миномёт. Огонь он вёл вслепую. Но нам от этого было не легче. Вот несколько мин рядом брызнуло снегом, оставив на земле вонючий след чёрного дыма. Миномёт прошелся по лощине взад и вперёд. Солдаты затаились. Но вот стало темнеть. Миномёт пустил ещё две мины и прекратил стрельбу. Один солдат сидел, растопырив ноги и опёршись руками в снег. Смотрел куда-то в небо. Солдата толкнули, он замотал головой. Этот жив. Вечер надвинулся как-то сразу. Командир батареи послал за упряжками. До рубежа оставалось немного. Вот и гряда, на которой окопались в снегу пулемётчики. Через ложбину напротив должны быть немцы. Хоть бы пустили ракету или очередь трассирующих! Всё было бы ясно, где они тут сидят! Вскоре лошади подтащили пушки. Лошадей отцепили, пушки развернули, обкопали снежным бруствером. Я,Столяров и лейтенант артиллерист обговорили план обороны. Наметили сектора обстрела и взаимодействие на случай появления пехоты и танков противника. – Завтра я постараюсь добиться, чтобы вам прислали сапёров и взрывчатку, -сказал я, -В снегу не усидишь! Против танков нужно зарываться в мерзлую землю! – Не понимаю одного! В дивизии прекрасно знают, что с этого нужно начинать. Сапёры без дела сидят в лесу. А людей против танков сажают прямо на снег. Я позвал ординарца. Столяров посмотрел мне в глаза. Тоскливо и с натянутой улыбкой он сказал мне: – Может останешься до завтра? Явишься к Малечкину, он тебя опять куда-нибудь пошлёт. А нам здесь поможешь во всём разобраться. -Нет Столяров не могу! Малечкин ждёт меня! Наказывал поскорей вернуться. В дивизии требуют его доклада. Им тоже нужно в армию сообщить, что участок закрыт, прорыв ликвидирован. Майор Малечкин должен сегодня явиться с докладом в дивизию. Пару дней подожди. Освобожусь – обязательно встретимся! Но со Столяровым мне не пришлось больше встретиться. Позиции роты были атакованы. Немецкие танки подошли к ним вплотную с двух сторон. Люди, пулеметы, и пушки были в упор расстреляны. Бежать по глубокому снегу было некуда. Да и куда убежишь? Танки стояли и били в упор. В довершение всего, наши видя танки могут прорваться в глубину обороны, ударили из реактивных установок. Немецкие танки попятились назад,а раненные на снегу были добиты. Из всей роты живыми выбрались трое солдат. Они, получив ранения, пролежали до ночи среди убитых и выбрались к своим. Попав на перевязку, они рассказали о том, что случилось. Столяров был убит из танка в упор, солдаты были расстреляны из танковых пулемётов. Вот как бывает! Ночью пулемётная рота с двумя пушками и пулемётами вышла на рубеж, а утром, когда рассвело, ни людей, ни пулемётов не стало. Я спросил Малечкина- Почему по танкам не ударили сразу, пока они ползли к рубежу? Потом наверно стали искать виновных? – Нет! – ответил Малечкин. – В дивизии проморгали? – Да, нет! Тут другое! – Как это понимать? -А так! Если бы двумя пушками остановили танки, то ракетами не стали бы стрелять. В этом всё и дело! – Ну, и ну! – промычал я. Второй год воюю, а истину войны до сих пор не усвоил. Подумаешь полсотни солдат, когда ракет не хватает. Через два дня я получил персональный приказ отправиться в расположение 45-го гв.полка, на передний край, где стояла наша пулемётная рота на дороге Белый-Причиотое. Приказ передал мне майор Малечкин и у меня с ним по этому поводу состоялся разговор. – Комбат Белов просил, чтобы ты находился у него на КП батальона. Командир сорок пятого лично ездил в дивизию и добился от начальника штаба такого распоряжения. – Рота Столярова погибла. Теперь все они в штаны наложили. – Ничего другого сделать для тебя не могу! Понимаешь – поздно! Я бессилен! – Я понимаю майор, что меня суют туда как затычку. Комбат сам всего боится. Я за него должен там порядок наводить? Получил пулемётную роту – пусть сам организует систему огня. Он что? Не может сообразить где поставить пулемёты? Как организовать систему огня? Где отрыть для пулемётов окопы? Сколько нужно взрывчатки, чтобы мёрзлую землю взорвать? Что-то у нас за комбаты пошли? Ничего не знают, ничего не умеют! Боевой приказ на оборону получили они. У них там целый штаб умников. Я – зачем им нужен? Знаю я этого бывшего учителя начальных классов Белова и его зама Грязнова. На одном пробы негде ставить, а другой отъявленный трус, известный на всю дивизию. – Я конечно пойду туда, коль есть распоряжение дивизии. Знаю почему они хотят, чтобы я сидел на дороге. Но что я смогу там сделать, если мне там никто не подчинён? Артиллеристы сами по себе. Стрелки в подчинении комбата. Всю оборону я должен взвалить на пулемётчиков? – Зря ты старший лейтенант кипятишься. Я не знал, что у тебя в сорок пятом полку были стычки и неприятности. Посиди у комбата недельку. Отрасти пройдут, всё уляжется. Я тебя отзову. – Твою работу по штабу будет вести писарь под моим наблюденной. А ты отправляйся. Нам нельзя сейчас портить отношения со штабом дивизии. Я встал с широкой лавки, на которой сидел, мне стало жарко и душно Я вышел на воздух и закурил. Да! – подумал я. Они хотят мне повесить на шею свой участок обороны. Приду на КП, лягу на нары, сделаю вид что они добились своего. Я разыскал на кухне своего ординарца, он сидел и беседовал со старшиной. Старшина налил мне в котелок черпак мутного хлёбова и протянул кусок оттаянного чёрного хлеба. – Товарищ старший лейтенант надо поесть! Вы сядьте вот здесь на дрова и спокойно поешьте! А я буду собираться. Я вас подвезу до передовой. – Как в роте о кормёжкой сейчас? – спросил я старшину. – Никто из ребят сейчас не в обиде. Сегодня порции больше. Остались продукты от погибшей роты. Так что солдаты сейчас довольны. – Печально! Но с едой повезло! – Кормёжку на нас с ординарцем будешь завозить на КП, в батальон. Мы наверно будем сидеть там всю эту неделю. – Ну что удалец! Поел попил, швык и полетел! Иди собирайся! – Нам с тобой сначала надо в пулемётную роту зайти. Ординарец набил диск автомата патронами, положил в мешок пару гранат раздельно с запалами, и пошел в зад саней стуча пустым котелком по оглобле. Сначала нужно заехать в пулемётную роту, побывать в пулемётных расчётах, посмотреть как устроились и живут там солдаты. Переговорю обо всём с командиром роты Самохиным, а потом покажусь и на батальонном КП. У комбата Белова был определённый заскок. Он имел привычку разговаривать с подчинёнными нагло и высокомерно. Перед начальством он у всех навиду гнул свой хребет, боязливо дрожал, находился, так сказать, в божьем страхе. Ничего он так не боялся, как недовольного взгляда командира полка. – Этот – говорил командир полка, – будет землю рыть рогами, если я прикажу или рыкну. – Бестолков, но старателен! Вернувшись из роты, мы дошли с ординарцем до батальонной землянки, отдёрнули занавеску и ввалились во внутрь. На столе стояла сплющенная снарядная гильза. От неё к потолку шел мигающий и яркий свет. Комбат сидел на лавке заложив ногу на ногу, подёргивая носком начищенного до блеска хромового сапога. Он считал, что блеск начищенных сапог положительно действует на психику подчинённых. Связные, посыльные, телефонисты сидевшие в блиндаже были обшарканы и замусолены. А он в сияющих до блеска сапогах на фоне их выглядел по генеральский. На дорогах и в поле снег и зима. Когда Белов с дороги заходил в блиндаж, он садился на нары, выставлял вперёд ноги и ординарец стаскивал с него валяные сапоги, ставил их сушить и подавал носки и начищенные хромовые сапоги. Блиндаж был просторным. Его когда-то построили немецкие сапёры. По середине блиндажа висела железная печка с регулятором для поддува воздуха при горении. В углу стоял деревянный стол. Вдоль стены – широкая струганная лавка. По другую сторону блиндажа были оборудованы и покрыты соломой просторные нары. Над головой потолок из толстых, в обхват, сосновых брёвен. Над блиндажом был в четыре наката потолок. Увидев меня комбат велел телефонисту соединить его с пятой стрелковой ротой. Пятая рота! – вспомнил я. Я глубоко вздохнул. У меня.даже ёкнуло сердце. Когда-то я начинал здесь служить и именно в этой пятой! Теперь от той пятой никого не осталось. Остался только номер один. Закинув ногу на ногу и держа телефонную трубку в руке, комбат орал на командира роты зычным голосом. – Ты слышь! – кричал он ему. – Намордник для тебя припас! – Что, что? Окромя маво приказа ты совсем без понятия! – Ты меня понял, чего я тебе говорю? Чего молчишь? Я за вас должен думать? Сниму с роты! Слышь! Всё забываю, как твоя фамилия! Я подошел к столу, сел на лавку. Комбат бросил трубку, театрально всплеснул руками, как будто только что увидел меня. Он посмотрел на меня вскинув бровью. Вот мол и ты голубчик по моему настоянию явился сюда! Взглянул решительно, но тут же спохватился. – Здравствуй старший лейтенант! – Привет! – ответил я. – Слушай не сердись! Ты нужен здесь для общего дела. Я просил командира полка, чтобы он поехал в дивизию и договорился на счёт тебя. – Хотел, чтобы ты был здесь без всякого приказного порядка. Я посмотрел на него и улыбнулся. – Ты согласен? Сидевшие в блиндаже солдаты переглянулись. – Вот наша лежанка. – показывая на нары, и добавил он, – выбирай себе место и устраивайся на ночь. – Если на счёт харчей, то не сомневайся. У меня есть личные запасы. – Ординарец мой нас всегда накормит. – А сейчас для встречи нужно выпить пожалуй! – ука организуй нам по маленькой! И сала нарезать не забудь! – Режь-режь! Не жидись! Я знаю вас снабженцев. Вы народ прижимистый! – Давай выворачивай, вываливай из мешка! – У меня к старшему лейтенанту важное дело Шустрый солдатик достал сковороду бросил на неё сало и куски конины. Через некоторое время сковородка зашипела, в воздухе распространился запах жареного мяса. – У меня к тебе дело! Организуй систему огня! Чтобы немец сюда не сунулся. Ты мастер на всякие штучки. Говорят ты танки пулемётами держал. Ты в этом деле разбираешься. Артиллеристы темнят. Сделай доброе дело! – Посмотрим! – сказал я. Нужно сначала всё посмотреть, продумать все мелочи. Сразу ответа дать не могу. – Не можешь и не надо! Давай сначала выпьем. – На счёт артиллеристов я тебе скажу, за батальонный район обороны они отвечают тоже. Они пушки на передний край не желают ставить. Говорят что плохой обзор. – Вы что нас инспектировать собираетесь? – спросил не поднимая головы лежавший на нарах командир батареи. – Лежи, лежи! Старший лейтенант не только твой угломер и уровень он знает и буссоль с закрытыми глазами выставить может. Это ты мне можешь втереть на счёт обзора очки. – Сначала посмотрим, потом вернёмся к этому разговору. – вмешался я. – А откуда ты взял что я артиллерийскую буссоль знаю? – У нас в штабе полка твоя старая анкета на глаза штабным попала. – Ты ведь в начале войны командиром артиллериско-пулемётного взвода был. – Анкету мою изучали? – Не обижайся! Мы тебя как специалиста сюда пригласили. – А ты сразу в позу! – Что-то твоего зама не видно. – Сейчас явиться. Пошел в санроту за порошками от поноса. Он у нас здесь с животом мается. Целый день сидит на отхожем месте. Я его не трогаю. Пусть наблюдает. – Послушай комбат! Что ты тут по телефону внушал командиру роты? Я только что от туда.у него там полный порядок. – Зачем ты его дёргаешь? – Вот именно, что покой! У командира роты должна душа болеть! А он сидит на передовой, считает что всё у него в порядке. – Зря ты его грызёшь! Хочешь, чтобы он тебя боялся? На страхе далеко не уйдёшь! Наш разговор оборвался. В блиндаж ввалился батальонный комиссар Грязнов, или как его звали солдаты – гвардии капитан Грязнов. Гвардии капитан, не здороваясь, молча сел на лавку, достал пачку папирос "Беломор" и немецкую зажигалку. Комбат протянул руку к пачке и выгреб из неё пяток папирос. Посмотрел на Грязного и добавил: – Мои давно кончились! А тебе Грязнев при поносе курить вредно. Грязнов ничего не ответил. Чиркнул несколько раз зажигалкой, она не загоралась. Он помял папироску и прикурил её от горевшей гильзы. Грязнов был сосредоточен и молчалив. Он щелкал своей зажигалкой из под серого кремня вылетал каждый раз горящий сноп искр, а фитиль не загорался. Он вывернул в зажигалке винтовую пробку, бензин и фитиль были в наличии. Сдвинув брови и что-то соображая, вобрал зажигалку, снова щелкнул защелкой, но зажигалка не работала. Блестящая немецкая зажигалка не слушалась нового хозяина. Солдаты, сидевшие здесь на КП, ходили вокруг по снежным буграм и извлекали из под снега немецкие трупы. Они осматривали у них ранцы и сумки, шарили по карманам. Приносили разные вещицы и штучки, документы, письма, фотографии и открытки. Мы рассматривали их, видели немецких солдат в живом виде.Солдатам по разному везло. Кто добывал из карманов убитых сигареты, зажигалки и ножички. Кому попадались портсигары, кому цветные фонарики. Счастливчикам удавалось снять с руки убитого и часики. Найти в заснеженном поле немецкий труп – дело мудрёное. Убитых под снегом лежало много. Они лежали вперемежку с нашими. Сначала при артподготовке побило немцев, а потом, когда на дорогу наши зашли, ударили немцы. Идёт по полю солдат, щупает снег под ногами. Разгребёт снег, а там серая шинель – плюнет отойдёт в сторону и снова как собака тычет в снег носом. Видит немецкую зелёную – начинает копать. Самое трудное было оторвать примороженный труп от застылой земли. Иной старатель упирался и вертелся, пыхтел и вытирал пот с лица, старался вовсю, нельзя же пустым, ни с чем в блиндаж вернуться, хоть банку консерв, пачку галет из кармана вывернуть, кусок промёрзлого хлеба достать. Вскоре все убитые немцы были откопаны, они лежали поверх снега. У них из карманов и ранцев было всё изъято. Некоторое время по полю никто не ходил. Но вот появились мародёры особой профессии. Они сапёрными лопатами рубили челюсти в надежде добыть золотые коронки и зубы. У немецких трупов исчезли челюсти с лица. Наши убитые лежали красавчиками с посиневшими целыми лицами. У наших солдат золото во рту не найдёшь. Какое там золото, своих зубов не доставало. Одного из таких мародёров немецкий пулемёт поймал на мушку, он получил двойную порцию свинца на недостающие зубы и коронки. Он остался лежать в снегу в обнимку с обезображенным трупом. – Его нужно от туда взять и похоронить! – сказал комбат. – Пусть отвезут в лес и там в могилу зароют! Я возразил ему на это. -Пусть лежит здесь! И пусть все видят чем мародёры кончают! – Он случайно не для тебя комбат добывал золотишко? Могилку хочешь ему копать! – Нет! Ну, нет! Что ты! – Оставь его здесь на снегу! Это будет лучше для тебя и пойдёт на пользу батальону! – Комбат посмотрел на меня и прищурил глаза. Я подмигнул ему и он налету уловил мою мысль и согласился со мной. – Старший лейтенант говорит дело! Пусть здесь валяется! Мы стояли около блиндажа и курили Грязновские папиросы. Ординарец комбата и телефонист очищали проход в блиндаж от снега. Я вернулся в блиндаж. Грязнов по-прежнему сидел за столом и крутил свою зажигалку. Солдатам с передовой не разрешали ни на минуту отлучаться. Собиранием в поле занимались в основном тыловики и дежурные телефонисты. Вот и получил Грязнов из рук кого-то из них блестящую зажигалку и трёхцветный немецкий фонарик. Грязнов сидел за столом на широкой лавке и сосредоточенно крутил свою зажигалку. Но вот он взял стоящий на столе фонарик, нажал кнопку -Фонарь загорелся. Передвигая рычажком цветные стёкла, он изменял цвет огня. Фонарь светился то зелёным, то красным, то синим светом. Фонарь исправно работал, а зажигалка ни разу не зажглась. Он брал по очереди то фонарь, то зажигалку, нажимал на кнопку и громко щёлкал защелкой и, что-то соображая, качал головой. А на голове у него поверх шапки ушанки была надета стальная каска -усовершенствованный шлем с подтулейным устройством и с подрессоренными подушками. Он был шире и больше по объему, чем старые каски. Грязнов и в блиндаже, где было жарко и душно, никогда не снимал свою каску с головы. Он ходил, сидел, ложился на нары и спал не снимая каски и не отстёгивая плетёного ремешка из под бороды. Грязнов был всегда начеку. Стоило ударить где-нибудь снаряду или бомбе, далеко или близко – это всё равно, Грязнов вылетал пулей наружу. Он вслепую не мог переносить никакую стрельбу. Нужно сказать про политсостав вполне откровенно, правдиво и поставить точку. Были среди них и храбрые люби. Но были они гражданские лица. Военным делом никогда не занимались. Они его не знали и знать не хотели. По своей серости и трусости, они всего боялись, дорожили за свою жизнь и старались приписать себе в заслугу наши победы. Мы офицеры и мы на войне были ничто. Это не мы и не солдаты били врага, ходили в атаки, захлёбывались кровью, отдавали свои жизни, устилали трупами дороги войны, это политруки защищали нашу родину. Хватит лицемерить! Пора поставить точку! Пора всех посадить на свои места! Грязнов тоже после войны разинет рот и будет доказывать, что он был на передовой и воевал. В полку о нём давно ходили анекдоты. Он знал что над ним все смеются, он терпеливо переносил смешки и насмешки. "Говорят у вас в полку есть один капитан. Он говорят в баню ходит не снимая каски. А что? Старики в деревне завсегда лезут париться на палатья в зимней шапке. Шапку надевают, чтобы не обжечь лысину. Разговор этот специально заводили при Грязнове. Рассказывали специально для него. Смотрели в лоб, не отводя глаза. Интересно, что он будет делать? А он пригнув подбородок к шее очередную насмешку, можно сказать, как плевок в глаза, молча глотал, вставал и уходил сузив брови, как бы озабоченный серьёзными делами. Слова его не пробивали. Он боялся одного, как бы его не зацепил осколок или не прошила пуля. Он видел что все проезжаются на его сечёт, смеются в глаза откровенно, но он не взрывался и не отвечал на насмешки. Он знал, что открой он свой рот хоть один раз, и ему прохода не будет, его заплюют и засвищут. Он молча вставал и уходил в свой отсек, одинокий сортир под открытым небом. Пусть смеются. Пусть порадуют душу. Все равно их скоро убьют! До начальства уже дошло. В политотделе скажут: – Надо прекратить! Смеются над политработником! Примут решение – переведут куда-нибудь в тылы. Сортир моё спасение. Пусть обо мне слух до Пшеничного дойдёт. Он сразу всё поставит на место. Блиндаж, где мы жили, возвышался над снежный полей и торчал как бугор. Вход в блиндаж был расположен в сторону немцев. Небольшое окно тоже смотрело в немецкую сторону. В проход под занавеску могла залететь любая мина, ударить снаряд. Все осколки при взрыве пойдут во внутрь блиндажа. Если над нашими позициями появлялся немецкий самолёт или вдоль дороги взрывался снаряд, Грязнев тут же покидал своё место на нарах к бежал занимать место в сортире. Узкий извилистый проход вел в низину и в сторону. Блиндаж как мозоль торчал на виду, а сортир был на отшибе в снежной низине. Почему бы немцу не ударить по блиндажу? Он видно хочет подловить его Грязнова, когда тот завалиться спать. И Грязнов по ночам ворочался, часто просыпался, навострял уши, прислушивался и ничего не услышав вздыхал. А сортирчик, извините, от блиндажа отстоял далеко. Ни с какой стороны его не видно. Занесён он снегом кругом. Узкая щель.В ней Грязнов помещался впритирку. Сортир не мог привлечь внимание самолета. Кто будет вести огонь из орудия или бросать бомбу по одиночному человеку. Услышав отдалённый гул Грязнов объявлял всем, что у него живот! И бежал поспешно в укрытие с деревянной крышкой. Он сидел там с утра и до вечера. Свежий морозный воздух и ветерок нагонял на его щеках заметный румянец. На воздухе он здоровел. В блиндаже он задыхался. На ночь он ложился на нары, забирался в самый дальний угол, чтобы тела лежавших ближе к двери прикрывали его. – Вам хорошо! – говорил он с обидой. – У вас желудки целы! – А меня вот всю жизнь сквозит! – Вот так всю жизнь и мучаюсь! – Кончай врать Грязнов! И он тут же умолкал. Нужно сказать, что на счёт пожрать и выпить равных ему в батальоне не было. Грязнов на всё смотрел с молчаливым расчётом. Вдруг завтра продуктов не будет. – Ты оставь же сала! – говорил он комбату. – Он нет! Уж дудки! – отвечал с хода комбат. У комбата был свой взгляд на съестное и на добывание продуктов. Он был хозяином в батальоне и ни о кем не хотел делить свою власть, даже с Грязновым. – Ничего! Потерпишь до моего прихода! Грязнов ходил к врачам в медсанбат. Просил комиссовать его по состоянью здоровья. Но врачи, похлопывая его по объёмистому животу, удивлялись его необыкновенному здоровью. В лётную погоду, когда в небе появлялись самолёты врага, Грязнов отправлялся на наблюдательный пункт, как на дежурство. Вскоре в блиндаж перебрались жить офицеры артиллеристы. У нас на нарах образовалась довольно весёлая и дружная компания. Играли в карты. Сначала в дурака, а потом на интерес. Карты быстро надоели. Переключились на Грязнова. Двое, трое выходили в поле, били из автоматов поверх сортира. Грязнов не догадывался. Поспешно выбегал и прятался в блиндаж. А в блиндаже его подстерегала самая страшная казнь на свете. Как только он снимал с себя полушубок и залезал на нары, в железную печку бросали горсть пистолетных патрон. Крышку быстро завинчивали и ложились на нары, как будто подкинули дровишек. Патроны попав на огонь со страшным треском начинали рваться, но железных стенок печки пробить не могли. Из отверстий заслонки вырывался дым и сыпались искры, летели мелкие красные угли, а по ушам барабанили беспорядочные пулевые разрывы. Грязнов хватал полушубок и страшно матерясь выбегал наружу. А в сортире уже висела привязанная к столчку ручная граната. За кусок!!!30!!! провода дёргали, вылетала чека и планка запала. Грязнов приближался к сортиру и перед его носом раздевался мощный взрыв. Он трясся и рыдал в узком проходе. Потом он испуганно пятился назад и возвращался в блиндаж. В блиндаже стоял хохот до слёз, до изнеможения. Грязнов ложился на нары и затихал как умирающий. В это время из другого угла кто-то стрелял в потолок из пистолета, закрывал глаза и лежал как и все без движения. Грязнев подымал голову и орал истошным голосом, что будет жаловаться командиру полка. А за что? На кого? – Мы не в твоем полку! Твой командир полка к нам никакого отношения не имеет. – А если ты начнёшь сплетни разводить, мы тебе ночью тут такое устроим, что у немцев на заднице дыбом встанут волоса! На нарах раздавался дружный хохот. Смеялись до слёз, до истошного кашля и пердежа. Через некоторое время всё успокаивалось. Грязнов поднимался с нар, подходил к висевшей в проходе занавеске смотрел через щель в печку на раскалённые угли, не подбросил ли!!!30!!! туда патрон и начинал потихоньку сопеть. Но кто был в чём виноват он не зная. На кого он собирался жаловаться? – Больше не будем! Слово даём! Ложись спать! В это время из полка возвращался комбат. -Опять Грязнова пугаете? – говорил он и садился на лавку. У него заворот кишок произойдёт! Слезайте с нар, давайте садитесь за стол, ужинать будем! Во время еды страсти успокаивались и обида отходили на задний план. У Грязнова мелькали скулы, во всю работали челюсти. Перед тем как устроиться спать. Грязнов проверял содержимое своих карманов. Он вываливал на стол несколько перевязочных пакетов и внимательно пересчитывал и осматривал их. Он боялся не только смерти но и случайного ранения. Он видел как иногда мимо КП тащили раненого и перевязать на дороге было нечем. Когда обращались к нему и просили лишний пакет, он молча отвертывался, мотал головой, давая понять, что у него лишних нет и разговор окончен. Однажды связной солдат пришел в блиндаж и поставил к стене свой автомат, позабыв перевести его на предохранитель. Было это днём. В блиндаже находились все. Почему упал автомат, никто понять не мог. И когда он упал плашмя на пол, произошел случайный взвод затвора и произвольный спуск, автомат начал бить боевыми пулями? ползая по полу. Полдиска пуль высадил он в проходе под нарами, завертевшись на месте. Задев ручкой затвора за что-то, автомат перестал стрелять и сам замолчал. Мы в одно мгновение подобрали ноги и попрыгали на нары, взглянули на Грязнова и, схватившись за животы, стали кататься по нарам. Он был бледен. Он был белее белого снега. Он сидел, скорчившись в дальнем углу, смотрел в потолок и боялся шевельнуться. Кто-то фыркнул и загоготал. Грязнов метнул в его сторону взгляд полный ужаса и гнева, и завизжал как недорезанный поросёнок. – Убери! Это твой! – вытаращив глаза на солдата, заорал он визгливым голосом. Мы думали что его ранило или задело пулей. – Не трогай! – сказал я солдату, слезая с нар. – Его нужно умело взять на земле не поднимая кверху. Он может выстрелить. У него спусковая собачка изношена. Я взял автомат, прижал возвратную ручку затвора, ствол опустил вниз и поставил затвор на предохранитель. Стукнув прикладом о нары, я хотел проверить не произойдёт ли произвольный выстрел – автомат молчал – Надо проверить износ спусковой скобы! – сказал я. Это дело важней, чем твои переживания! Я перевёл собачку на одиночные выстрелы, дал несколько выстрелов по висевшей в проходе занавеске. Мне нужно было проверить, не произойдёт ли самовольный переход с одиночных на беглый огонь. Занавеска дернулась. Грязнов зарычал как затравленный зверь снова. – Вы что? Опять издеваться надо мной? – Не ори! Автомат нужно проверить для дела. Ночью пойдёшь, сам заденешь ногой. Посмотрим кто виноват тогда будет? Эта ночь прошла без стрельбы, без ора, без хохота и потехи. Утром я ушел в пулемётную роту и весь день, мы с командиром роты Самохиным ползали по передовой. С нами находились артиллеристы. Я подавал им команду: – Отдельная высота, влево 0.03, условные танки противника, три беглых снаряда, огонь! Артиллеристы отдавали команды по телефону и откуда-то из низины на высоту летели пристрелочные снаряды. По первости, как всегда – недолёты и перелеты. Но потом стали бить довольно точно. Огневые рубежи были пристреляны. Работой артиллеристов мы – пехота остались довольны. Через три дня мы вернулись на КП и я сказал комбату: – Рубежи артиллерией пристреляны! На каждый ствол иметься по десятку бронебойных снарядов. Да и вообще! Я говорил как-то Малечкину, немец по дороге вдоль леса не пойдёт! Он побоится открытого фланга! Немца нужно ждать со стороны высот! Сам видишь, он с той стороны давно уже жнёт! – А где гарантии,что он здесь не пойдёт? – Гарантий нет! Это моё чистое мнение! – С меня фляжка спирта! Если он здесь до февраля нас не тронет! – объявил комбат. Фляжку со спиртом я не получил. Комбату не пришлось дожить до февраля. Через пару дней Грязнев исчез куда-то. Он собрался, взял с собой связного и отправился в тылы. Один он никуда не ходил, боялся что ранит. В полку знали что он всего боялся и дрожал. Три дня он отсутствовал и к вечеру однажды явился. Он лёг на нары в свой дальний угол и спокойно пролежал до утра. Дежурный телефонист потом рассказывал, что он часто подымался и спрашивал, не было ли ему звонка. Утром действительно раздался звонок. Звонили из полка. Сказали, что в батальон назначен новый замполит, а что его Грязнова отзывают в тыл. Его переводят на политработу в тыл на склады снабжения. Грязнов знал, что это должно днями случиться. Ему обещали это. Ему велели подождать, пока подберут замену. Теперь приказ подписан, замена в батальон идёт, он может собираться и покончить раз и навсегда с передовой. Он ходил по блиндажу как новый пятиалтынный. – Ну всё! – объявил он вслух. -Теперь я жив! Считай до конца войны теперь меня не убьёт и не ранит! – А вы! Вы все здесь подохните! – Пропади вся эта передовая! Мне на неё теперь наплевать! – А ты ведь Грязнов ни разу на передовой и не был! – Да я не был! Зато вы скоро все пойдёте туда!- и Грязнов затопал ногой. – Туда в землю! У вас туда одна дорога! Поиздевались над порядочным человеком! – Над порядочной гнидой! – вставил кто-то. Фонарик цветной не забудь! – Бинтов прихвати! А то до склада не дойдёшь! Ранит по дороге! – Скажешь, ранение на фронте получил! – Давай Грязнов утопывай скорей и не забудь с сартирои зайти проститься. На этой разговор оборвался. С Грязновым мы расстались. Грязнов был реальным человеком. И всё, что я здесь рассказал, всё произошло когда-то на КП батальона. Немцы сидели тихо. Попыток сбить нас с дороги с их стороны не было. Немецкие солдаты стреляли нехотя и лениво. Но однажды пулемётный огонь на передовой вдруг резко усилился. Что-то случилось! У немцев, по-видимому, на передовой произошла сиена. На место уставшим и привыкшим к сонной жизни в снегу немцам, явились и встали на передке новые, полные сил и энергии свежие немецкие подразделения. Прямых доказательств у нас к тому не было, но пулемётный огонь на дороге с каждым днём нарастал и усиливался. Если раньше до передовой можно было дойти даже в светлое время, идёшь себе не спеша, под ногами поскрипывает снежок и во рту у тебя козья ножка набитая махоркой, то теперь и ночью нельзя было сделать спокойно десяток шагов. Простреливалось всё – и бугры, и плоские участки дороги, и лощины лежавшие за обратным скатом. Пулемёты с той стороны били трассирующими. Они пристреляли все подступы к передовой и с наступлением темноты держали под обстрелом всё пространство и дорогу, по которой мы ходили. Наши солдаты стрелки и пулемётчики на огонь не отвечали. У нас пулемёты стояли на прямой наводке. И сделай один из них хоть один выстрел, его тут же облили бы свинцом. Нужно было срочно рвать мёрзлую землю и оборудовать закрытые позиции. Продукты и боеприпасы подвозили на передовую по дороге. Лошадёнка рысцой тащила за собой поклажу в санях. По морозному снегу они скользили легко и свободно. Старшина и повозочный один раз в ночь пускались в этот опасный путь на передовую. Теперь все пули на дороге были их. Каждую ночь они попадали под шквал трассирующих. Все перевалы на дороге и лощины, куда доставали пули, прошивалось до земли. Трассирующая в полёте при движении над снегом светиться, горит ярким и голубоватым огнём. На ночном сером снегу остаётся голубой отсвет как в зеркале. С наступлением темноты я вышел из блиндажа, мне нужно было попасть на передовую. Мы договорились со старшиной, что он захватит меня по дороге, когда поедет мимо. Я смотрел в ночное снежное поле, по которому чертили трассирующие пули. Когда они пролетали над бугром, снег искрился и горел под ними. Далеко за горизонтом были видны вспышки немецких орудии. Низкое зимнее небо освещалось снизу у вершин далёких высот. Оно освещалось желтыми всполохами стреляющих орудий. Но ни выстрелов, ни гула снарядов после вспышек не следовало. Между немцами и нашими дальними соседями шла перестрелка. На нашем участке обороны немецкие пушки молчали. Немцы не хотели вскрывать свою систему огня. Ночью вдоль дороги они стреляли только из пулемётов. Мне нужно было разобраться в этой стрельбе. Я был, так сказать, назначен ответственным за огневую систему обороны на этом участке дороги. Старшина уже выехал, и мы с ординарцем должны были подстроиться к нему, когда он подъедет к блиндажу. Теперь и ночью ни проехать, ни пройти на передовую. Немец как-то сразу захватил всё пространство и отрезал все пути и подходы. – Доедем быстро! – сказал старшина, притормаживая свою лошадёнку. – Пешком тут далеко и под пулями топать долго! Поедем рысью! Я сегодня специально повозочного не взял. Садитесь сзади! И не высовывайтесь из-за крупа лошади! От встречной пули прикроет нас! Всю дорогу будет бить паразит! Ни одной минуты покоя! Всё как-то странно! Кругом темно, а он как будто видит. – Вот смотрите сейчас. Пока мы в лощине, он вовсе не бьёт. Только поднимемся на высотку, сразу пустит навстречу нам очередь. Тут какое-то место заколдованное! Или кто из наших ему передаёт? Я каждую ночь меняю время, и он каждый раз ловит меня на дороге. – Лошадь у тебя чёрная. Возможно, видно издалека? – Нет, она тут не причём. Я надевал на неё простынь с дырой, чтобы голову просунуть. Всё равно бьёт! – Сегодня поедем пораньше. Может и ошибётся! Вчера он нас прихватил здесь во втором часу. – Каждую ночь я мотаюсь здесь по дороге. Вон перевалим через ту проклятую горку и он начнёт сыпать из двух пулемётов сразу. Пускает трассирующие то один, то другой. Бьют по очереди. Интервал две минуты. Я по своим часам засёк. У моих трофейных стрелки ночью светиться. Две минуты бьёт один, две минуты молчит, работает другой. – Но пока бог миновал! Я знал, что дорога впереди холмистая и не ровная. Вначале не круто вползает вверх, а потом на скате в низину становиться круче. Все эти невысокие бугорки и лощины немцы за несколько дней пристреляли довольно профессионально и точно. Мы с ординарцем, поджав ноги, сели в сани позади старшины, он шевельнул вожжами, и мы тронулись потихоньку. В горку лошадёнка шла медленным шагом. Небольшая, лохматая, она мотала головой и не торопясь перебирала ногами. Она уверенно шла по давно знакомой дороге. Ночью на участке дороги, как я уже отмечал, немецкие пушки не стреляли. Немцы знали, что у нас в лесу за болотом стояли орудия большого калибра. Днем они иногда пошлют в сторону немцев одну, две дуры. Немцы видели, что они могут ударить по огневой позиции и поэтому молчали. Ночью они в основном вели пулемётную стрельбу. Мы ехали по дороге, пули летели нам навстречу. Лошадёнка на них не обращала внимания, она их совсем не боялась. Она привыкла к их назойливому посвисту. При повизгивании пуль она отмахивалась от них с боков хвостом. Трассирующие пролетали у неё над головой, цепляли за дугу и ударяли в оглоблю. Но чаще, ударившись в мёрзлую землю, пули веером разлетались вверх перед самой её головой. Она фыркала, трясла головой, задирала морду и продолжала идти по дороге. Мы сидели в санях и ждали, что вот-вот сейчас пуля ударит ей в грудь или распорит живот. – Ничего-ничего! – говорил старшина, – Помаленьку доедем! – Сейчас, матушка, перемахнём вон тот бугорок – опасное место, а там будет легче! Там пойдёт пониже. Там пули пойдут высоко. Лошадёнка качала головой, как будто понимая слова своего хозяина. Она мелкой рысью сбегала шустро с горки. Перевалив последний бугор, она переходила на спокойный уверенный шаг. Торопиться ей было некуда. Пули летели высоко над головой. – Теперь дугу не обскребут! – делал заключение старшина, посматривая кверху. На всём пути бугристой дороги старшина ни разу не дёрнул её вожжой. Она сама выбирала себе путь, сама решала, где бежать рысцой, где идти трусцой, а где не смешить людей и вовсе не торопиться. – Ну, вот здесь в лощине от пуль будет потише! – говорил старшина. Он всю дорогу то успокаивал нас, то нагонял на нас страха. – Помните? Товарищ гвардии старший лейтенант! Совсем недавно мы по дороге свободно ходили и ездили! – А что теперь? Одно безобразие! Я прислушался к голосу старшины, он хрипел у него от ветра и постоянной стужи, а сам думал: – Почему у немцев сразу сменилась система огня, почему их пулемёты сразу озверели. – Говорят, на дорогу немцы поставили финский батальон, прибывший из тыла – Откуда ты взял? – Сегодня на кухне ребята трепались, – сказал старшина и спросил: – А что эти фины бьют с перепуга? Небось, первый раз попали на фронт! – Вон наши! Кто повоевал – винтовки с плеча не снимают. И стрелять не хотят. – Если финн встали здесь на дороге, они головы нам поднять на дадут! – Вот такие дела старшина, а ты говоришь не обстрелянные! – Финн не немцы. Финн высокого класса мастера стрелкового дела. Вот они и прижали наших к земле пулемётами. Немцы на такую тонкую и точную стрельбу не способны. Они вроде наших. Стреляют куда попало или вовсе молчат. А это расчётливые стрелки, мастера пулемётного дела. Солдаты на кухне уже знают, что на дорогу встали финн. А нам боевым офицерам, на чьих хребтах держится фронт, о смене у немцев и о финах ничего не известно. Что за ерунда? Начальство хочет, чтобы мы о них поменьше знали. Лошадёнка затрусила мелкой рысью. Сани легко съехали под горку. Лошадёнка сама свернула в овраг. Прошла метров двадцать и встала около куста. За всё время пути старшина ни разу не дёрнул её вожжою, ни разу не стегнул её кнутом, хотя кнут на всякий случай торчал у него за голе-нищей. – Вот и приехали! – объявил старшина, когда лошадь остановилась, повернула голову назад и стала смотреть в нашу сторону. – Щас, щас! Получишь своё! – сказал старшина, сгребая в санях в охапку сено. Действительно приехали! – подумал я, когда взглянул на одинокий куст в снегу, где висели обрывки травы оставшиеся с прошлого раза. Лошадёнка старшины хорошо знала своё привычное место. Старшина с охапкой сена направился к ней и бросил ей к ногам. Она, позвякивая стальными удилами, принялась за свою жвачку. Повиливая хвостом, переступая с ноги на ногу, поскрипывая санями и оглоблями, она старательно пережевывала свою порцию. Здесь все получали по норме. Интересная лошадёнка! Она наклонялась к земле, набирала в зубы клок сена, подымала голову, смотрела на снующих по оврагу солдат, к чему-то прислушивалась и снова принималась за свою еду. Солдаты выходили в овраг как будто из под земли. Они вылезали из узких нор, подрытых под скат оврага. Под мёрзлым грунтом у них были прорыты низкие лазы похожие на звериные норы. В этом лазе в одной из стен была прорыта печурка и дымоход, пробитый кверху сквозь землю. Привезёт старшина в своих санях дровишек, прибежит солдат, схватит охапку по норме и жгёт её сутки до следующего заезда старшины. Никто к нему туда в нору не сунется. Лисья нора – а всё-таки своя! Русский солдат ко всему привычен. И очень доволен когда его не трогают, не заставляют устроиться и жить по человечески. В общем блиндаже, как в строю. Лежат рядком все на нарах протянувши ноги как покойники. В своей норе, хочешь лежи, хочешь спи, хочешь чайку согрей. Делаешь всё лёжа на боку, не надо подниматься. Нора солдату удобней. Чувствуешь в ней себя хозяином. А в другом отношении… Например, при обстреле. Попробуй по норе попади! Старики знают дело! Это молодые лезут на общие нары. Жмутся друг к другу как куры на нашест. Хрен со ними! Пускай лезут! Подберётся немец ночью к оврагу, сунет в трубу землянки пару гранат, вот тогда и пиши-прощай деревня! Всё пропало! А в норе попробуй, найди! В неё головой нужно попасть умело если встать на четвереньки точно перед ней. Таких нор здесь под скатом оврага, завешенных белой от инея промёрзшей тряпкой было полно, попробуй, найди. Я прошел по оврагу, посмотрел на солдатские норы и лазы и направился в ротную землянку где находился лейтенант Самохин и телефонисты. Самохин сидел прям на земляном полу и хлебал из котелка привезённое старшиною хлёбово. Солдат сапёрной лопатой отрубал от буханки обледенелые куски хлеба и клал их на железную печку, которая горела в стене. Куски шипели. От них шел белый пар и кислый хлебный дух. Самохин не ждал пока они оттают. Брал их подряд, клал в рот и запивал мутной солдатской похлёбкой. Солдат придерживал буханку на берёзовом полене, ударял по ней лопатой и от неё летели серебристые крошки и куски. Нар, как таковых, в ротной землянки не было. От узкого входа в обе стороны расходился ровный пол. От пола до потолка метр с четвертью, не больше. Вдоль одной из стен можно было прорыть узкий проход и нары сами собой получились бы. Но тогда терялась общая полезная площадь пола, на которой спали Самохин, два дежурных телефониста и с десяток солдат из пулемётных расчётов. А строить еще одну землянку Самохин и его солдаты не хотели. К боковой стене землянки была приставлена железная печка. В стене была вырыта земляная топка с пробитой кверху трубой. Получилось вроде плиты. На железной плите таяли снег для чая, оттаивали хлеб, сушили мокрые варежки, портянки и валенки. Над печкой в стену была вбита длинная палка. На ней и весело тряпьё. Самохин взглянул на меня и сразу заторопился. – Дохлёбывай спокойно! Не торопись! У нас с тобой времени впереди много! Вот когда привезут взрывчатку, тогда минуты будут на учёте! А сейчас не торопись! Лейтенант отодвинулся от стены и освободил мне место. Я подался вперёд, уселся поудобней и осмотрелся кругом. – Ты чего мороженый хлеб ешь? Возьми у моего ординарца! У него есть в мешке поджаренный. – Не! Не хочу! Солдаты мне потом поджарят на сковородке. – Это для вкуса! – Люблю кусок мороженого хлеба со снегом пососать. – Прихлебнуть его подсоленной похлёбкой. – Вкусно! – У каждого свои вкусы! Самохин смотрел в мою сторону и пытался угадать, для чего я явился сегодня в роту. Проверять пулемёты и ленты? Погода сегодня! Ветер и снег метёт в рукава. Открой, у любого пулемёта крышку ствольной коробки, а там до половины снега набито. Говорил вчера солдатам. Снимите с убитых шинели. Накройте ими пулемёты. Наверно не сделали. Проверить не успел. – Старший лейтенант! Может и вы с дороги, с нами похлебаете маленько? – Пусть нальют! С дороги желудок полезно промыть! Потягивая через край котелка мучное варево, я рассказал Самохину о цели своего посещения. – Пулемёты, пулемётами! Их проверять надо. А вот огневые позиции нам нужно с тобой сменить! Пулемета нужно поставить на закрытые позиции. Огневые позиции будем оборудовать на обратные скатах. За два дня мы должны выбрать для них места. Через два дня Малечкин обещал прислать сюда сапёров со взрывчаткой. Они взорвут нам верхний мёрзлый грунт земли. – Солдаты в тылу трепятся, что перед нами встали Фины. Правда это или нет, начальство пока молчит. – Ты видишь, как их пулемёты бьют? Их напрямую в лоб не возьмёшь! Сидеть, сложа руки тоже нельзя! Посмотри, как пригнулись солдаты. Крупномасштабной карты у нас с тобой нет. Определить крутизну скатов без карты почти невозможно. Мы сделаем просто. Прощупаем местность пулемётами. Стрелять будем трассирующими. Пули при ударе о мёрзлый грунт пойдут круто вверх. Наводчик стреляет одиночными. Ты ставишь парные колышки, отдельно для каждой цени. Я смотрю в стереотрубу, корректирую стрельбу, а ты составляй схему огня. – А сейчас перекурим и спать! – Важные дела нужно начинать на свежую голову! Я прилёг к прогретой стене землянки, закрыл глаза и тут же уснул. На фронте когда набегаешься и после нескольких дней бессонницы засыпаешь мгновенно! Присел где-нибудь и тут же заснул. А тебя ищут, бегают вокруг, да около! Через несколько часов, как было сказано, нас разбудил телефонист, мы вышли наружу. Небо было тёмное. В воздухе кружили мелкие снежинки. – Предупреди всех солдат, что мы будем лазить по верхнему краю оврага! – сказал я Самохину. – Пока темно, нужно осмотреть всё кругом! Дорога, по которой ходили мы и ездили шла дальше в сторону немцев. В пределах нейтральной полосы она была укрыта слоем снега. Но ветер и здесь поработал, намёл сугробы местами сдул с дороги снег до самой земли. Земля на дороге местами проглядывала Метрах в двухстах впереди нашего оврага стояли танки подбитые ещё до нас. Наши они были или немецкие, никто толком не знал. Самохин высказал предположение, что это немецкие и что немцы с вечера выходят туда и ведут наблюдение за нашим передним краем и за дорогой. Когда мы поднялись по скату оврага наверх, чтобы посмотреть в сторону танков, Самохин вдруг предложил: – Может сходим туда? Посмотрим. Может немцы оставили следы? Нас было четверо. Я, Самохин и два наших солдата ординарца. Дело конечно заманчивое, а с другой стороны – опасное. Самохин молчал, лежал на боку, привалившись в сугробе и смотрел на меня. Мне нужно было решать. А что решать? Может Самохин решил проверить меня. Что я скажу? Откажусь или полезу туда. Раз надо – так надо! – решил я. Я молча поднялся, пригнулся и сделал короткую перебежку вперёд за сугроб. Самохин вскочил и последовал за мной. Ординарцы не отставая бежали сзади. Через высокий сугроб не перемахнёшь. Приходиться каждый раз переползать и снова делать перебежку. Самохин и солдаты быстро нагнали меня. Теперь мы все четверо двигались рядом. На сдутых ветром участках и малоснежных местах мы легко подвигались вперёд. Поднимаю голову, смотрю чуть левее по ходу дороги, вон они и танки темнеют в снегу. Кругом ровный не тронутый снег, ни следов, ни пробитых через сугробы тропинок. Предположения Самохина не оправдались. Когда мы подошли ещё ближе, то убедились, что ветер и снег у танков гуляет внутри. Боковой лист у танка был разбит. Через него можно было свободно заглянуть во внутрь. От железного остова танка исходил зловещий холод. В снегу сидеть гораздо теплей! Если нам сюда посадить наблюдателя, он за пару часов превратиться в замёрзшую ледышку. Я осмотрел второй подбитый танк, обошел его кругом и подал знак рукой, чтобы идти обратно. Вернулись мы молча. Фины не сделали ни одного пулемётного выстрела. Мы подошли к краю оврага, дружно скатились по скату вниз, уселись в снег и закурили. Разговор почему-то не клеился. Самохин молчал о чём-то задумавшись. Выходит мы зря сделали вылазку. Рисковали четверо. А с другой стороны, теперь нет никаких сомнений. Немцы и финн танки не посещают. На передовой всегда бывает риск. В тылу пули не летают. Но чем сидеть в тылу в теплушке батальона, убивать время и резаться в карты, лучше лазить здесь с Самохинын по передовой. Здесь настоящая жизнь рядом с солдатами. Если мы за пару дней оборудуем на обратных скатах пулемётные позиции, пристреляем пулемёты и обозначим цели, то и финам придёт конец. На немцах этот метод был не раз испытан. Посадить солдата с пулемётом в разбитый танк дело не стоящее. Да и отчаянных солдат у Самохина в роте нет.Лихой солдат Парамошкин. Он на всё способен и готов. Ты ему только намекни, подкинь идейку. Он на всё мог пойти. На любое невозможное дело мог решиться. Да! У Самохина в роте мелкие пулемётчики! До утра мы ползали по передовой. Месили локтями и коленками снежные сугробы. Смотрели, прикидывали. И наконец наметили где будем ставить пулемёты. Фины в основном вели пулемётный огонь по дороге. Но иногда они постреливали и в других направлениях. Тогда и нам приходилось, уткнувшись в снег лицом, лежать и ждать пока прекратиться обстрел. Финам в голову не пришло, что мы ползаем у них под самый носом. Они были уверены что мы смирились с их ожесточённой стрельбой. Все последующие ночи мы усиленно работали, взрывали, долбили, копали землю и уносили её на плащ-палатках. Мы готовили финам неожиданный и решающий ответный удар. Земляные работы были закончены, четыре пулемёта стояли на закрытых позициях. Пулемётчики просили у меня разрешения ударить по финам для пробы разок, но я помотал головой. – Стрельбу запрещаю! – объявил я. Солдаты пулемётчики сразу оценили стрельбу с закрытых позиций. Пламя при стрельбе не видно. Обычные свинцовые в полёте не светятся и не горят. Откуда ты ведешь огонь противник не знает. По двум финским пулемётам свинца можно пустить достаточно. Пулемёт выставляется на цель по колышкам. Солдату рожу свою за бруствер высовывать не надо. Сиди себе в одиночном окопе, легонько дави на гашетку, а фины своё получают. Теперь Самохин явился ко мне, и просит разрешения попробовать пулемёты. Я показал ему кулак и, ничего не сказав, отправился в тыл, мне обещал достать стереотрубу майор Малечкин. Мы с ординарцем вдвоём торопливо шагали по дороге. В спину как дул ледянкой колючий ветер. Снежная пыль выбивалась из-под ног, подхватывалась ветром и неслась вперёд, обгоняя нас по дороге. Вслед за ней в спину нам летели финские пули. Фины пускали их по дороге. Они сверкали, пролетая около, подхлестывали нас и придавали нам прыти. Внешне мы держались спокойно. Но когда в тебя со спины стреляют трассирующими, то в душе начинают кошки скрести. Кто-то вытягивает из тебя внутренности наружу. Всё у тебя внутри сжимается. Вот-вот свинцовая плеть перепояшет тебя! Трассирующие идут то по правой, то по левой стороне дороги. Мы с ординарцем лавируем. Но разве угадаешь, по какой стороне они сейчас полетят. Сначала они пролетят мимо, только тогда ты определишь своё место. Можно было сойти с дороги лечь в снег и переждать. А если он будет стрелять до утра? Кроме того, ты идёшь не один. Пара солдатских глаз следят за каждым твоим движением. Для ординарца ты образец и эталон, подражания. Нельзя чтобы солдат усомнился в своём офицере, потерял веру, боялся меньше чем ты. Если офицер полка от каждого щелчка и выстрела вздрагивает и пригибается, то кто командует солдатами – паникёры к трусы? Мы шли по дороге не оборачиваясь и пули в любой момент могли ударить нам в спину. Я не исключал попадания. Я только надеялся, что этого не произойдёт. Ординарец шел рядом тяжело дышал и сопел. Он был больше меня нагружен. Я шел налегке. Он нёс автомат, вещевой мешок с запасом патрон, набитым диском, гранатами и запасом хлеба. Но вот мы миновали все пригорки и стали спускаться в низину. Я решил зайти в батальонный блиндаж, повидать комбата и артиллеристов. За все эти дни, пока я был на передовой, могло что-нибудь измениться. Нужно быть в курсе дела, подумал я. Когда я отдёрнул занавеску и ввалился в блиндаж, на нарах, как прежде, никого не оказалось. Артиллеристы из блиндажа исчезли, связных солдат небыло, лишь двое телефонистов сидело у стола. На нарах лежал незнакомый лейтенант. Что-то случилось, подумал я. – Комбата убило! – поднявшись с лавки, сказал телефонист. – Вчера в дверях пулей навылет стукнуло! Наверно шальная ударила в грудь. – Солдат убивает на передовой и на дороге! А чтоб в дверях кого убило, первый раз слышу! С начала войны такого не было! Смерть от пули на передовой – дело понятное! А чтоб здесь? Достала косая костлявой рукой свои жертву! Вчера комбата убило! Сегодня блиндаж опустел! Артиллеристы, те сразу смылись! Ну и ну! Все разбежалась! – Ну что Ваня! И нам пора отсюда уходить – сказал я ординарцу вышел наружу. Дорога от блиндажа спускалась полого вниз. Здесь финские пули совсем не летали. Я ускорил шаг, Иван едва за иной поспевал. Я хотел застать намести Малечкина. Он у нас быстрый, решительный. Сейчас у себя в теплушке, а через миг уже на коне. Он обещал мне через штаб дивизии достать новую стереотрубу. Без трубы наше мероприятие с Самохиным вылетит в трубу. Без трубы нельзя начинать стрельбы с закрытых позиций. Попробуй, встань на край окопа, высунись за бруствер, приставь к глазам бинокль и понаблюдай. Не пройдёт и минуты, как получишь пулю в лоб. Наблюдать в стереотрубу совсем другое дело. Ставишь её в окоп, садишься ниже бруствера, оптические штанги выставляешь вверх и сиди себе, наблюдай сколько влезет. Выставил обмотанные белыми бинтами трубы и спокойно смотри. Ещё при подходе к теплушке где жил наш майор, я зная что он никуда не уехал. Его любимый жеребец стоял на привязи без седла, укрытый со спины одеялом. – Как дела? – спросил я солдата, стоявшего на посту у входа в теплушку. – Здравия желаем гвардии старший лейтенант! Всё в порядке! Майор у себя! Спрашивал про вас. – Ты Ваня иди! – сказал я своему ординарцу. – Располагайся там у старшины! Нужен будешь – вызову! Ординарец пошел по дороге дальше, а я отдёрнув занавеску, висевшую в дверях, вошел во внутрь теплушки. Майор Малечкин сидел на нарах поджав под себя ноги калачиком. Он как всегда был босиком. Он любил в жарко натопленной теплушке сидеть на нарах с голыми ногами и шевелить пальцами. – Ааа! Начальник штаба пришел! – протянул он нараспев. – Мы тут без тебя совсем играть разучились! – Давай, слышь, лезь-ка на нары! Егорка, картишки давай! О делах потом! – Эй вы лодыри, начальник штаба пришел! – толкнул он босой ногой лежащих на нарах ординарца и ездового. Я и эти двое были основной картёжной компанией майора. – Встать человек двадцать! Остальным можно лежать! А то смотрю никакого почёта! – Они и меня за майора не считают! Так, вроде я им крёстный или свояк! – А ты давай лезь сюда! Я знаю тебя! Тебе все дела, дела от игры в карты отвильнёшь! – Стереотрубу для тебя заказал. Разрешение в дивизии добился. – Интендант Потапенко должен её получить и привести сюда. – Хочешь сейчас проверим? – Егорка! Позвать мне сюда интенданта Потапенко! Ординарец поднялся с нар и пошел звать интенданта Потапенко. – Ааа! Пердыщенко пришел! Явился сукин сын! – Я Потапенко, товарищ майор. – А я как тебя назвал? – Я тебя спрашиваю? Чего молчишь? У тебя что, двойная фамилия? – Так как я тебя жулика назвал? – Егорка! Я кого тебе велел сюда позвать? – Потапенко! Товарищ майор! – А ты мне кого привел? Пердыщенко? – Отправь этого и доставь другого! Егорка хватал интенданта за плечи и не церемонясь выталкивал интенданта наружу за дверь и кричал, чтобы было слышно, Потапенко тебя вызывает майор! – и снова впихивал интенданта в теплушку. – Товарищ гвардии майор, Потапенко по вашему приказанию явился! – Вот теперь вижу, когда доложил. – Ты трубу для начальника штаба получил? – Получил! Вместе с ящиком лежит у меня. – Отдай её старшине роты Самохина. Он её на передовую отвезёт. – Можешь идти! Мы и прежде с майором играли в карты. Он забирался на нары. Егорка с него стаскивал валенки и он босиком принимался за это серьёзное дело. Карты были его стихией. Он в любое время обыгрывал нас. К утру он оставлял нас с пустыми карманами без денег. – Так-так! приговаривал он. – Сначала по маленькой начнём! Я не мог отказать майору. Когда он играл, он преображался, становился весёлым. За карточной игрой он разговаривал, рассказывал полковые и дивизионные новости. Слова во время игры лились у него рекой. Но когда игра заканчивалась и он отдавал колоду карт Егорки разговор обрывался и он обычно больше молчал. Он как-то сразу замыкался. Что ему мешало быть самим собой? Офицерская сбруя или валенки, которые не давали шевелить ему голыми пальцами? Я залез на нары не дожидаясь повторного приглашения. Егорка доставал из кармана немецкую атласную колоду, растасовал её, подрезал и снова перемешивал. Егорка – денщик майора выменял её у солдата за две пачки махорки. – Начальник штаба! Что будем делать? В батальоне осталось половина состава. Всего две роты! Я слышал его вопросы и знал что он разговаривает вслух и что эти вопросы больше относятся к нему, чем ко мне. В бревенчатой избушке было жарко, угарно и душно. По середине прохода на земле стояла железная печка. Это была железная бочка из – под бензина. В ней гудело и бушевало пламя огня. Печь топили – дров не жалели. Железная труба, уходящая к потолку была раскалена. Дрова для топки заготавливали в дальнем лесу. Растущие вокруг деревья не трогали. Днём теплушка освещалась через окно. У окна был прибит в виде щита стол, на столе стояли телефоны майора. Телефонисты, писарь и старшины жили в соседней землянке. Интенданты, снабженцы и повара жили в отдельном месте. У меня определённого места не было. Писарь вел за меня все штабные дела. Я как начальник штаба не нужен был. Я и не жалел, что от меня отвалилась штабная работа. Мы сидели на нарах и играли в карты. Майор шевелил голыми пальцами и обыгрывал нас. Когда Малечкин выигрывал, он радовался как ребёнок. Он рассказывал нам о своих похождениях и в это время зазвонил телефон. Майор бросил карты и на четвереньках лез по нарам к столу. С кем он разговаривал, я не прислушивался, к его разговору. Моё внимание привлекла раскалённая железная бочка, стоявшая на земле по середине прохода. Я смотрел на неё и видел, как она дымила и коптила. В квадратном отверстии, вырубленном в её дне, горело и играло яркое пламя. Приятно смотреть на весёлую игру огня, когда на душе спокойно и пули со спины не летят. У немцев печки специальные. В сороковом у них вообще не было печей. Они не думали, что застрянут зимой в России, В сорок втором они для фронта изготовили специальные печи. Такая немецкая печь стояла в блиндаже у комбата Белова. Она представляла собой небольшой отлитый цилиндр с набором труб, которые вместе с печкой подвешивались к потолку. Печка имела герметичную дверку. Через неё загружали небольшие чурки и завинчивали дверку прижимным винтом. В дверке имелся специальный диск с отверстиями. Через большое круглое отверстие поджигалась лучина. Как только чурки разгорались, диск поворачивали на отверстие меньшего сечения. При образовании в печке красных углей, диск поворачивали на самое маленькое отверстие. Воздуха через него поступало мало и только хватало для поддержания тления. Дрова постепенно и медленно обугливались. Ни дыма, ни копоти, одна лучистая энергия. Тепло от такой печки исходило в течении всей ночи. Утром, когда открывали дверцу, в ней тлели красные угли. Такую печку вполне можно было подвесить в любой землянке и матерчатой палатке за трубу в потолке. Самой поразительной особенностью была её лёгкость и экономичность. При медленном и длительном горении она давала достаточно тепла. Достать такую печь было почти невозможно. Тыловики давали за неё целого барана в пересчете на консервы. А бочка в теплушке у Малечкина пожирала целые горы дров. Бочку топили день и ночь. К бочке был приставлен солдат, который целый день пилил, колол и таскал в блиндаж дрова. Такая у него была работа. В теплушке под потолком стоял сизый и едкий дым. Майор ещё разговаривал по телефону, в теплушку с улицы зашел Егор и шепнул мне на ухо – Потапенко трубу привёз! Идите посмотрите. Я вышел наружу. На санях у интенданта лежал продолговатый зелёный ящик со стереотрубой. – Комплектность проверили на складе! – пояснил он мне. Труба как заказывали – новая. – Передай её старшине! Пусть отвезёт в роту к Самохину. Я вернулся в теплушку. Мы просидели за картами до утра. Утром, когда рассвело, завалились спать. Проспали весь день. Наружи было темно, когда я поднялся с нар. Майора в теплушке не было. Я позвал ординарца и мы вдвоём отправились на передовую. Проходя мимо батальонного блиндажа, я взглянул на торчавшую сверху немецкую трубу и подумал: – Никто из штабных полка не занимается стрелковыми ротами. Это меня наладили пулемётчиков опекать. А штабные полка живут сами по себе. Стрелковые роты в обороне торчат в окопах и никого не интересуют и никому не нужны. – Парамошкин, на обратном пути зайдёшь в батальонный блиндаж и заберёшь печку! Майор Малечкин не занимался пулемётными ротами. Он мыслил большими категориями. Ему было важно быть на глазах у штабных дивизии. Он говорил иногда: – Вот получу полк, возьму тебя к себе замом! Солдаты и пулемёты это чисто твоя работа! Для меня передовая была привычной стезей. Тем более, что я теперь не отвечал за определённый рубеж и не держал как Ванька ротный определённый участок обороны. Я не отвечал за него. Я был вроде представителя, консультанта или организатора. Я мог в любой момент уйти с передовой. И это имело значение. Командир роты с солдатами должен был стоять на занимаемом рубеже. А меня это теперь не касалось. Я был штабным офицером. Боевой приказ обороны данного рубежа обязывал Самохина и командира стрелковой роты держаться до последнего. Передо мной стояла одна задача, как я понимал, организовать систему огня и показать немцам, что у нас здесь на дороге мощная оборона и им соваться сюда вовсе не следует. От себя лично я хотел придавить финские пулемёты, чтобы они не стреляли по дороге. Хорошо когда ни за что и ни за какие рубежи на передовой не отвечаешь. Пришел в роту, проверил бой пулемётов, дал необходимые указания, завалился в землянке и спать. Да! У командира роты не только рота солдат на шее, у него к виску приставлен пистолет судебного исполнителя военного трибунала, если он оставит свой рубеж. Вначале я не захотел идти на передовую, сидеть в роте и дежурить на КП стрелкового батальона. Я думал, что лучше остаться в лесу, на своей работе и заниматься бумажками. А раздражало меня больше всего, что я должен идти к комбату Беляеву, и сидеть у него на КП. Потом постепенно всё улеглось и образовалось. Передовая была для меня привычным делом и когда я окунулся туда, я понял, что штабная работа меня не влечёт. Теперь мы шли с ординарцем по большаку на передовую. Далеко впереди в сером снежном сумраке пространства просматривались очертания далёких высот. Ночь была тихая и безветренная. Мы шли по дороге, финн пока не стреляли. По логике вещей нам нужно было пройти открытые участки побыстрей. Но мы с ординарцем почему-то лениво передвигали ноги. Мы шли неспеша, посматривая -вперёд. Вот также медленно и нехотя возвращаются на передовую из тыла солдаты. Фины знали, что с наступлением темноты на дороге обязательно появятся люди. Они стреляли вслепую. Пули находили свою жертву. Потери были небольшие, но действовали на нервы людей. Мы лениво поднимаемся на бугор. Впереди по дороге ползёт человек. Мы с Ванюшкой прибавляем шагу и через некоторое время догоняем его. Солдат продолжает ползти, не обращал на нас внимания. Мы идём чуть сзади, он нас не замечает. – Ты что ранен? – спрашиваю я его. Нагибаюсь над ним, легко тронув его за плечо. От неожиданности он припадает к земле и замирает на месте. – Ты ранен? Чего молчишь? – Не! – тянет он и оглядывается. – А чего ползёшь? – На энтом бугре нас вчера с напарником прихватило. Его убило. А я цел! – Подымайся! Пойдёшь вместе с нами на передовую! – Ты что, из роты? – Не! Я телефонист! Я из полка присланный. Нас на линию в помощь сюда послали. – Ну и помошничек! Мать твою вошь! – Подымайся! Ты слышал что тебе сказали! Солдат поднимается на ноги, вытирает потное лицо и мы втроём идём по дороге. Солдат идёт с опаской поминутно поглядывает на меня. Не прошли мы с километр, как впереди на дороге блеснул огонёк и на нас понеслась извилистая линия трассирующих. Мы прошли по дороге самый длинный участок открытого пути и вот сверкающая лента трассирующих теперь неслась и летела прямо на нас. Пули прошли мимо и завизжали на излёте. Я остановился, солдат и ординарец тоже замерли на месте. Новая очередь трассирующих неслась по дороге на нас. Солдат стал припадать к земле, выбирая момент, чтобы упасть и прижаться к земле. – Куда? – крикнул я на него. – Куда под пули лезешь? – Пули идут ниже колен! В живот хочешь десяток получить! – Стой как стоял на месте! Мои слова подействовали на него, Фнны пускали одну за другой короткие очереди. – Ты что не видишь? – сказал я, набрал воздуха и перестал дышать. Пули прошли у самых ног. Мне даже показалось, что одна чиркнула мне по валенку. – Присядь, присядь! Всю порцию свинца и получишь в живот! – На кой чёрт таких идиотов на свет рожают? – По ногам ударит, можешь живым останешься. А с животом сразу на тот свет угодишь! Новая длинная очередь голубоватых пуль вдоль дороги понеслась навстречу нам. Вслед за ней ещё одна, почти прямая засверкала над бровкой дороги. Мы стояли и ждали удара свинца по ногам. Но вот финн на миг прекратили стрельбу. Мы рванулись вперёд и успели сбежать по дороге в лощину. Мы переждали некоторое время в низине и как только фины прекратили стрельбу мы снова перебежали открытый участок дороги. Теперь лента трассирующих мелькает по самой земле. Вот она ткнулась в дорогу. Пули ударились в мёрзлую корну и разлетаясь в стороны рикошетом уходят вверх. Мы стоим, смотрим и почти не дышим. Голубые горящие огни – это трассирующие. А в промежутках между ними летят пули обычные свинцовые. Их при полёте не видно. Немцы их в ленту набивают по пять штук. Наши экономят – набивают по десять. Знаешь прекрасно, что за каждой трассирующей летят обычные, которых не видно. А на душе скребут – которые горят. Стоишь и ждешь, и гложет тебя тоска. При выходе на следующий перевал опять попадаем под пули. И так всю дорогу. В голову лезут разные мысли. Я даже начинаю думать, не наблюдают ли нас немцы в какую специальную ночную трубу. Снова стоим и ждём. Стоим как приговорённые к расстрелу. В такие минуты даже не думаешь что останешься живым. Для полной картины не хватает кирпичной стены, от которой должны отскакивать пули, Мы стоим лицом к пулемётам и видим как в нас летят голубые горящие пули. У финского пулемёта ствол вскинулся вверх и пули идут у нас на уровне груди. Мы отбегаем на обочину дороги. На войне у солдата свои приёмы, ходы и правила. Стрельба прекращается. Мы стоим и ждём несколько минут. Фины не стреляют. Мы встаём и делаем перебежку в овраг. Мы в овраге на передовой и откровенно говоря устали и измотаны. Я не столько устал физически, сколько был душевно утомлён и подавлен. Почувствовав на себе финские пули, я со всей злостью собрался им отплатить. Я поклялся отомстить им за это. Мы сошли по снежному скату вниз, зашли в ротную землянку к Самохину. Самохин спал, я не стал его будить. Я лёг на свободное место у стены и тут же заснул. Я не притронулся к еде, которую нам оставили в котелке на железной печке. От солдатского хлёбова только мочиться часто бегаешь. Оно как водица подсолена и замешена немного мукой. Пропустишь её через край сквозь зубы. Попадёт на язык мучной комок. Считай, что тебе повезло. Потому и не строили при землянках для своих солдат отхожих мест и сартиров. Где солдат бы мог посидеть о войне подумать. Хлёбово из солдата выходило в виде мочи..Молодой пускал струю на несколько метров, а старики поливали себе на коленки и на валенки. Выдь посмотри! Весь овраг помечен жёлтыми пятнами. Ещё до рассвета мы выбрались из землянки, собрали с Самохиным стереотрубу, отнесли в окоп и поставили на треногу. Весь день я вел наблюдение. Многое, я увидел тогда через неё. Днём же мы пристреляли трассирующими пулями пулемёты. Стреляли одиночными, чтобы не спугнуть и не потревожить финов. – Может ударим им по пулемётам? – предложил мне Самохин. – Ни в коем случае! – ответил я. – Они не должны знать о нашей готовности! Дадим им вначале как обычно пострелять. Пусть войдут во вкус! Пусть уверуют, что мы ничего не готовим. – Стрелять будете только по моей команде! Тебе это ясно? – Ступай и предупреди всех ребят, чтобы во время стрельбы руками не да давили на ручки пулемётов. Гашетку надо держать легко. Как гусиное перышко! Нажмёшь на ручки – цель обязательно уйдёт! Мы сидели в новом окопе на обратном скате и ждали ночи. Вот и засверкали о наступлением темноты голубые огоньки финских трассирующих. Мы дали им время пострелять. – Пусть порезвятся! – сказал я Самохину. – Главное теперь без суеты! – Сейчас мы им врежем! – Подай команду приготовиться всем! Голосом передали команду по всем четырём пулемётам. – Внимание! – Огонь! После команды "Огонь" четыре станковых пулемёта разом вздрогнули и глухо застучали. Били короткими очередями патрон по десять, пятнадцать. За несколько минут выпустили по двум финским пулемётам по целой ленте. А это не мало – двести пятьдесят патрон. Перезарядив ленты мы прислушались. С той стороны ни одного ответного выстрела. Я подождал пару минут и мы снова свинцовыми пулями с чёрной отметкой выпустили по ленте. Гробовая тишина воцарилась на передовой. Что там произошло? Побило пулемётчиков? Ясно было одно, финские пулемёты замолчали. Мы ударили из четырёх "Максимов" свинцовыми утяжелёнными с чёрной полоской. Два финских пулемёта и каждому по тысячи патрон! Представляю себе плотность огня! Часа через два по дороге поедет старшина. Вот будет удивлён! Всю дорогу, скажет проехал, и ни одного выстрела до самой передовой! Остаток ночи действительно прошёл спокойно. А что было до этого? Фины в открытую ходили и ездили. Наши артиллеристы частенько днём видели, что фины гуляют у себя за передовой. Но по одиночным целям стрелять не разрешали, не полагалось портить снаряды, их был дефицит. Фины настолько привыкли и обнаглели, видя нашу безответность, и бездействие, что по дороге ездили в любое время суток. По дороге они не только подвозили питание и боеприпасы, но выходили на дорогу размяться к погулять. Трижды в день по дороге проезжала упряжка. Она доставляла на передний край немцам и финам горячее питание. Вот собственно, почему у каждого немецкого блиндажа было устроено отхожее место. Финская полоса обороны через окуляры стереотрубы предстала в увеличенном виде. Поднимись из-за бруствера. Приставь бинокль к глазам. Понаблюдай поверх бугров и окопы за обороной неприятеля. Тут же получишь пулю за здорово живёшь. Теперь же я сидел внизу под бруствером, сверху у меня торчали разведённые оптические штанги, я видел через оптику как ходили и ездили немцы и фины. Я измерял расстояния и углы характерных объектов, заносил показания в тысячных на схему и терпеливо наблюдая, ждал, что вот-вот покажется что нибудь такое. Как-то днём на дороге появились трое немецких солдат. Один из них вёз за собой ручные санки с широкими полозьями. Дойдя по дороге до спуска с горы, все трое уселись в сани и лихо скатились вниз. Это ни понравилось. Они вернулись в гору. Снова уселись в санки и скатились ещё раз вниз. На снежных высотах и склонах проходила наезженная лыжня. В стереотрубу было видно легко одетых лыжников. Некоторые из них катили по лыжне, другие стояли, наклонившись и опираясь на палки. В стереотрубе перед окулярами появлялись немецкие физиономии и рожи. Я видел, как они разговаривали, открывали рты, шевелили губами, жестикулировали руками, держали в зубах сигареты. Я видел, как они запрокидывали головы и смеялись от души, как они наслаждались жизнью и радовались ей. Ведь мы в них до этого совсем не стреляли. Я внимательно изучал, где их нужно бить было сразу, а где стрелять незаметно и убивать постепенно, по одному. Дал из пулемёта один, два одиночных выстрела, вроде как стреляли из винтовки, а немца прихлопнули. Пусть думают что шальная пуля прилетела. Солдаты стрелки, посматривая на нашу стрельбу. К вечеру я угнал от Самохина, что старшина не привёз на передовую патрон. Самохин ему не напомнил, а я понадеялся на Самохина. Без достаточного запаса патрон стрельбу продолжать бесполезно. Жалко конечно, что мы потеряли ещё целый день. Утром, когда рассвело, я залез в одинокий окоп и стал осматривать в стереотрубу оборону немцев. Случайно в перекрестие оптики попал немецкий блиндаж. Около блиндажа мелькнуло что-то зелёное. Я присмотрелся, в снегу около блиндажа торчала зелёная ёлка. Сначала я подумал, что это артиллерийская веха. Такие ориентиры в виде очищенных от веток стволов и оставлений на макушке нетронутой зелёной хвоей. Длинный голый ствол, а на конце вроде как помело. Их можно было видеть с далёкого расстояния. А тут около блиндажа стояла обыкновенная зелёная елка. Когда я внимательно вгляделся в неё, у меня невольно вырвался смех. Елка была наряжена. На ней висели фонарики, флажки, блестящие шары и торчали свечи. – Иди посмотри! – крикнул я Самохину. – Немцы ёлку нарядили. – В ночь под Рождество бенгальские огни и свечи зажгут. – У них это главный семейный праздник. – Вайнахтен! Так кажется они называют. – А почему Вай! – Вай, вай! Вроде как по-еврейски? Теперь было ясно. Немцы готовятся к празднику Рождества Христова. – Осталось немного! Подождём несколько дней. А на праздничек мы им всыплем тройную порцию. Только патронов побольше нужно запасти. – Представляешь Самохин! Немцы в эту ночь достают семейные фотографии. – Смотрят на них и воображают, что они вместе со своими родными. – Фрау и киндер тоже на фотографии глядят. Мысленно общаются между собою. – У ёлки будут веселиться! – Видит бог Самохин под ёлочкой они и получат тройную порцию свинца! – Это будет настоящий удар! – В Рождество они разомлеют. Распустят нюни. От воспоминаний и чувств слёзы выступят у них на глазах. В этот момент мы им и врежем. – Ты иди взгляни Самохин, как они старательно к смерти готовятся! – Одного мы не знаем, когда оно начнется. – Надо позвонить Малечкину, пусть узнает в дивизии. – А ты знаешь Самохин, какое сегодня число? – Нет! Оно мне вроде не к чему! – Вот так Самохин! Они со свечами пойдут вокруг ёлки, на саночках с горки будут кататься, выдут на дорогу свежим воздухом подышать, а мы их из четырёх "Максимов". – Видишь, как бывает! Стоишь в обороне, кругом вроде всё тихо, делать нечего, нигде ничего не видать. А посмотрел в стереотрубу – тут у них ёлочка, тут у них с горки кататься. – Из пулемётов до Рождества не стрелять! Это мой категорический приказ! Понял? – Передай всем! Никакой стрельбы! И чтобы без всяких таи шуточек! – Они у нас теперь на прицеле! Пусть поживут до праздника! Жить им осталось пару дней, не более! – Я сегодня же иду к Малечкину. Буду просить снарядов. Пусть хоть по десятку на орудие дадут! Ударим сразу! Я ушел в землянку звонить по телефону. Самохин остался в окопе, он продолжал наблюдать в стереотрубу. Ночью я уехал со старшиной в батальон. Разговаривал с Малечкиным. Майор обещал добиться в дивизии разрешения истратить два десятка снарядов. Я передал ему схему обороны немцев с указанием целей, привязанных к координатам карты. Малечкин выложил её перед начальником штаба дивизии. Начальство дивизии пошло нам навстречу. Артиллеристы получили указание дивизии отработать цели указанные по схеме. Они уточнили пристрелку и в ночь с 24 на 25 декабря были готовы по нашему сигналу ударить по немцам. Сигнал начала обстрела – две красные ракеты. Теперь оставалось только ждать. Малечкин приехал из дивизии, скинул валяные сапоги, залез на нары и сказал: – Начальник штаба нас похвалил. Это хорошо, что пулемётчики придумали. На следующий день я вернулся в роту. До немецкого Рождества оставалось два дня. Мы приказали пулемётчикам два дня отдыхать и как следует выспаться. Утро 24-ое было хмурое и ветреное. Днём мы с Самохиным вели наблюдение, вечером подняли на ноги всех людей и объявили боевую готовность. Солдаты заняли свои места. Стрелков тоже вывели на огневые позиции. Стрелкам приказали выпустить по немцам две обоймы патрон. – А куда стрелять? Если не видно ночью ни матушки, ни цели! – Стрелять будете над самой землёй! Положишь винтовку на бруствер и можешь не целиться. Сигнал открыть огонь – две красные ракеты. Ракетница торчит у меня за поясным ремнём. Солдаты сидят в окопах, посматривают в мою сторону. Не могу сказать в котором часу немцы и фины вдруг зашевелились. Они видно в ночь под Рождество решили устроить фейерверк и шествие со свечами. Мы этого от них не ожидали. Они открыли беспорядочную стрельбу. Пальба была в небо в основном трассирующими. От этой стрельбы ночное небо озарилось голубыми прочерками пуль. Тёмное пространство над передовой вдруг озарилось осветительными ракетами. По телефону из полка тут же раздался звонок. – Что там у немца случилось? Немец пошел в атаку? потом на проводе появился голос Малечкина. – Почему пулемёты молчат? Почему не начинаете? – Сейчас начинаем! немцы сидят на месте! Я хотел подождать. Хотел, чтобы побольше немцев и финов высыпало наружу. Бить, так бить! Чего стрелять в пустую! – Самохин посмотри! Они свечи на ёлке зажгли? Ночная мгла сверкала от летящих пуль и осветительных ракет. Нити трассирующих извивались в воздухе. Я поднял над головой ракетницу и медленно как бы целясь, потянул на себя спусковую скобу. Первая красная ракета глухо хлопнула над головой и взлетела. Она заставила многих вздрогнуть и взять на изготовку оружие, пулемёты и пушки. Я ясно представил себе, как все сейчас ждут второго сигнала. Перезарядив бумажный патрон, я рывком дёрнул за спуск и вторая сигнальная ракета полыхнула красным огнём. И в тот же миг застучали пулемёты, затрещали винтовочные выстрелы, из-за леса рванули пушки. Немцы и финн под свою трескотню, которую они открыли, вначале не поняли, что их режут осколки и бьют свинцовые пули. А когда ещё раз грохнули наши батареи и снаряды с воем запели у них над головой, было уже поздно размышлять, им уже некуда было деваться. На КП дивизии узнав что немцы открыли стрельбу опередив нас на полчаса, решили, что они перешли в атаку. Пока звонили, выясняли. Время шло! Дали команду двум реактивный установкам дать залп по высотам. Реактивные снаряды проревев над головой ударили по господствующей высоте. Вот это был фейерверк! Горящие снопы термитных снарядов вскинулись вверх и закрыли собой вершины высот. Стрельба со стороны немцев мгновенно прекратилась. Утром, просматривая в стереотрубу полосу обороны немцев, я увидел пустые поля, бугры и дороги. Здесь уже не катались легко одетые лыжники и любители быстрой езды на саночках. Все попрятались в землянки и блиндажи. Отстрелявшись на Рождество, мы прекратили стрельбу. Пулемётные стволы были сильно изношены. А новых запасных было мало, мы их берегли. Стрельба на передовой постепенно утихла. Кое где промелькнёт над снегом немецкая стальная каска. Промелькнёт и скроется, как проворная полевая мышь. Ни одного выстрела с той и другой стороны. Я ушел с передовой оставив всё и трубу на Самохина. В лесу, в батальоне у меня не было конкретного дела. Моей работой занимался писарь и я не стал у него принимать бумажные дела. Я пришел, посмотрел чем он занимается и сказал майору: – Пусть он продолжает эту работу вести. А я с недельку отдохну! Отоспаться нужно -Может опять пошлют куда в роту! Майор согласился. – Вот молодец! – сказал он. – Пусть писарь занимается этой бумажной работой! У тебя теперь живое дело, люди и пулемёты! Пошли сыграем в картишки! А там будет видно, куда тебе нужно будет идти. И так наворочали всяких дел! Я всю неделю откровенно бездельничал. По ночам мы играли в карты А днём укрывшись полушубками спали на нарах в блиндаже у Малечкина. Потом я перешел в теплушку где жили ординарцы, старшины и телефонисты. Дни стали какими-то сумрачными и короткими. Снаружи то снег зашуршит и заскребёт, то вьюга завоет над лесом, то холодный колючий ветер загудит в железной печной трубе. Иногда снежный вихрь так закрутит и начнёт давить, что с трудом передохнёшь и выберешься из теплушки наружу, глядишь, а в трёх шагах ничего не видно. В одну из таких ночей гудел и беспрерывно сыпал колючий снег, в воздухе метались целые облака и огромные вихри снежной пыли, ветер рвал и сбивал с ног идущих по дороге людей. Куда он дул, отчего бесился? С какой стороны он ревел? Повернёшься на месте, а он опять тебе хлещет в лицо. Я вышел из теплушки посмотреть на непогоду. Постоял на месте, огляделся кругом. Вспомнил Самохина и пулемётную роту. Как они там в такую погоду на передовой? Дорогу занесло и засыпало снегом. Намело сугробы по самую грудь. Как старшина со своей лошадёнкой доберётся до передовой. Лошадь не солдат, на брюхе не поползёт! Лопатой путь себе не расчистит! Вряд ли он к утру вернётся с передовой! В овраге при такой метели все солдатские норы остались под снегом. Утором, если из нор прохода в снегу наружу не пробьют, задохнуться под снегом. Как они выберутся? Трудно сказать! Руками будут разгребать На фронта каждый за себя! Каждый умирает в одиночку! Перечитываю написанное и снова переживаю всё как наяву. "ДВОЕ". "Батуринские леса." Январь 1443 года. На переднем крае дежурили двое солдат. Самохин выставлял их на ночь для охраны землянок в овраге. По обе стороны дороги в окопах на обратных скатах сидели пулемётчики. Они дежурили у пулемётов и посматривали за передним краем. А эти двое ходили вдоль оврага и охраняли овраг. На посту они были двое. Один молодой, другой старый. Они были из одной деревни, земляки, так сказать. А вообще на фронте земляки с одной деревни встречались довольно редко. Двум солдатам из одной деревни попасть вместе в одну часть было невозможно. Их на сборных пунктах сразу распределяли в разные места. Попадись тут близкие родственники или земляки их тут же направят в разные маршевые роты. И уйдут они на войну по разным дорогам и по разным маршрутам. На этот счёт у кого-то и где-то были свои особые и высшие соображения. А как эти двое из одной деревни попали в роту к Самохину никто толком не знал. Нам было как-то не до того, земляки они или родные. В роте были и другие солдаты. Служили в роте и эти двое Для нас что родственник, что земляк, что еврей, что татарин! Для нас одна чёрт! Все воюют и лежат в мёрзлой земле. Всем плескает старшина черпак солдатского хлёбова. Вот только справедливости ради солдат евреев с винтовкой в руках на передовой мы не видели. Они всё больше в тылу, за нашими спинами прятались. Один портной, другой санитар. Еся – парикмахер, Изя – бухгалтер, а Мойша – счетовод, у Абрама гастрит, ему нельзя тяжёлую винтовку таскать. Нам как-то было все равно, что на пост этих двоих ставили вместе. Спят они в одной дыре, мороженый хлеб рубят одной лопатой, хлёбово получают в один котелок. В овраге тишина. Солдаты залезли в свои берлоги. Только эти двое, вобрав головы в плечи, ходят вдоль оврага туда и сада. Молодой солдат – небольшого роста. А старик высокий и худой. Под шинелью у него стёганные ватник и брюки, а костлявое тело угадывается везде. Лицо его маленькое и сморщенное, покрытое складками и морщинами, выражает спокойствие и смирение. Он зевает раскрыв свою небритую челюсть и при этом запрокидывает голову назад. Он с трудом поспевает за молодым, гнётся от ветра, глухо покашливает и под завывание ветра слабо стонет. Молодой топал ногами. На него наваливался сон от дурацкого туда и сюда хождения, от невыносимой пустоты в желудке, от ветра и холода, от озноба во рту. Он не представлял себе, что сейчас, ночь или день? Ротный поставил их на пост охранять овраг и велел ходить до рассвета. И добавил при этом: – Если выду из землянки и увижу, что вы присели и спите – пеняйте на себя! Сразу выписываю извещения, что вы погибли в боях за Родину! Что он имел в виду при этом? Приходилось ходить. И они ходили Снег летел и пылил в глаза. Идёшь по оврагу и задыхаешься от напора. Не знаешь куда головой повернуть. Дых запирает. Дышать становиться нечем. Но главное не ветер. Главное то, что в животе свербит. Ноет и сосёт, что в глазах потемнело. Старик тот шатается и тащиться за молодым, боится отстать и отдать богу душу. Молодой, лениво двигая ноги, идёт впереди. До рассвета ещё далеко. Им ходить и ходить! На молодого снова на ходу наваливается сон. Сон давит и гнёт. Терпеть больше нет мочи. А тут в животе страшная ныть закрутила. Орать в голос хочется. Упал бы замертво и ве муки долой! Вот так всю жизнь и ходишь впроголодь. Хоть бы раз до сыта поесть! Сытым и умереть не обидно! А тут велят до рассвета по оврагу ходить, снег ногами месить. А что тут смотреть? Кругом всё замело – ничего не видно. Ни ротной землянки, ни солдатских нор, снег по колено. На глаза опять навалился тяжелый сон. Взял бы и упал, закрыл глаза и ни о чём не думал. А перед глазами опять ротный кричит, показывает кулак, извещение послать грозиться. А что он не знает, что солдаты не получали сегодня жратву. Умереть не страшно. Не в этом суть дела. Дело в другом. Старшина в роту вовремя не явился. Все голодными с вечера завалились спать. Умереть не сложно. Возьми да умри. И голодным будешь лежать поверх сугроба. Нет уж! До раздачи пищи нужно дожить! А что будет потом? Там уж видно будет! Двое солдат идут вдоль оврага. Вот они дошли до конца, сделали поворот, приподняли веки, прицелились вдоль тропы и снова зашагали в обратную сторону. Надо уметь спать на ходу. Было светло. Про смену в роте забыли. Командир роты Самохин спал в землянке. На смену без него никто не пойдёт, головы не поднимет, тут хоть стреляй над ухом. В который раз они доплелись до дороги. Молодой остановился, а старик, не открывая глаз, повернулся на месте, зашамкал губами и потащился назад. Снежная пыль мелькала и кружилась в воздухе. Она то низко летела над землёй, то встав на дыбы, стремительно бросалась вверх. В десяти метрах ничего не было видно. Молодой солдат взглянул на дорогу, вздрогнул и остановился. Перед ним в десяти шагах стояла упряжка с санями, укрытая брезентом. Старик продолжал шаркать ногами, удаляясь в другую сторону оврага. Сани, укрытые сверху брезентом, показались молодому какой-то странной формы. Но он решил что это у него искажение со сна. Он только что спал на ходу. Ещё один взгляд на брезент и на сани и у него помутилось в глазах. Он глотнул слюну и у него перехватило дыхание. У него под носом стояли сани с продуктами, а старшины поблизости не было. Он видел ясно задок саней, за санями оглобли, а там дальше сквозь летевшую снежную крупу занесённые снегом крупы лошадей. Они стояли по колено в снегу и переступали с ноги на ногу. Они тоже топтались на месте. Он не обратил внимание на их хвосты. Какие там хвосты. У саней ни души, а под брезентом буханки чёрного хлеба. Молодой огляделся. Кругом во всю ширь разливался рассвет. Солдат на передовой обычно кормили ночью. А теперь было утро и кругом никого. Молодой смотрел на задок саней. Ноги сами поднесли его вплотную к брезенту. Старшина по дороге видно что-то потерял и вернулся обратно, чтобы подобрать упавшее. Спина старшины только что мелькнула и перевалила через сугроб. Теперь не зевай! Нужно откинуть брезент и сунуть руку во внутрь. Быстро оглянувшись, он сунул руку и нащупал мешок. Развязав его, он выхватил буханку и сунул её под мышку. Буханка была удивительно мягкая, но уже холодная. Хотел уже взять вторую, а тут за спиной услышал шаги. В первый момент обомлел от испуга. Метнул быстрый взгляд за спину и увидел напарника. Старикашка шел по оврагу на него с закрытыми глазами. – Фу ты чёрт! – перевёл он дух. – Идёт и ничего не видит, старая тетеря! Молодой ткнул старика буханкой в грудь. Тот открыл глаза. Обхватил её обеими руками, повернулся вокруг и заторопился к своей норе. Молодой ещё раз окинул взглядом овраг и дорогу, на которой должен был появиться старшина, выхватил из под брезента ещё две буханки. Одну сунул за пазуху, а другую бросил в сугроб и припорошил снегом ногой. Не отрывал глаз от дороги, он попятился задом к землянке и встал около её прохода. У наших солдат винтовки на постах обычно болтались на ремне за спиной. Так что руки солдата всегда были свободны и готовы для дела. От ветра и холода у солдат с носа текло. Нос вытирали рукавом, шмыгая под носом. На рукавах постепенно нарастала ледышка. На руках были варежки, но запястья холодило. Солдаты ходили спустя рукава, во внутрь втягивая руки. Руки солдата появлялись на свет, когда нужно было что-то взять, завернуть папироску или получить свою пайку продуктов. Молодой и старый стояли в проходе ротной землянки, отламывали куски и засовывали себе в рот. Они торопились и чавкали. А те кто лежали на нарах и спали вряд ли бы проснулись, если бы даже у входа разорвался немецкий снаряд. Их разбудило жевание и шамканье молодого и старого. Сначала один, потом другой, спавшие на нарах солдаты стали выбираться наружу. – А што? Хлеб дают? – Держи в обе руки шире! Сейчас старшина придёт, отвалит тебе! – А вы пошто жуёте? – Мы особо! Не видишь што ль, постовые! – А повозка чья? – А то чья же! – А где сам? – Отошел назад. Потерял что-то! Голодный солдат на счёт чего – чего, а на счёт пожрать, сообразит в одно мгновение. Не успел часовой рот раскрыть, чтобы крикнуть, что идёт старшина, а один из стоявших в проходе уже подбежал к брезенту и выхватил от туда две буханки хлеба. Одну он кинул напарнику, а другую сунул за пазуху и скрылся в проходе. И как только эти двое зашамкали под носом у спящих на нарах, у тех сон как рукой сняло. Несколько человек выбежало наружу, но они не успели и сделать пары шагов, как на дороге показалась фигура старшины, идущего назад. – Ну куда лезешь! Давай осади назад! Не видишь старшина идёт! – закричал молодой для острастки. Тот, кого они так боялись, подошел к лошадям, похлопал их по холке. И когда стал их обходить со стороны саней, чтобы взяться за вожжи, часовой и солдаты, стоявшие у входа, увидели, что перед ними никакой ни старшина, а настоящий немец. Винтовка у немца была за спиной. Он подошел к задку саней и поправил откинутый брезент. Собрался было идти вперёд, но оглянулся назад. Перед ним в проходе землянки стояли русские солдаты. Вдоль оврага со всех сторон уже бежали люди. Брезент был сдёрнут. Его сбросили в снег. Его топтали ногами. Хлеб и продукты, лежавшие в мешках, летели по воздуху в руки солдатам. Кто что успел – то и хватал! Немец видя такой неистовый налёт, попятился назад, встал за лошадей и смотрел от туда оторопело на погром своей повозки и продуктов. На него никто не обращал внимания. Когда продукты кончились и хлеб исчез в солдатских мешках и в санях было пусто, нашлись среди солдат и ротозеи, которым ничего не досталось. А по солдатским законам, устоявшимся на фронте, трофеи, как вроде получка, её никто ни с кем не делит. Что заработал, то и моё! Её никто не раскладывал поровну на кучки. Кому сколько досталось трофей, тот столько и съел. Хочу дам взаймы, обменяю на что, а то просто и пошлю подальше! Командир роты конечно последним узнал о хлебе, о продуктах и о повозке. Повозка была уже пуста, когда он поднялся с нар и вышел наружу. В разгар дела солдаты его не стали будить. Кто знает, как бы он среагировал на это? Мог наложить лапу и отправить продукты вместе с повозкой начальству в тыл. Он и ни такое мог сделать по молодости и по глупости. Содцаты такого допустить не могли. Когда ротный вышел в овраг, к нему подвели пленного немца. Немец стоял с поднятыми руками. Винтовка у него висела за спиной на ремне. Никто не догадался даже снять её и разоружить пленного немца. Командир роты был поражен. – Откуда немец? – спросил он солдат. Солдаты, со знанием дела, стали ему рассказывать. Никто из них не мог видеть где и как блуждал немец, как часто останавливал он своих лошадей на дороге, а сам топая по снегу и нащупывая твёрдую основу дороги уходил несколько вперёд. Убедившись, что дорога под ногами есть и что повозка с дороги не сошла, он возвращался назад, брал лошадей под уздцы и вел их вперёд по протоптанному следу. Он уехал бы и дальше, не останови его молодой солдат, не прихвати у него пару буханок хлеба. Он мог уехать и дальше, до самого штаба дивизии. Командир роты вернулся в землянку, соединился по телефону с полком и доложил о случившемся. Взят немец, санная повозка и две ломовых короткохвостых лошади. О продуктах он ничего не сказал. Ему ответили: – Сейчас к вам прибудут наши представители. Пленного передадите разведчика лошадей заберёт артиллерист капитан. – Ждите! Они едут верхом! – Есть ждать! – ответил ротный и передал трубку телефонисту. Он поспешил на выход, когда услышал несколько одиночных выстрелов. Но в это время снова загудел телефон. Телефонист окликнул его и командир роты вернулся и взял трубку. Через некоторое время в землянку втиснулся прибежавший из оврага солдат. Он доложил, что из полка прибыло верхами начальство. – Разведчик забрал пленного. А капитан, что верхом, требует лошадей. – Пусть берёт! – Он требует, чтобы ему их передали! – Чего передавать? Пусть забирает и уезжает! Командир роты пошел на выход, солдат тут же боком за ним. – Вон он стоит у дороги! – показал солдат рукой. – Вы что сани решили здесь оставить? – спросил ротный, подходя к капитану. – Лошадей уже забрали? – Каких лошадей? – Как каких? За которыми вы приехали! Лейтенант подошел к саням. Центральная оглобля парной упряжки концом уперлась в снег. Здесь же на снегу валялась лошадиная сбруя. Лошадей в упряжке не было. Не могли же они их угнать без саней, подумал он. – На счет лошадей доложили в дивизию! – сказал капитан. – Ну и что? – Как что? Я должен доложить по инстанции, что лошадей получил. – Где они? Они обошли кругом немецкий сани и в стороне, за кустом увидели кровавые следы. Тут валялись лошадиные уздечки, требуха, лошадиные короткие хвосты, головы и лохматые копыта. Командир роты вспомнил о нескольких глухих выстрелах. Теперь ему стало ясно куда девались лошади и что произошло с ними пока он разговаривал по телефону. Его отвлекли тогда. Теперь он понял свою ошибку. Лошадей пристрелили солдаты, разделали на куски, часть зарыли в снег, а часть прихватили с собой в землянки. – Лошадей съели твои солдаты! – выдавил капитан. Кто-то из солдат за спиной даже пословицу вставил: "Держалась кобыла за оглобли, да упала!" – Получилось не хорошо! – сказал капитан. Капитан знал, что ему тоже не простят. Хотя он и не был ни в чём виноват. Он долго мялся и не решался звонить. Он знал что на нём на первом сорвут своё неудовольствие начальники. Командир роты в счёт не шел. Чего с него возьмёшь? Лошадей съели солдаты. Из солдатских нор уже струился весёлый дымок. Варили и жарили конину – Наши клячи – жилы да кости! А эти жирные, как на убой! – слышались голоса из под мешковин, висевших над норами. Чем всё кончилось, я точно не знал. Майор Малечкин знал все подробности. Я пытал его, несколько раз спрашивал, но он каждый раз заливался весёлым смехом. Когда в дивизии допросили пленного, то оказалось, что фины давно сняты с позиций. "З А ЯЗЫКОМ." "Батуринские леса." Январь 1943 года. Вчера был хмурый и пасмурный день. Опушка леса на фоне снежного поля казалась тёмной. Сегодня о утра похолодало. По небу поползли голубые полосы. Проклюнуло солнце. Небо просветлело. Пушистым инеем оделись голые деревья и кусты. Тонкие ветви обвисли и потяжелели. На опушке леса белели седая берёза, осина, ольха и кусты. А макушки елей на фоне побелевшего леса остались тёмными. Ветви у елей белеют, когда на них налипает снег. Оттенки белого и серого на снегу нам приходилось подмечать. Нас бомбили и обстреливали и мы должны были думать о маскировке. Мы наблюдали за явлениями природы и приспосабливались к ним. Выбросы снега из солдатских окоп в зависимости от освещения могли сливаться с общим фоном или просматриваться отчётливо из далека. Вот почему приходилось нам думать и наблюдать за природой. Немцы, пролетая над нашими позициями, сверху отлично их видят. И Самохин решил запутать им свои следы. Он выделил солдат и приказал им в снегу нарыть ложных ходов сообщений. Солдат не дурак. Он заранее знал, что это выдумка ротного и пустая затея. Солдаты вышли, поковыряли, потыкали лопатами снег, плюнули и пошли но норам, завалились на боковую. Теперь их подыми! На кой чёрт им такая работа? Если немец летает и не бомбит. Каждый день на передовой возникают разные идеи, проблемы и разговоры. Однажды вечером мне позвонил Самохин. Просил меня в роту зайти. – Хочу поговорить и об деле посоветоваться! По телефону сказать не могу – Ладно приду! – отвечаю я ему и передаю телефонисту трубку. – Старшина! – кричу я. – Я тут! – Ты когда едешь на передовую? Может нам не ждать тебя? – Еду санями! Примерно через час! – Меня и Ванюшку возьмёшь с собой? Самохин в роту вызывает! – Как прикажите, так и будет! Через час у входа в теплушку стоит запряженная в сани лошадь. Выхожу наружу и гляжу на небо и по сторонам. Ветра нет. В лесу тихо и спокойно. Небольшой мороз. Под ногами поскрипывает снег. Мы удобно усаживаемся в сани. Старшина, шевельнув вожжой, трогает свою лошадёнку. Она медленно идёт по лесной дороге. При выезде из леса, где меньше ухаб и где дорога идёт под уклон, лошадёнка сама переходит на мелкую рысь. Мы лежим поверх брезента на взбитом сене, оно похрустывает дал нами. Лошадёнка бежит по глубокой лощине, сани покачиваться и скрипят на ходу. Лежишь удобно в санях к потягиваешь из рукава папироску. До перевала еще далеко. Огонь из низины не видно. Стрельба с некоторых пор на Бельской большаке заметно утихла. Немцы по выдохлись и наши обленились. Теперь вдоль дороги не видно трассирующих. – Не долго проедем? – спрашиваю я. – Видать вы здесь давно не ездили! – отвечает мне старшина. – Недели две, полторы будет! Лошадёнка бежит мелкой рысью. Кругом ни выстрела, ни одной пролетевшей трассирующей пули. А когда-то здесь они горели снопами. Когда-то здесь без них и шагу не шагнешь. Гашу папироску и бросаю. Лошадёнка с рыси переходит на шаг и мы медленно поднимаемся в гору. Впереди перевал. Отсюда до немцев прямая видимость. Огонь от папиросы в открытом пространстве виден далеко. Выходить на прямой участок дороги с зажженной папиросой не нужное дело. По дороге можно спокойно ездить и ходить, но с огнём показываться опасно. На передовой бывают случаи. Вылезет из окопа полусонный солдат, покажется до пояса над снежным простором. По такой нахальной цели немец обязательно выстрелит. В ответ на выстрел с нашей стороны тоже начнут стрелять, глядишь одинокий выстрел перешёл в настоящую перестрелку. Что-то накапливалось у солдат в этой неподвижной тишине и покое. Хочется пить. Сейчас бы пару глотков настоящей воды из ручья или болотца. Снеговая вода, что тают себе солдаты в котелках, в душу не лезет. Снеговой водой не напьёшься. Хочется настоящей студёной воды. Вода ничего не стоит, когда она есть. А снежную в рот не возьмёшь. У неё какой-то противный талый запах и особый вкус. Говорят, что хлеб и вода – солдатская еда. Согласен! Если того и другого вдоволь и вода не из талого снега. Рассуждая о том, о сём, я не заметил как проехали мы открытые места и бугры, миновали низины, как подъехали к передовой, как лошадёнка сбежала рысью в овраг и остановилась у знакомого куста. – Вот и приехали! – объявил старшина. – Да приехали! – подумал я, слезая с саней. Старшина под куст бросил охапку сена, развязал мешки, откинул крышку термоса и крикнул на весь овраг: – Эй пулемётчики налетай, подходи! Солдаты в овраге зашевелились, забегали. У старшины в руках замелькал черпак. Солдаты налету ловили буханки хлеба, которые старшина бросал каждому на двоих. Я направился к землянке Самохина. За две недели, пока я отсутствовал и не показывался на передовой, землянку, где жил Самохин, углубили и вдоль одной стены прорыли проход. Теперь при входе в землянку не надо было пригибаться и кланяться. Если раньше я мог достать потолок встав на колени, то теперь внутри землянки я мог стоять во весь рост. Нары остались у противоположной стены на уровне прежнего пола. Железную печку поставили в проходе и под нарами прорыли дымоход. – Изобретатели! Первый раз такое вижу! Ложатся на нары и спят на теплой земле! – сказал я здороваясь с Самохиным. – Ну ты чего? Зачем вызывал меня? – Есть важное дело обер лейтенант! Это он так называет меня. – Лазил я тут без вас к танкам. Хотел посмотреть, не наследили ли немцы. Хотел испытать себя. Вот думаю, хватит духу сходить туда одному? Решил проверить характер. – Дошел до танков, обошел их кругом. Посмотрел – следов никаких. Повернул обратно, и тут что-то не то показалось. Дай думаю гляну на компас. Вроде я не в ту сторону иду. – Присел в сугроб. Смотрю на стрелку компаса, а прорезь визира смотрит на запад. Вот думаю! Чуть с дуру к немцам не ушел. – Огляделся кругом. Смотрю, по дороге два немца идут. Я прилег за сугроб, стал наблюдать за ними. – Немцы прошли мимо, свернули с дороги и вдруг провалились вниз. Я поднялся тихо, подошел поближе к тому месту, смотрю, а у них там окоп на двоих. Вроде как ночной дозор расположен. – Вот я и решил вас вызвать сюда. Может сходим, накроем их? Возьмем языка и дело сделано! – Идея хорошая! Можно сказать ничего! – ответил я. – Но без разрешения Малечкина ни ты, ни я не имеем права выходить за передовую. Нужно доложить Малечкину и получить разрешение. – Мы с тобой пулеметчики, держим оборону. А не вольные люди – разведчики Куда захотели,туда и пошли. – И потом. Малечкин отвечает за нас перед дивизией. Он делает политику, а не мы. – А на кой нам эта политика? Возьмем немца живьем – вот и политика! – Нет, Самохин! Ты главного не усек! Зачем Малечкину языки? Пулеметчики должны держать оборону! А не за языками ходить! – У тебя от безделья руки чешутся. Ты так и скажи! Душа у тебя горит, что-нибудь сделать охота! А мы вот привыкли к спокойной жизни, завалялись в лесу. Нам ничего не нужно и ничего не охота. – Если мы и рискнем схватить твоих ненцев, ты не думай Самохин что тебя наградят. Награды в руках держит начальство. Для того,чтобы получить награду подвига мало. Нужно чтобы начальство этого захотело. Нужно показать свое усердие и иметь не замаранную репутацию. А ты сколько не совершай – награды не получишь. Солдаты твоей роты съели лошадей. Посмотри на тыловиков. Они все ходят о орденами и медалями. Прочитай их наградные листы. Что там написано? Они все воевали, а ты с солдатами в окопах отлеживался. Ты вот пойдешь, возьмешь языка, а к награде представят другого. Посмотри на полковых и те, кто служит в дивизии, они все за участие в боях обвешаны. В царской армии за это с офицеров полка давно бы погоны поснимали. – А теперь мне скажи, ради чего ты пойдешь брать языка? Просто так или ради награды? Ты ведь под пули полезешь! Интересно знать. Что тебя толкает на это? – Я в дивизии считай больше, года и все время в боях. Командиром стрелковой и пулеметной роты был. Вот эти два месяца числюсь начальником штаба. Пленных брал и солдат, и лейтенантов, и даже майора. И что за это я имею? – Ты Самохин на фронте всего второй месяц и решил, что тебе за этих вшивых немцев награду дадут. Мы с тобой от Малечкина получим хороший нагоняй, если он узнает что мы за языками ходили. – Ради чего ты пойдешь их брать? – Жалко такой случай упустить! Потом всю жизнь жалеть буду! – ответил Самохин. – В этой я с тобой согласен! С этой точки зрения ты совершенно прав! – Ради такого случая можно и сходить! А что, возьмем да и сходим! – Сходим! Товарищ старший лейтенант! – Ну, вот что! Пошли ребят предупредить пулеметчиков и вою пехоту Скажи, что мы к танкам пойдем. Про языков, никому ничего не говори! – Понял? Нас было четверо. Я, Самохин и два ординарца. Мы поднялись вверх по снежному склону оврага, перелезли через сугроб и осмотрелись по сторонам. Потом медленно стали продвигаться вдоль засыпанной снегом дороги. Мы двигались где перебежками, где на четвереньках, а где ползком. До танков дорогу я знал и шел впереди. У танков мы легли, перевели дух и осмотрелись. Теперь вперед пошел Самохин. Самохин впереди, я за ним и два ординарца с автоматами сзади. У нас с Самохиным пистолеты за пазухой, в карманах по паре гранат, руки свободные. Мы будем брать немцев, ординарцы прикроют нас. Я навалюсь, Самохин обезоружит их, ординарцы помогут, смотря по обстановки. Вот собственно и весь план операции, если его можно так назвать. Впереди лежат небольшие сугробы. Мы поднимаемся на ноги и идем во весь рост. Если ползти ползком быстро устанешь, выдохнешься, будешь весь мокрый. Мы идем по дороге и смотрим по сторонам. На душе спокойно, нет ни боязни, ни сомнений. А когда подходили к танкам, на какое-то мгновение перехватило дыхание. Потом быстро все само собой прошло. Сейчас, когда первый озноб позади, когда на душе ни тревог, ни сомнений идешь спокойно и дышится легко. Самохин остановился, я тоже замер на месте. Все сразу насторожились' и повернули головы к нему. Самохин медленно поворачивается и показывает мне в сторону рукой. Вот мол видишь сугроб. Это здесь. Я тут же взглядом оценил расстояние до цели. Самохин чуть, как бы привстав на цыпочки подался вперед. Поманил меня рукой и кивком головы показал на немецкий окоп. Я тихо подошел, к нему сзади, тронул за локоть, мы подходим ближе, глядим в окоп, а там не два немца, как мы предполагали, а всего один. Он стоит к нам задом. Второй видно ушел в кусты. Я стою у немца за спиной. Самохин обходит его кошачьей походкой с сбоку. Вот он остановился и смотрит на меня. Я съезжаю по снежному скату окопа на спину немцу, обхватываю его одной рукой, а другой, на которой надета варежка, прикрываю ему рот. Но вместо рта попадаю варежкой выше и закрываю ему глаза. Он вероятно думает, что с ним забавляется его напарник. Потому что он не кричит, а спокойно говорит: – Пауль канн нихт! Самохин прыгает к немцу в окоп, забирает у него винтовку. Немец не сопротивляется, отдает ее. Самохин приставляет пистолет немцу к груди, я отпускаю руку и перехватываю его за плечо. Самохин командует: -Хенде хох! Я не вижу лица немца. Какое при этом выражение у немца на лице. Но он послушно поднимает руки кверху. – Лёс! Лёс – говорю я ему. /Давай, давай! Пошел!/ Мы втроем вылезаем из окопа. Ребята с автоматами следуют сзади. Они поминутно оглядываться, смотрят по сторонам, останавливаются на мгновение и броском догоняют нас. Мы быстро бежим по дороге. Вот справа подбитые танки. А вот и снежный скат в овраг к нашей передовой. Самохин валиться в снег, я велю часовому отвести немца в землянку. У входа в землянку толпиться солдаты. Слышен их говор. До нас долетают их отдельные фразы. – Слышь! Наш ротный с начальником штаба фрица привели! – Да ну! Ну-ка давай посмотрим! – Его как с кобылой приволокли? – сказал кто-то и вое дружно заржали. Как я и говорил, так все и случилось. За этого Фрица нам здорово намылили шею. Мы действовали без приказа и разрешения свыше. Немец оказался больным. Нас конечно отлаяли как следует. Хорошо что Малечкин заступился. Так закончился еще один эпизод из нашей фронтовой жизни. Дело конечно не в том, какой попался нам немец. Мы шли на риск. Обнаружь нас случайно немцы на дороге, мы могли бы не вернуться назад. Все дело только случая. Мы рисковали жизнью. Вот если бы мы по заданию начальства пошли, им обломились бы ордена, а нам глядишь и медали. Награды не дают за то, что совершил. Какое боевое задание ты выполнил? Кому это выгодно? Вот в чем вопрос.
* * *

Теперь после мороза и яркого солнца в лесу стало совсем темно и сыро. Влажный ветер налетел откуда-то со стороны, колыхнул ветвями елей и загудел в железной трубе. Отсыревший снег слетел с ветвей на землю. В лицо дунуло мокрой изморозью, и налетевший ветер тут же затих. В лесу стало тихо как перед бурей.
Через некоторое время в воздухе закружились легкие снежинки. Вслед за ними сначала редкие, а затем густой стеной к земле понеслись огромные мокрые хлопья. Тяжелые, липкие, они повалили так густо и плотно, что слились в один сплошной поток и закрыли собой все видимое пространство.
Куда ни глянь, везде летит белая мокрая масса. Она слепит глаза, тает на лице, течет по лбу и бровям, щекочет ноздри и холодит подбородок. Холодная жижа забирается за воротник, тает на загривке и холодной струей сбегает вдоль хребта по голому телу. За густой снежной стеной ничего не видно.
Выплывет из летящего снега голова лошади, уткнется в тебя, ткнет тебя оглоблей, а ездока и саней сзади не видно. Часовые около теплушек жмутся под крыши. Все живое прячется от летящей сверху тяжелой мокроты. Даже лошади, стоящие в коновязях на привязи под навесами из жердочек, поджали хвосты.
– Вот погодка! Мать-перемать! Прости ты меня господи! – говорит старшина, пролезая в проход теплушки.
– Ни черта не видать! Хоть глаза вылупи! Чуть к немцам не попал!
Старшина стащил с себя набухший от воды полушубок, сел на лавку, оперся рукой о край стола и стал снимать с себя отяжелевшие от сырости валенки. Солдат сидевший на корточках около печки стал ему помогать.
– Возьми брат, посуши мои вещички! А я прилягу с дороги. Всю ночь по мокрому снегу маялся, до пояса мокрый!
Размотав мокрые портянки, старшина шлепнул их об пол, стащил с головы шапку и, кряхтя, полез на нары. Натянув на себя сухую шинель, лег и закурил. Лежа он продолжал разговор.
– Еле добрался до батальона! Много раз вылезал из саней. Топал впереди, щупал ногами дорогу. Промок до костей!
Сказав еще пару крепких слов по поводу погоды, он повернулся на бок, почесался от вшей и вскоре заснул. В блиндаже воцарилось молчание.
Я лежал на нарах с открытыми глазами, заложив руки за голову, и смотрел в потолок. Перед глазами лежали закопченные бревна, и с наклоном вверх уходила железная, ржавая печная труба.

На дворе был день. Белый свет пробивался смутно сквозь стекло небольшого оконца. Снежная пелена по-прежнему летела снаружи. Под потолком стоял сизый дым. По шершавой коре бревен всюду ползли крупные капли воды. В теплушке было душно и сыро. Сырость лезла повсюду, во все щели меж бревен. Если в морозные дни в щелях между бревен налипал толстым слоем снег, лед и иней, то теперь все растаяло, и со стен бежали ручьи.
В дверном проеме висит кусок мокрой тряпицы. В самом проходе под ногами хлюпает вода. В теплушке по временам то холодно, то жарко. Поднимет голову, сидящий за столом дежурный солдат, встанет нехотя, подкинет в железную печку охапку дровишек, вернется назад, навалится грудью на край стола, закроет глаза и заснет. Железная бочка через некоторое время полыхает раскаленными боками. Сгорят дрова, остынет бочка и опять холодно. В жару на нарах не продохнешь от крепкого духа, сизого дыма и вонючего пара, идущего от развешенной повсюду одежды.
Над лесом по-прежнему стоит белая мгла. Часовые накинули на себя дождевые плащ-палатки. Сверху у каждого на голове и плечах навалило огромные сугробы липкого снега. Солдаты стоят не шевелясь. Посмотришь на них, они как причудливые статуи.
К вечеру старшина вылезает из-под теплой шинели, недовольно морщится, натягивает на себя сморщенный сухой полушубок, сует ноги в валенки, вздыхает, кряхтит, нахлобучивает шапку, надевает рукавицы и, отдернув мокрую тряпку у двери, матерясь, уходит в снежную пелену. Мне тоже надо вставать.
Повозочный с лошадью и санями уже дожидается его у входа. Повозочный поднялся раньше. Он захомутал лошаденку, счистил с саней наваливший за день снег, подбросил охапку сухого сенца и накрыл сани снова сухим толстым брезентом. Старшина забирается в сани, лезет под брезент. Повозочный пристраивается с краю и трогает лошаденку. Они вдвоем отправляются к кухне.
Лошаденка, фыркая, трясет головой, бьет себя хвостом по мокрым бокам. Дороги не видно. Сверху летит белая пелена. Но лошаденка чует запах кухонного котла и жидкого солдатского хлебова. Она ноздрей с расстояния улавливает знакомый запах. Лошаденка на вид неказистая, с обшарпанными боками, с невысокой холкой. Ни породы, ни вида! Так себе! А соображает хорошо! Она уверенно берет нужное направление и шагает лихо. Получив на кухне хлеб и наполнив термосы, старшина залезает снова под брезент. Повозочный дергает вожжою. Лошаденка разворачивает сани в обратную сторону и топает то дороге. Она хорошо изучила маршрут.
Я стою у дороги и поджидаю старшину, мне сегодня нужно съездить на передовую. Я хочу посмотреть, как там несут службу наши солдаты.
– Ну и погодка лиха! – говорит старшина, когда я подсаживаюсь к нему, залезая под брезент.

Действительно! Кому в голову придет такая идея тащиться, в такую погоду, в распутицу, в хлябь, по разбухшим дорогам. В санях под брезентом сухо и пахнет сеном. Из-под края его видно как тяжелый снег сплошной стеной несется к земле.
– Ну, чего? Что варежку разинул? – басит из-под брезента на повозочного старшина.
– Давай ищи! С дороги сбился!
В лесу накаты землянок и блиндажей сравнялись с землей. Бревенчатые срубы теплушек, стоявшие поверх земли, как-то вдруг провалились и ушли вниз по самые крыши. Кругом в снегу ни тропинок, ни дорог. На всем лежит новый снег и непролазная слякоть. Лапы елей согнулись и обвисли под тяжестью снега. Снежная тяжесть навалилась и придавила их к земле. Только борозды саней и глубокие следы лошадиных ног кое-где петляли около елей. Что будет дальше, если снег не перестанет валить? Кому охота лезть покален в такую жижу?
Гансы и фрицы, хлебнув снежной слизи, тоже притихли. На передовой стояла необычная тишина. Нашим славянам гораздо легче – погодка своя! Ни войны, ни стрельбы. Вроде как мирное время. Даже не вериться – будет оно! А у наших солдат сейчас одна забота, поскорей получить пайку хлеба, черпак варева и убежать, не замочив портки. Никто не договаривался. Стрельба затихла и сама собой прекратилась. Солдаты выбегут, по быстрому, на зов старшины, побрякают котелками, проворно похватают мокрые буханки хлеба, плеснёт он им по чумичке похлебки и они довольные спешат к себе обратно в норы. Где-то там под землей сидят они, скорчившись над котелками, цедят сквозь зубы похлебку и чешут зады. А сверху летит и сыпет мокрый снег. Тишина – аж в ушах звенит!
Я осматриваюсь кругом. Смотрю на скат переднего края, на дыры, куда успели проворно нырнуть солдаты. Под выпавшим снегом дыр их не видно. Кругом, куда не взгляни, лежит белый снег и даже не вериться, что здесь под землей живут и существуют живые люди.
Двумя днями раньше здесь шла война, свистели пули, рвались снаряды и рявкали мины. А теперь тишина! Не война – а хреновина одна! Так говорит старшина, когда с передовой в теплушку вернется. Дороги занесло. У немцев подвоз прекратился. Снаряды берегут! А нашим возить нечего. У нас, когда и дороги в зиму под ногами твердые, на пушку по десятку снарядов выдадут как неприкосновенный запас.
Солдаты теперь рады, что притихло кругом. Да и куда стрелять? Выдь посмотри! Кругом все бело и ничего не видно. Иной раз стоишь и думаешь, в какой стороне немцы и где наши славяне сидят.

Куда стрелять? Может там сидят свои? Ленивое безразличие, и безделье и сонное равнодушие постепенно перебралось с передовой в тылы. И там, в тылах и штабах появилась зевота и дремота. Снег остановил и загасил пламя войны.
Наши прислушивались, не начнут ли постреливать немцы. А немцы седели и побаивались, как бы под эту слякоть и снег на них не навалились русские. Те и другие хотели одного. Тишины и покоя.
Мокрый тяжелый снег сделал свое дело. Он положил начало безделью и дремоте без просвета. Расшевелить славян в такую погоду было не возможно. Даже ротные, привыкшие к затычинам, стали огрызаться по телефону. – Все окопы водой залило! Солдаты по задницу мокрые! Какая вам стрельба? Часовых поставить негде!
Теперь все сидели и ждали, когда сползут сугробы и сойдет вода. Других забот на передовой и в тылу не было. Каждый как мог, коротал свое время.
И вот мало-помалу от дремоты и безделья в тыловых землянках заиграли в карты. Начали от скуки в безобидного дурачка, а потом в ход пошли разные вещички и денежки.
Наш комбат Малечкин тоже не выдержал. У него давно чесались руки сесть и нас обыграть. И майор верный своему успеху и умению явился однажды в штабную теплушку и предложил перекинуться по рублю. Игра продолжалась всю ночь с криками ура, как будто мы в атаку ходили, с шумом и гамом валялись мы на нарах, держась за животы. Утром майор сложил аккуратно приличную пачку красненьких. И довольный своей победой он отправился спать в свой блиндаж.
На следующий день мы с пустыми карманами, имея в остатке кой, что по мелочи, отправились к полковому химику сыграть по маленькой и душу отвести. С Малечкиным мы несколько дней за картами не встречались.
У химика полка собралась, так, вшивая компания, серых игрочишек. Сидели, мусолили карты, играли по маленькой, скромно, без риска, тянули время с переменным успехом. На третий день игра не пошла. Не пошла – и всё! И наша компания распалась.
Прошла ночь и день, мы валялись на нарах. В теплушку заглянул Малечкин, мы пригласили его сыграть в картишки.
– Ладно, приду, погодя – сказал он и вышел наружу.
– Пойду Егорке задание дам, чтоб вычистил лошадей, – услышал я его голос за порогом.

Майор входил к нам в теплушку всегда веселый. И в этот раз, показавшись в проходе, он улыбнулся, подмигнул нам одним глазом, откинув мокрую занавеску, висевшую на двери.
Он сразу забрался на нары, окинул нас исподлобья решительным взглядом и стал потирать от удовольствия руки.
– Садитесь соколики! Присаживайтесь братцы пулеметчики! Как я чувствую, гвардейцы, у вас опять денежки завелись! Как червячки по груди под рубахой ползают! Покоя не дают! – и он почесал и поскреб у себя ногтями под рубахой.
– Химика полка обыграли? По моей методе стали работать? Ну-ну!
– Посмотрим, как вы усвоили мою науку!
Майор скидывал с ног валенки, доставал из кармана колоду карт и заражал нас своей веселой лихостью.
Ни одна карта из колоды не выходила без его веселой шуточки, анекдотика или прибауточки. Возможно, вся тактика и стратегия его игры заключалась и была построена на веселых словечках, чтобы подзадорить нас и заставить пойти на риск. И мы поддавались, рисковали, играли в темную и брали переборы.
Майор сразу нас не обыгрывал, давал время нам позабавиться, играл сдержанно. А нам было весело, время летело быстро. В двадцать лет день тянется долго. А зимняя ночь как сама вечность. За картами время летело быстро.
Майор не хитрил, играл просто и честно. Мы сами под его шуточки лезли на рожон.
– Ну, ладно! На сегодня хватит! Уже утро! – говорил он отвалясь на нары.
– Мне спать охота! А у вас денег наверно больше нет?
– Хватит гвардейцы! А то вы вкус к игре совсем потеряете! Побежите опять к полковому химику по моей методе его обыгрывать. Знаю я вас!
У химика полка игра в карты не клеилась. Как-то так, взяла и не пошла! Играть было скучно и нудно. Всему приходит конец. Карточная игра надоела.
Но химик полка – светлая голова! Он лодырь и бездельник, но мысль у него работала остервенело. Видно по причине своего интеллекта он и на передовую не попал. Не то, что мы дураки под пули лезли. Он и во время боев все время терся в тылу со своими противогазами. Звание у него было не большое. Всего то старший техник-лейтенант, а котелок у него варил не хуже генеральского. Если бы не маленькое звание и не противогазы, которые числились по ведомости за ним, то именно он, а не какой-то там Добровольский принял семнадцатую гвардейскую дивизию.
Звонит он однажды и предлагает нам зайти к нему. Приглашает усиленно.
– Есть полфляжки спирта с закусоном! – говорит.

Видно затосковал он. Душа заныла. Соскучился по нашей компании. Раз просит – нужно зайти! На закуску сала посулил поджарить. Откуда у химика сало? Не иначе где спер! Не на противогазы же он их выменял у интендантов! Собрал в лесу брошенные противогазы и на сало сменял! Ха-ха! заговорил, небось, зубы и спер! А где ему еще взять?
На фронте шустрый народ. Плохо положи – тут же сопрут. Потом можешь не искать. Сало не дрова – на дороге в лесу не валяются. Затосковал химик по компании, коль мы ему понадобились. А что мы ему? Просто дружки и приятели.
Встретил он нас ласково, с доброй улыбкой. Налил, как обещал горло промыть на пару глотков – по полкружки. После второй подал на стол шипящее сало на сковородке. Вроде как бы нам рты жареным салом заткнул, чтобы мы не разевали рты и не перебивали его во время просвет беседы. Потому что собирался он сделать нам что-то вроде доклада.
– Сегодня доложу я вам, – начал он, – о старой древней игре! Мы, конечно, не знали, в чем будет суть его речи. Мы пожали плечами, вот так же, если бы вам сейчас предложили сыграть на вшей.
Мы недоумевали, а он был в восторге. Мы не догадывались, а он улыбался до ушей.
– Теперь самое время, – сказал он, – рассказать о сути этой офицерской игры.
– Но учтите! – начал он вкрадчивым голосом.
– Игра эта не столь забавная, сколько напряженная и азартная.
– Мы гвардейцы! Она нам вполне подойдет! Мы же не всякие там занюханные интеллигентики! Вначале мой рассказ пойдет не о самой игре, а так сказать о предмете исследования. На него вы должны обратить особое внимание. Потому, что именно на него вы будете ставить ваши денежки.
Кому мой рассказ придется не по вкусу и вызовет неприятные эмоции, думаю, что среди утонченных натур такие найдутся, они могут сказать презрительно: – Фу ты! Какой ужас! Советую им пропустить мимо ушей вшивую часть моего повествования.
Химик свернул свою ладонь трубочкой, всунул туда губы и сделал громко так, что мы не поняли, откуда собственно вырвался звук. Он прогудел как старая ржавая труба. После этого он изысканно и манерно достал носовой платок и вытер губы. У интеллигентного человека платок всегда должен быть в кармане. Не то, что у нас. Носовой платок он приложил к губам. Хотя сделать это мог просто бумажкой. Если от натуги порвал штаны.
В землянке у химика было жарко и душно. А еще прибавился запах кислой квашеной капусты.

Многозначительно покашляв несколько раз, чтобы рассеять наше внимание и привлечь его к себе, чтобы отвлечь наши мысли от жевания твердой шкуры от сала и от запаха, стоявшего теперь под потолком, он продолжал свой доклад.
– Вша, с точки зрения науки и истории, это непременный спутник любой войны. Рассказ о вшах нужно начинать издалека, иначе говоря, развернуть его исторически. Вшу, как живую божью тварь, нужно мысленно интеллектом познать, а не скрести у себя на гашниках. Как это по незнанию дела ют наши солдаты. Ловят их и давят на лопате ногтем.
– По латыни вша звучит "Педикулез" – продолжал химик.
– Это вроде как ридикюль! Которые дамочки таскают под мышкой! – сказал кто-то, чтобы показать свое тонкое знание иностранных названий.
– То ридикюль! А это педикуль! Разница есть? Чуешь? – поправил его химик
– Педикулез Потапенко! На языке медиков, это значит, что ты вшивый Потапенко
– Ясно – промямлил Потапенко. А я раньше не знал! – и, задумавшись, он зачесал в затылке.
– Возьмем, к примеру, данные за тысячелетия! – продолжал химик.
Человек появился на земле 600 тысяч лет назад. А вша уже существовала и поджидала его. 30 тысяч лет тому назад люди орудовали каменными топорами и вши грызли им волосатые загривки, 10 тысяч лет до нашей эры появились шлифованные кремниевые топоры. Но следов на их полированной поверхности от раздавленных вшей науке обнаружить не удалось. Но вот в Египте четыре тысячи лет до нашей эры, во времена правления фараонов, а это наукой установлено точно, в розетках и ладанках нашли трупы засохших вшей. Да-да! В розетках были обнаружены засохшие трупы фараоновских вшей. Насекомых собирали с себя и знатные дамы. Срок не малый! Четыре тысячи лет! Вот когда человечество впервые признало, что их донимают и едят блохи и вши.
Химик замолчал. Почесал за ухом. Поскреб на груди и о чем-то задумался.
– Жил, был король когда-то. Блоха у него была… – запел он бархатным голосом.
Химик умный человек. Он налил нам еще. Нельзя такую небесную теорию выкладывать залпом, если у слушателей от внимания в горле пересохло. Надо, чтобы аудитория сделала передых, прочувствовала, подумала и переварила сказанное, осознала суть идеи и почесала себе затылки. Сегодня подумать об этом не смеешь даже, а тогда на войне вши были обыденны и естественны. Хоть и нет у нас этих тварей сейчас, возьмешь иногда, да и почешешься.
Химик прав. Дороги войны были усеяны не только нашими трупами, но по ним с войсками шли на запад и вши. Вши были национальной гордостью не только России, но и Великой Гармонии.

Зима это самый суровый и вшивый период года. С первым снегом они появляться и с первым дыханием весны исчезают. О вшивости немецкой армии особый рассказ. При взятии пленных мы их допрашивали о военных делах и разных секретах, мы вежливо задавали им вопросы и о вшах. Они чесались при этом и довольно подробно рассказывали. Вернемся к немцам потом. Я вспомнил один эпизод. Хочу рассказать, пока не забыл. – Вша это вещь! Вши это слуги народа! Вши это слуги холода, голода, людских страданий и ужасов войны. Помню один разговор солдат на передовой. Я сидел рядом в окопе и наблюдал за немцами.
– Что-то у меня братцы вшей совсем не стало! Сбежали надысь!
– Эх, дело твое плохо!
– Это почаму ж?
– Когда корабь тонет, первыми крысы бегут! А крысы, как вши! Вот они у тебя и сбежали!
– Ну и што?
– Как што! Завтра убьют!
– Ну да!
– Вот тебе и нуда! Вша, она живого никогда зря не покинет! Она брат не баба! При тебе живом к другому не сбежит!
– А почему же у меня сбяжали?
– Я тебе сказал! Ты уже покойник!
– Как жа мне быть?
– Солдату без вшей не положено жить!
Если бы не лекция химика, я бы не вспомнил этот разговор. Лекция всегда наводит на мысль. На лекции всегда что-то свое вспоминаешь. Из жизни факты берешь. Помню, как нас до войны в училище проверяли на форму двадцать. На утренней поверке в строй старшина роты заставлял нас выворачивать наизнанку воротнички. Он ходил и внимательно рассматривал у нас у каждого швы воротничка.
Мы русские люди ко всему привычные. Мы к грязи, холоду и голоду сызмальства привыкши. А на немецких солдат было страшно смотреть. В первую же зиму потеряли они человеческую совесть и стыд. Чешутся в избе при дамах, то есть при бабах, давят вшей на столе за едой.
Что говорил химик дальше про вшей и про войну, я дальше не слышал, потому что был задумавшись. Вспомнил я тут еще один случай. На лекции сидишь, всегда о чем-то постороннем думаешь. Потому и вспомнил я этот необыкновеннй случай.
Помню госпиталь и одного молодого лейтенанта. Он лежал в гипсе с перебитым бедром. Ему нельзя было шевельнуться. А он метался и стонал ни от боли в в бедре, а от вшей, которые у него развелись и грызли его под гипсом. Он сходил с ума, что нельзя разрезать гипс и вычистить оттуда вшей. Он просил и умолял врачей что-нибудь предпринять и сделать, чтобы прекратить его страшные мучения.

Ребята, ходившие на костылях, приносили ему с улицы обрывки проводов и куски железной проволоки. Он сгибал их петлей, подсовывал под гипсовую шину и чесал сгоняя с насиженного места вшей. Он пытался их поддеть и выудить наружу, но они заползали глубже и грызли его сильней.
– Они лезут дальше! – кричал он и смотрел нам в глаза.
Он не давал нам покоя ни днем, ни ночью.
Лежит лейтенант – молодой мальчишка, мотает головой, иступленно смотрит, стонет, скрипит зубами, а его успокаивают врачи:
– Потерпи милый! Еще недельку потерпи! Нельзя сейчас трогать гипс на ноге!
Однажды на обходе появился врач, такой шустрый старичек. Звание его под белым халатом не видно. Лейтенант взял и пожаловался ему на свою судьбу и страшную муку. Он осмотрел гипс, обругал стоявших за спиной врачей и велел вести лейтенанта в операционную.
Посмтрели бы вы на него, когда он вернулся в палату, на его счастливое лицо, на светлую радостную улыбку. Он избавился от своих страданий. Он забыл о боли и о своей тяжелой ране.
Суеверные люди утверждают, что от горя и страданий заводятся вши. Мне пришлось перебрать в своей памяти многое, прежде чем я установил, где и когда наша рота, прибыв на фронт, впервые подцепила вшей.
После ряда сопоставлений фактов я пришел к выводу, что рота зачесалась, когда мы влились в состав 119 стрелковой дивизии.
В 297 отдельном пулеметно артиллерийском батальоне Западного фронта нас кормили досыта. Воровать, видно наши снабженцы тогда ещё не научились.
А в батальоне были новые люди, москвичи. И вшей у нас в тот период не было. А как только мы попали в одну траншею с солдатами сибирской дивизии, сразу хлебнули бледной баланды, и рота зачесалась.
От голода, говорят, тоже заводятся вши. Что тут такого? Война! Окопы! Смертельный страх! Интенданты жулики! Голод и вши!
Я ничего не хочу сказать особенного. Ничего не хочу сгущать и приукрашивать. Рассказываю все, как было. Поскольку наша жизнь надо полагать, не вечна. Она может оборваться в любой момент. Мне нет никакого смысла скрывать что-либо из прошлого и уносить тайну пехоты в могилу с собой.
Могу уточнить. В траншее мы подцепили не просто вшей, а особую, лютую, морозоустойчивую сибирскую породу. Так, что на наших московских гашниках они быстро освоились, развелись и озверели, как наше новое тогда полковое начальство. По свирепости и кровожадности они превзошли сами себя. Мы гибли под пулями и снарядами, а они нас грызли за то, что мы не шли решительно вперед и топтались на месте.
Европейские и тем более заокеанские популяции с этой сибирской породой в сравнение не шли.

Сибирские вши злы и свирепы как сибирские морозы, злобны как таежные собаки, дики как сибирские чалдоны. От них, как от сибирской язвы никуда не уйти. Никакие баварские, прусские и прочие немецкие и другой иностранной породы по шустрости и живучести соперничать с ними не могли.
Немецкие, например, Ляусбубе (Вшивый мальчишка) с черной отметиной и полосками на пробор, которых с гордостью носили с детства солдаты фюрера, тут же потеряли чистоту расы и крови, лишились, так сказать родословной, так как в первую же зиму сорок первого смешались с ленивой низкорослой тверской породой. Не уберегли немцы чистоту своих вшей. И все потому, что не могли находиться и спать в снегу. Им подавай натопленные избы. Они лезли на взбитые перины и на мягкие пуховые подушки, под ватные одеяла, сшитые по тем временам из пестрых клочков и разноцветных клиньев. Вроде как наше полковое начальство.
Немцы, конечно, могут возразить, что вшей они, подцепили на войне и что до войны они вшей не имели. Что это благо они приобрели в удачных походах. Но мы то знаем из старых книг, что Ляусбубе давно существовали. Не со времен ли Фридриха Великого они у них завелись.
Немцы всю Европу прошли. Пограбили вдоволь и от души, как следует. Кое-где до последней вши унесли. А когда они маршировали по просторам России, они эту тварь имели в огромном количестве.
И сейчас, когда наступило затишье, когда весь фронт завалило мокрым снегом, они задумались о походе на Россию и зачесались наверняка.
Наши солдаты, сейчас сидят на передовой и без понятия гоняют вшей. Мы офицеры младшего звания слушаем лекцию по теории вшей. Занимаемся обобщением идеи и практики, человеческого опыта. А наши начальники, рангом повыше, получив чистое белье, хлещутся в баньках березовыми вениками.
Каждому – своё!
Химик полка предлагает нам после лекции провести семинар – сыграть на деньги каждому на собственных вшей.
Хотите знать о войне все по совести? Без всяких там ура и прикрас. Могу рассказать вам кое-что!
Вспоминаю, светлую личность полкового химика. Человек он был трусливый, но скажу вам, с благородством души. Он, правда, все время сидел в тылу и за свою шкуру боялся.
А, у нас, у молодых прошлого тогда не было. Настоящее было безнадежно и смутно. А будущее нам тогда вообще не светило.
Впереди у нас лежала кровавая дорога, по которой нам предстояло пройти. Смерть нас ждала каждую минуту. Вперед нас подгоняли и торопили. В этом одном, пожалуй, и был высший смысл всей войны.

Поначалу нам казалось непостижимым, почему мы должны были исчезнуть с лица земли. Но потом, постепенно мы к этой мысли привыкли, кое в чем стали разбираться и соображать. Мы ходили и трясли своими вшами. Вши для нас были наградой вроде как ордена и медали. И чтобы как-то преодолеть хоть мысленно несправедливость, мы стали думать и чесать загривки, смотреть по сторонам. У нас перед смертью, со временем, пробудилось сознание, чувство достоинства и умение подальше послать.
А сейчас, когда делать было нечего, когда мокрый снег залепил всем глаза, мы сидели у химика и убивали время.
С тех пор в азартные игры я не играю. Еще на фронте утрачено был духовное начало игры. Остались позади кровавые военные годы и безысходная тоска по самой жизни. Разумный человек не будет убивать свое время. Да и что за удовольствие трепать в руках затертые карты, с размалеванными дамочками и замусоленными королями.
Во время войны мы были отрезаны от жизни и внешнего мира. Мы одной ногой стояли в могиле, а под коленкой другой гоняли вшей. На что мог, надеется ротный офицер?
Была среди нас одна светлая личность – химик полка. Где он теперь? Вот у кого были быстры и проворны вши. По полку даже ходили слухи, что он за красненькую давал по паре своих вшей другим на развод.
– На бери! – говорил он, – не пожалеешь!
И поднимал указательный палец многозначительно.
– Осторожно сажай! Куда суешь? Сажай по мышку!
– Ноги не повреди! через пару дней можешь играть на них!
У некоторых отъевшихся интендантов вши были ленивые, брюхастые, на коротких ножках, с толстым отвисшим задом. А у химика им не в пример, наоборот худые, поджарые, с длинными и сильными ногами, как у стайеров бегунов.
Нащупаешь ее легонько под мышкой! Деликатно бери, чтобы ножки не помять! На холодном столе не держи! Переохладиться может! Ты ее лучше для пробы на теплой ладони побегать пусти! Потому, как она торопливо бежит, как на свету ножками шевелит – можно сразу сказать. Способна она? Можно ставить на нее полсотни? Или подождать? Другую достать? Не сразу угадаешь, пока подберешь достойную!
Статистика игры неумолима. Если твой партнер лысый и в годах и у него округлился животик, если его физиономию бреет полковой парикмахер Еся Кац, то какая тут может быть прыть и приличная скорость? По телу у него ползают неповоротливые твари. У него конечно руки чешутся. Ему охота выиграть ценную трофейную вещицу. Кольцо там или портсигар. Я не говорю про часы на семнадцати камнях.

В игре он не может рассчитывать на успех своих тихоходных вшей. Он тоже хочет играть на быстрых и шустрых легавых. Вот и платит он химику за каждую пару по червонцу.
– А теперь о самой игре! – услышал я голос химика, оторвавшись от своих собственных мыслей.
– Если на нарах расстелить сухую плащ-палатку и разгладить ее рукой, вот здесь с краю провести карандашом прямую черту, то эта линия будет для вшей стартом. Химик разгладил рукой плащ-палатку и провел у самого края черту.
– А там, – сказал он, – в другом конце карандашной линией обозначим финиш. Вот все и готово для игры!
– Кто хочет играть, прошу в кон ставить по четвертному! Каждый у себя под рубахой достает вшу и по моей команде опускает ее на линию старта. По команде – Марш! Все отпускают своих вшей. Я подношу, к краю плащ-палатки зажженную гильзу и вши от огня побегут в темноту. Они не свернут ни влево, ни вправо. Они будут бежать только прямо. Это неоднократно проверено и установлено точно. Чья вошь быстрей добежит до линии финиша, тот и снимает из банка тройную ставку.
– Учтите! С каждым новым забегом общая сумма в банке растет. Начинайте с маленькой, а потом можете ставить и сотенные.
Мы были в восторге! Мы были поражены! Какая логика! Какое знание истории! Такого человека нужно до конца войны сохранить и сберечь! Каких он потом вшей и гнид разведет!
Вши, которые нас до сих пор ели и грызли, приобрели для нас теперь особое ценное значение, можно сказать игровой, денежный смысл. Хорошая вша теперь была в цене. Она могла обогатить любого вшивого офицера. Да, да! Озолотить, если хотите! Потому, что кроме денег, трофейных часов и разных блестящих вещиц и предметов, в банк ставили золотые колечки, браслеты и цепочки. Ставили туда и немецкие сигареты, цветные фонарики, ножички, бритвы "Золинген", помазки из натуральной щетины, расчески, пачки русской махорки, соло и консервы. Так что, имея быструю и шуструю вшу можно было выпить и закусить.
Каждый надеялся, что именно его вша первой доберется до финиша и полфляжки спирта, которую поставил интендант, достанется ему.
Мы не рассчитывали дожить до конца войны. Нам побрякушки и золотые колечки были не к чему.

Но случалось и так. Вша бежит, бежит, да возьмет и встанет. Остановиться по середине дороги и стоит. Хозяин из себя выходит. Трясет кулаками. Материться на чем бог стоит. А она стерва замрет на полпути и отдыхает. Тот с обиды давит ее ногтем. Хрупнет она глухо и лопнет. И на плащ-палатке останется пятно с черной размазанной кровью.
Играли мы, забавлялись. Но вот однажды в дивизию завезли чистое белье. Для солдат и ротных офицеров натопили бани. Привезли, поставили вши бойки. Это вроде ящика на салазках из бревен высотой в человеческий рост. Туда загружается солдатское обмундирование, и жариться при высокой температуре. Под ящиками для этого сделаны специальные топки. После бани всем солдатам и нам устроили санобработку. Там где у нас волосы растут из ведра длинным помелом намазали вонючей мазью. Потравили всех вшей. Химик полка вздыхал. Какая жалость! Испортили такую игру!
Некоторое время у нас вшей действительно не было.
* * *
22.09.1983 (правка)
Февраль 1943

Жизнь в лесу, где стояли полковые штабы, тылы и обозы, шла своим чередом. Суета начиналась с утра, когда пробуждалось начальство.
Очумев за долгую зимнюю ночь от гари, копоти, жары и спертого духа, полковое начальство из теплушек выбиралось наружу дыхнуть свежего воздуха, сбросить оцепенение и дремоту, ополоснуться холодной водицей.
Новый день начинался с позевывания, потягивания и почесывания. В лесу слышались глубокие вздохи, хриплый кашель, ругань и сиплые голоса.
Один чесал за ухом, смотрел вверх, сквозь макушки деревьев на серые проблески неба, беззвучно шевелил губами и пытался решить:
– Какая будёт нынче погода? Будут бомбить немцы?
Другой водил ладонью по небритому подбородку, кривил складки рта, морщил красноватый нос и задумчиво произносил:
– Будут!
Из солдатской теплушки наружу вываливался заспавшийся полусонный солдат, скреб себя ногтями под рубахой, за пазухой и хриплым голосом произносил:
– Хрицы нынче летать не будут!
– К обеду, видать, снег должон пойтить!
– Вон как небо заволокло и затянуло!
– Умываться будете? Товарищ гвардии капитан?
– Давай поливай!
Капитан протягивал руки. Солдат котелком черпал из бочки студеную воду, лил и приговаривал:
– Пусть моются! Им чесаться лень!
Он лил начальству на руки не жалея воды.
Полковые плескались и фыркали, охали как бабы и поглядывали на солдат. До них только сейчас доходил смысл ехидных солдатских слов. Чем-то он любезный недоволен? Нос стал воротить. Да и очень уж плещет без разбора. Не балует ли он?
Но солдат и не думал шутить. У него спросонья просто с языка сорвалось. Он черпал и лил, стараясь всякому угодить.
Человек своей жизнью шутить не будет. Кому охота на смерть идти? Отсюда быстро отправят на передовую. Передовая это не кино. На передовую солдат умирать отправляют.

Офицеры чином постарше имели своих личных, так сказать, денщиков. Они еще с порога подавали свой зычный голос. Денщики от голоса вздрагивали и бежали на голос “самого”. Попробуй, не успей, оступись, сделай промашку – к вечеру соберешь манатки. Здесь в тылах полка ухо нужно держать востро, здесь нужны ушлые и расторопные люди. Посмотришь на солдата с передовой, он на полковых офицеров ноль внимания. Он не повернет голову, когда его окликнет офицер.
Разомнут свои застылые мышцы полковые начальники, расправят плечи, освежаться холодной водой, поедят, попьют с утра в свое удовольствие, разойдутся по блиндажам и теплушкам и угомоняться на целый день. В лесу настанет тишина и покой. Слышно только позвякивание стальных удил и уздечек, жующих сено полковых лошадей, да слышны удары топоров, это полковые солдатики занялись пилкой и колкой дров.
Пройдет немного времени и картина в лесу изменится. Для солдат тоже наступит долгожданный момент. Откроет повар крышку у походного котла, постучит черпаком по его бокам, помешает солдатское варево и встрепенуться серые шинельки. Здесь же рядом, на круглом пне, как на плахе, рубят не головы, а мерзлые буханки хлеба, ледяные брызги от них разлетаются в разные стороны.
Солдаты, бросив работу, бегут, поспешают, гремя котелками, к котлу. У котла собралась толпа, все лезут вперед, толкают друг друга – ни какого порядка! После мерзлого хлеба и горячего хлебова можно присесть и закурить. Так проходит день за днем у полковых, штабных, тыловых и обозных солдат и офицеров.
Старшины рот к утру возвращаются назад лежа в санях. Они не ходят возле саней, подергивая вожжами, как это делают полковые обозные. Тыловые обозники в лесу, на глазах у начальства, побаивались ездить в санях, они шествуют рядом, понукая лошадёнкой. Нужно соблюдать заведённый порядок. Но стоит им выехать на лесную дорогу, они тут же усаживаются в сани. Этикет соблюдают!
Жизнь полкового тыловика идет своим путем. Она не похожа на жизнь солдата с передовой. Они
по-разному ходят и смотрят. Во взгляде и на лице у них разное выражение. Один живет на земле со смертью за спиной, другой гнет спину, старается угодить, чтобы не загреметь на передовую. У одного жизнь как день, у другого она минутой.
Погода в феврале не устойчивая, меняется каждый день. То холодно и морозно, снег скрипит под ногами, ветер вьюжит. Завтра вдруг потеплело, зазвенела капель. В ней всеми цветами радуги загорится зимнее солнце.
Присмотрись к жизни в лесу. Вроде все идет своим чередом. А глянешь иной раз, и в глаза бросается какое-то скрытое движение. Явных признаков нет, беспокойства не видно, но замечаешь что-то не обычное в жизни полка.

На передний край перестали подвозить боеприпасы. В роты поступил приказ углубить и привести в порядок окопы. Солдаты лениво и нехотя ковыряли землю лопатами.
Однажды из леса ушел небольшой груженный имуществом обоз. Остальным было приказано чинить сбрую и собирать инвентарь. Никогда такого не было, чтобы в затяжной обороне вдруг стали трясти всякое тряпье и барахло. Передислокацию дивизии держали в строгом секрете. Мало ли что! Штабным ничего не говорили. Но мало-помалу мы стали замечать, что тылы полков готовятся к переезду.
Дивизионный ветврач, наш главный коновал, увешенный орденами и наградами, получил нагоняй за то, что полковые лошади оказались не перекованными? Химик полка чуть не загремел со своего места, потому что не собрал разбросанные по лесу противогазы. Раненые, приходя с передовой, бросали их, где попало: где под ель, где вешали на сук, где просто бросали подальше на снег. Так одну службу за другой стали проверять, делать вливания. Не трогали только солдат с передовой.
Когда у Малечкина запросили наличие людей и материальной части, стало очевидным, что дивизия готовиться к переходу.
Немецкая авиация не летала. А дни были ясные и солнечные, немцы могли бы заметить, как по тыловым дорогам потянулись обозы, как на передовой зашевелились солдаты. Немцы не предполагали, что мы в такую распутицу перейдем в наступление.
И вот однажды в расположение наших тылов пришли солдаты какой-то другой дивизии. Наши обозные вдруг забегали, сорвались с места и укатили куда-то за лес.
На следующий день, на передовой произвели смену. Оставив после себя кучи мусора, рваного тряпья и отбросов, дивизия вышла из леса и стала стороной обходить линию фронта. Куда мы шли, мы не знали.
Передвигаясь ночами, мы каждый раз на день останавливались на привалы. Всполохи артиллерийской стрельбы на всем нашем пути освещали ночное небо. Гул и удары тяжелых снарядов слышались где-то вдали. Они то нарастали, приближались к нам, то отдалялись.
Последняя ночь была светлой и морозной. Мы медленно и устало двигались по лесной дороге. Справа от нас появилась еще одна дорога. По ней параллельным ходом ползли наши полковые обозы и артиллерийские упряжки. Там же шла полковая братия разных мастей. Стрелковые и пулеметные роты шли отдельно от них в стороне.
Опушка леса, по которой мы шли, закончилась, дорога повернула в кусты. Пройдя кусты, мы неожиданно оказались на перекрестке дорог.
На обочине около дороги стоит небольшая группа людей. Поодаль от них, ковровые саночки, а чуть дальше деревенские розвальни. Ковровые – те самые, что промелькнули, обгоняя обозы.

Мы подходим ближе, видим двух начальников в окружении охраны солдат. Они о чем-то говорят, показывая в нашу сторону.
Малечкин, ехал позади нас на лошади верхом, заметив начальство, он сразу встрепенулся и на рысях подался вперед. Майор ловко соскочил на землю, поправил поясной ремень, привстал на носки, козырнул и шаркнул звонко шпорами. Он успел скинуть варежку на ходу, коснулся пальцами виска и сделал шаг в сторону. А я, как шел, так и шел. Я подумал, может это его знакомый. Мы подошли вплотную и остановились. Только теперь я понял, что перед нами высокое начальство. Я первый раз видел нашего нового командира дивизии полковника Квашнина. Смена командиров дивизии произошла в декабре сорок второго. И вот спустя два месяца мы увидели его своими глазами. Он стоял в окружении своей личной охраны. Я расслышал его глухой голос.
– Ты опять куришь? – сказал он, повернувшись к солдату охраны.
– Только что бросил и в снова дымишь!
– Посмотреть на него весь зеленый и опять во рту папироска!
Я взглянул на солдата в новом полушубке, он стоял, курил и чему-то улыбался. Нам офицерам батальона выдавали для курева махорку. А этот стоял и пыхтел папироской.
Я взглянул на майора Малечкина, он стоял и не шевелился. Он ждал, что скажет ему полковник. Рядом с Квашниным стоял молодой капитан. Как в полку говорили, это был Каверин, любимчик, которого в дивизию привез с собой Квашнин. Прошел даже слух, что это был его внебрачный сын.
Капитан вскинул бровью и посмотрел на солдат пулеметной роты. Ему что-то не понравилось во внешнем виде наших солдат. Капитан повернулся в сторону Малечкина, оттопырил нижнюю губу и пренебрежительно и даже с презрением, что свойственно молодым, выразился:
– Что это за гвардейцы? Ни одной, сколько ни будь достойной личности! Ни выправки, ни воинского вида. Разболтанное войско у тебя майор!
Я стоял рядом, невольно разогнул спину и расправил плечи и подал нашим солдатам команду смирно. Сработала моя строевая выправка, которую мне привили муштрой в военном училище. Солдаты пулеметной роты тяжело качнулись и замерли на месте.
Я хотел помочь майору выйти из ложного положения. Мне было ясно одно. Что внешний вид наших солдат, ни о чем не говорит и не имеет ни какого значения. Это боевые солдаты, проверенные временем и огнем. На них держался фронт, если хотите. Но неудовольствие капитана могло сказаться на служебном положении нашего майора.

Что я? Старший лейтенант! В дивизии меня в лицо мало кто знает. Другое дело майор Малечкин! Мое дело пахать на передовой. Сидеть с солдатами в окопах. На мое место любителя не найдешь. Мою карьеру капитан не может подпортить. А вот, комбату Малечкину он может сильно навредить.
Выйди из строя сейчас один из командиров полков, Малечкин первая фигура принять полк вместо убывшего. Капитан Каверин числился при штабе дивизии, но был все время при Квашнине и скрывал, что сам метит на полк. Молодой, но из ранних! Квашнин и он сам при этом считали, что он исключительно одарен и способен. Вот почему он решил с первой встречи осадить нашего майора и поставить на место. Споткнись сейчас Малечкин на пустяковом деле и никакой правдой не докажешь что ты не верблюд. Стоит одному, другому шепнуть на счет майора и считай у нашего Малечкина пути и дороги на полк отрезаны.
Если от него отвернется штабная братия, если он потеряет друзей и благожелателей, считай, что его песенка в этой дивизии спета. Шепнут кому нужно, что он не благонадежен и морально неустойчив и останется с клеймом неудачника.
Квашнин, вероятно, заметил, что капитан говорит не дело. Он видел, что Каверин пытается поддеть майора. Квашнин метнул на него быстрый взгляд и Каверин недовольный этим взглядом сделал дурацкую физиономию и надул вытянутые губы.
Пулеметчики всегда от стрелков отличались внешне. Это были рослые, крепкие и выносливые солдаты. Среди них были и отощавшие, но в основном это были сильные мужики. Так что зря капитан навалился на Малечкина. Всё это было напускное. Он наверно никогда раньше не видел настоящих солдат с передка.
Квашнин окинул взглядом стоящих на дороге солдат, в потертых шинелях, грязных, небритых и угрюмых. Он покашлял, давая понять капитану, чтобы тот со своими замечаниями не лез где не надо. Так думал я. Мне почему-то так показалось. Не внешний вид в данном случае интересовал командира дивизии. Не на парад в ногу шли наши солдаты. Впереди их ждала смерть и война. Дух солдата хотел уловить командир дивизии.
Я стоял и видел перед собой на фоне белых кустов и серого мерцающего неба полковника, капитана, охранников в новых полушубках, ковровые саночки и жеребца в яблоках. Я смотрел на них и думал, что они знают, о солдатах, о нас, о войне.
Перед ними на ветру колебались серые потертые шинели, у которых нет того ухоженного вида, как у солдат охраны, стоящих за спиной у полковника Квашнина. Они не сразу поняли, что перед ними стоят боевые настоящие солдаты, которые держат фронт своими хребтами, которые ведут войну.

В их представлении пулеметчик солдат, это один из мордастых охранников в новом полушубке. Они рассматривали нас. А мы, упрямо из-под бровей смотрели на них. И ждали команды, поскорей уйти отсюда.
Квашнин хотел взглянуть на тех, кто пропитан гарью взрывчатки, на тех, кто получал увечья и умирал на передовой. Кто кровью своей добывал славу ему и всей его штабной и тыловой братии. Тыловые и повозочные тоже были гвардейцами. И главное было еще в том, что люди эти никогда и ничего не просили. Они не имели наград и на судьбу свою не роптали. Вот и сейчас тронуться они молча, качнуться вперед, уйдут в серую ночную мглу, и он Квашнин их больше никогда не увидит. Он смотрел на них, на живых, а мысленно видел их в братской могиле. Он даже и в этом ошибался. Убитые солдаты обычно валяются на снегу. Дивизия уйдет, а трупы убитых солдат поверх земли останутся лежать. Чем больше их убьет, тем значительнее будут его заслуги. Сумел же он и заставил их без страха пойти на смерть. Наверное, думал он и о том, почему они безропотно и добровольно идут умирать за общее дело. А если подумать глубоко, солдаты воевали за народ. В живых останутся они – тыловики. *(прифронтовые “фронтовики” и “окопники”) И славу общего дела они охотно возьмут потом на себя.
Не часто приходиться видеть ему боевых солдат гвардейцев. Такие встречи бывают редко. Каждый день перед его глазами мелькают штабные, тыловые и угодливые денщики. Увидеть боевую роту, это исключительное дело. Жди, когда тебе повезет. Вот так вдруг на дороге в тылу повстречать и посмотреть на солдат с передовой. Вот он русский солдат стоит перед тобой усталый, голодный и молчаливо угрюмый. Стоит, молчит и ждет, пока его обложат матом. Теперь полковник увидел, какой он из себя этот русский солдат, пропахший немецкой взрывчаткой, порезанный горячими осколками, прошитый свинцовыми пулями. Чем он живет? Что у него на уме? За что он воюет?
На войне все просто. Получил полковник сверху приказ, передал его в полк, а там его разослали через батальоны по ротам. Крикнет ротный своим солдатикам:
– Мать вашу так! Давай славяне вперед! Родина вас не забудет!
И пойдут они, сгорбившись и согнувшись под пулями и под разрывами снарядов немца выбивать. Посмотришь на них, неказистые, зашарканные в серых шинелях, а идут и смерти не бояться. По глазам видно, что жрать мерзавцы хотят, вот и прут вперед, может трофеи достанут.
Вон рядом растопырив вширь ноги, стоят за спиной полковника сытые халдеи. У них не только круглая рожа, у них и наглый самоуверенный вид. Пряжки на ремнях начищены, блестят как у кота…, в зубах папироски, вид гвардейский, что надо, медали на грудях, через контрразведку все проверены на вшивость.

А сунь его сейчас на передовую в окопы, посади на солдатский паек, заставь пойти под пули и под снаряды и покажет он себя первым трусом. Не секрет, что они храбры, пока пасутся в тылу за спиной у начальства.
Да! Под Белым многие из таких показали себя, побросав оружие и документы. А ведь были проверены по мандатно, отобраны, так сказать, на надёжность. Бывали такие случаи, когда вот таких халдеев из охранников, отправляли солдатом на передовую. Если проштрафился, не угодил или проворовался где в тылу. Снимали, с него милого, новенький полушубок, меховую шапку и цигейковые варежки. “Герою” выдавали потертую шинелишку б/у, с убитого, выдавали винтовочку и две обоймы патрон. И топай братец к стрелкам на передовую, иди к солдатикам в траншею, хлебать прозрачную баланду и вшей кормить. Ступай! Ступай милый. Привет всем от нас передай! А ему в стрелковую роту идти, что живому голову в петлю сунуть. Дошел до траншеи, а к ночи ищи-свищи, исчез. Толи убило, то ли следы в сторону немца пошли. Вот вам и проверенный, и преданный общему делу.
Стоят на ветру две пулеметные роты. Подай им сейчас команду, и шагнут они, качнувшись вперед.
Мы не знаем точно, куда идем. Каждый раз нам указывают путь на один ночной переход. Бояться, что тайна района сосредоточения может быть раскрыта. К рассвету мы подходим к привалу, располагаемся в лесу, получаем кормежку, и как выражался наш фельдшер:
– Промыли кишки?
– Опять около кухни очередь на клизмирование! – шутит он, проходя мимо солдат.
Так шли мы несколько дней, но далеко от линии фронта не отрывались. В конце нам стало ясно, что мы стороной обходим город Белый.
Вскоре поодаль дороги мы увидели окопы, насыпи и бугры землянок. Подойдя к лесу, мы почувствовали запах солдатского жилья, гари и конского навоза. Ветер из ночи донес до нас стоянку людей и близость фронта. Под низкими разлапистыми соснами были видны землянки, окопы и какие-то, странные на первый взгляд навесы. На столбах, врытых в землю в два, три наката толстых бревен выше насыпей блиндажей были сооружены противоснарядные навесы. Для нас это было ново. Раньше мы таких сооружений прежде никогда не видели. Даже у немцев ничего подобного не встречали. Здесь стояли неизвестные нам мастера. Потом позже мы во всем разобрались. Если в такой навес ударял тяжелый снаряд с дистанционным взрывателем, то он разрывался в защитном накате. А покрытие блиндажа, располагавшееся ниже, от взрыва не страдало. Видно немцы сюда часто пускали тяжелые снаряды. Но не все блиндажи и землянки были оборудованы этими защитными козырьками. Здесь, как нам объявили, впереди на высотах оборонялась Алтайская бригада.

Солдаты разных частей строили блиндажи и землянки по-своему. Алтайцы рыли глубокие котлованы, опускали в землю сырые срубы и сверху возводили накаты. Солдаты нашей дивизии над земляной ямой возводили накаты, пересыпая их слоями земли. Исключением было наше начальство. Для них саперы строили исключительно надежные блиндажи. А простые солдаты и прочие офицеры жили кто как в земляных укрытиях с перекрытием в два, три наката. Нам в дивизию присылали на пополнение в роты солдат узбеков, таджиков и других национальностей южно-азиатских республик. Они, как сурки в оврагах рыли себе норы. А наши славяне из средней полосы жили в шалашах и окопах, которые накрывали сверху лапником и жердями. Все строили укрытия на свой манер. У алтайцев землянки были вместительные, расположены они были плотно друг к другу. Сибиряки строили их разбросано. Узбеки и таджики рыли свои норы в земле кучно. Славяне селились тоже вразброс.
Мы вошли в лес, где под небольшими соснами нам отвели пустые землянки алтайцев, расположенные от них в стороне. Срубы землянок в земле почти касались друг друга. Когда-то здесь стоял второй эшелон Алтайской бригады. Но бригада понесла большие потери, тыловых солдатиков значительно почистили и отправили на передовую. Считай половина блиндажей теперь пустовала.
Мы издали видели их солдат, которые стояли на постах. Мы были, так сказать теперь их соседями. Солдаты невысокого роста, какие-то приземистые и широкие в бедрах. Не то что наши длинные и тощие.
Солдаты их топтались в полутьме, иные перебегали, передвигая ноги мелкими шажками. Они перекатывались по тропинкам как шарики.
Да и лошади их, стоящие в коновязях, под невысокими навесами, подстать солдатам были низкорослые, коротконогие и лохматые. Вобщем ночью нам алтайские солдатики показались маленькими и почти игрушечными.
То ли измотались мы на переходах, то ли невысокие сосны придавили людей к земле. Но ведь наши не пригнулись, ни сгорбились!
Видно характера алтайцы были угрюмого, потому что держались они от нас в стороне. И когда наши солдаты их окликали, то они тут же поворачивались к ним спиной.
– Как у вас братцы здесь дяла?
– Немец-стерва видно сильно бьет? – кричали в их сторону наши стрелки.
Но вместо ответа мы видели только их спины.
– Видать серьезный народ!

Подниматься с земли и идти к ним туда для того, чтобы что-то выяснить у наших стрелков после марша не было сил. Какой там идти! Ноги давило! Коленки не гнулись! Язык заплетался! А это завсегда, когда с марша до места дошел. Ногу не поднимешь, тяжелые они по пуду. А скажи, что не дошли до места, что еще два, три перехода – откуда только силы берутся, небось, они в загривке у солдата еще есть. Тут, когда солдат пришедши, на бок лег, лежит на снегу и ждет, как бы до нар только добраться, его с земли не своротить. Поговорим, авось потом! Завтра сами посмотрим!
Посмотришь издали на часового. Вон наши верзилы лежат развалясь.
Мужики, как мужики! Поставят его сейчас на пост, разве он будет топтаться на месте. Присел у землянки, опустил вниз загривок и сидит, вроде спит, вроде бдит на посту. На него хоть кричи, ни кричи, он свое дело знает. А эти алтайские на посту минуты спокойно не простоят все вертятся, суетятся, куда-то все смотрят. Увидев, что наши солдаты разбрелись по землянкам, алтайцы стали подходить ближе. Но ночью, с дороги кому охота смотреть на них. Солдаты как солдаты, только винтовка у них торчит за спиною слишком высоко.
И только когда все выспались, когда рассвело, когда все вылезли из землянок наружу, при свете зимнего дня мы увидели все и сразу прозрели. Перед нами на постах маячили не солдаты, а алтайские женщины. Одеты они были, как и мы, в солдатскую форму.
– Ну, брат и дяла! Бабы нас здеся охраняли! А мы как дрова, как еловые поленья, такую ночь проспали!
Алтайская бригада, состояла из добровольцев, и в своем составе имели большое количество женщин. Второй эшелон бригады состоял полностью из них. В бригаде были женщины снайперы, пулеметчицы, минеры, телефонисты, подносчики снарядов и санитары. Многие из них воевали на передке.
– Ну и дяла! Мать часная! Вот где для нашего брата малина!
Поди, сунься! Она с винторезом стоит! Ну, чаго ты? Разве я сам не вижу.
Майор Малечкин качал головой и потирал руки.
– Слышь, начальник штаба? Мне отведи землянку на одного. Телефон к себе поставишь. Телефонистов тоже к себе посадишь. Они мне не нужны.
– Я поеду в дивизию. К вечеру вернусь. Скажи, чтоб все было готово!
Вернувшись, из дивизии он объявил:
– Пулеметный батальон пока остается в резерве. Из дивизии дали строгий приказ. Распорядись, чтобы наши здесь зря не болтались! Кругом бабы! Солдаты разом здесь шашни заведут. Мы натянули веревку вокруг занятых нами землянок и объявили поротно, что выход за веревку строго запрещен. Один Малечкин имел право перешагивать через нее.
На второй день нашей стоянки в штабную землянку, где я жил явился Малечкин и прямо с порога заявил:
– Ты начальник штаба остаешься за меня!

– Считай, что я заболел! В дивизии об этом знают.
– Ты сиди на телефонах, могут позвонить.
– Комиссар уехал в политотдел, пробудет там неопределенное время.
– Ты остаешься здесь главным.
– Егор заедет за продуктами, зайдет к тебе. Если что, передашь с ним записку.
– Прощай, покедыва! Желаю успеха!
Майор повернулся и исчез на несколько дней. Мы стояли на прежнем месте. Звонков из дивизии не было.
Через два дня майор вернулся. Я увидел его мельком. Он был довольный, усталый и осунулся. Не заходя ко мне, он ушел к себе и завалился спать. На следующий день он зашел ко мне в землянку.
– Ну, как дела, начальник штаба?
– Как вы тут без меня? Из дивизии кто звонил?
– Пройди по ротам! Готовь солдат. Проверь оружие!
На днях выступаем. Переходим в наступление. Но пока об этом никому ни гу-гу! Вечером я зайду к тебе, поиграем в картишки: – это значило, что обо всем поговорим. Я хотел ему доложить как готовы роты.
– Вот вечером обо всем и расскажешь мне! – добавил он. Телефонистов и писарей я отправил из блиндажа в землянку к солдатам, им наши разговоры слушать не к чему.
Вечером майор явился ко мне, присел к столу, глубоко вздохнул и улыбнулся.
– Ну и бабы здесь! – сказал он неопределенно.
– В батальоне у нас осталось мало людей. Пополнения не жди. Его не будет. В наступление пойдем в этом составе. Двигаться будем в полосе 48 полка.
Я доложил ему о готовности рот и просил каждую роту обеспечить повозкой.
– Нам на марше нужно иметь полный боекомплект. Тащить пулеметы и боеприпасы на себе солдаты не смогут.
– Ладно! Отберем подводы у наших снабженцев.
– Что, правда, то, правда. Славяне наши действительно отощали.
Майор вынул атласные карты. Деловой разговор продолжался. Мы играли, майор спрашивал и рассказывал. Я слушал его, отвечал на вопросы, а сам думал о другом.
У меня в полках и в дивизии близких друзей и приятелей не было. Я был одинок – как перст, один. Меня вызволили с передовой, но в штабную компанию не приняли. Для них, я по-прежнему был Ванька ротный.

Штабные с окопниками знакомства не заводили. Да и кто я был? Старший лейтенант, командир пулеметной роты, за неимением грамотных в дивизии по пулемётному делу, назначенный начальником штаба батальона. Другое дело майор Малечкин. Он был хозяин. У него было много друзей. В руках его было имущество и продовольственное снабжение. Дружбу нужно поддерживать, подкармливать как очаг, горящий в семье. От него им часто перепадало кое-что.
Майор знал, что в дивизии у меня нет близких друзей, и поэтому доверял мне свои сокровенные тайны. Он рассказывал мне о своих похождениях. Ему нужно было с кем-то поделиться, поговорить о том, о сем. С комиссаром батальона он старался не откровенничать. Жили они дружно, но о личных делах между собой не говорили. Комиссар часто уезжал в политотдел дивизии. Малечкин не противился этому. Вот и сейчас комиссар находился где-то там.
– Ты еще молод по бабам шляться! Ты в бабах по настоящему ничего не понимаешь. Тебе и по должности и по годам это дело рано. Ты лучше слушай, наматывай и запоминай. Тебе девицы нужны. А бабы для тебя не подходящий материал. Стары больно. Ты по своей не испорченности только конфузиться будешь. А бабы не любят этого. Им подавай настоящего мужика. У баб я был. Разгонял грусть и тоску. Я старший лейтенант в таком возрасте и чине, что баб стороной обходить не могу.
– Чего сидишь? Твой ход! Развесил уши!
Мы играли некоторое время молча. Но вот майор встал, прошел к выходу, свистнул как голубятник, засунув в рот два пальца. Это он так своего денщика Егорку вызывал. Майор вернулся к столу, прищурил лукаво один глаз, сплюнул сквозь зубы, потер руки и сказал:
– Сегодня я выспавшись. Можно ехать шпоры точить.
Услышав шаги Егорки, майор напустил на себя серьезный и строгий вид. Егорка ввалился в землянку, майор вскинул на него внимательный взгляд, крякнул для порядка и сказал, как бы задумавшись:
– Получи у нашего интенданта-жулика продукты и водку сухим пайком! Пусть выдаст сразу за неделю!
– Он говорит, что мы прошлый раз получили на неделю, а вернулись обратно через три дня.
– Передай ему, пусть тыловая крыса не жмется! И поменьше языком трепет.
– Я сегодня солдатской баландой питался. Вот у начальника штаба из котелка хлебал. Начальник штаба может подтвердить.
– Скажи, майор приказал крупу там всякую перевести по калориям на спирт и консерву. Сахар и подливку пусть оставит себе. Он любит сладкое. Язык у него не лопата.
– Получишь продукты. Седлай лошадей. В дивизию поедем.

Егорка шагнул в проход и исчез за тряпкой, висевшей над дверью. Мы некоторое время сидели молча.
Когда снаружи по мерзлой земле донесся цокот лошадиных копыт, майор встрепенулся, сгреб со стола разбросанные карты, надел полушубок, затянулся ремнями, приладил на голову шапку и надел рукавицы. Похлопав громко матерчатыми ладошками рукавиц, он наклонился над притолокой, резким движением отдернул тряпицу и, обернувшись, сказал:
– Смотри за порядком! Остаешься здесь за меня!
Подморгнув мне как бы на прощание, он повернулся к выходу и скрылся из вида. Он ушел, а я сидел, продолжая думать.
Я удивлялся его легкости. Умению не думая решать всякие дела. Вероятно, и в бабском вопросе он был скоротечен, напорист и быстр. Я действительно был застенчив и имел замкнутый характер. У меня не хватало духу вот так на ходу решать дела. Я думал, что потом придет все само собой. Нужно в жизни только набраться опыта. Я думал о жизни, а майор мне толковал о бабах. "Черт с ним!" – говорил он, – ''Один день да мой!"
"О чем говорить! – улыбался он. "Посмотри на алтаек!" "Они как стриженые овцы маются на ветру. Не бабское это дело торчать с винтовкой. У мужиков коленки не гнуться. А у баб может душа на холоде застыть. Чем ее после войны отогревать будешь?"
Хотя мы стояли во втором эшелоне, но нас постоянно обстреливали немцы. Прилетит немецкая фугасная штучка, накроет блиндаж и всем разговорам конец. Все четыре наката вместе с землей наружу вывернет, выворотит яму – требуху не найдешь.
Была одна странная особенность в быстротечной жизни майора. Его подгонял не только неукротимый и решительный характер, его повсюду преследовала мысль о неизбежной скорой смерти. Человек чувствует, когда у него из-под ног уходит земля. Смутный страх заставлял его торопиться. Он не мог ни минуты посидеть спокойно на месте. Он куда-то все время спешил. Многие штабные, находясь во втором эшелоне, тряслись и бледнели, прощались с жизнью во время обстрелов. Это нам с передка привыкшим под рев снарядов качаться в земле, было как-то ни к чему особо бояться. Ведь немец бил не залпами батарей, а всего двумя, тремя орудиями периодически пуская снаряды. Из полсотни снарядов брошенных в лес один вполне мог угодить в любой блиндаж. Снаряды были тяжелые, фугасные, с замедленным взрывателем. Они все выворачивали под собой. Но попасть в блиндаж, когда снаряды рвутся на площади в сотню метров, дело сложное и практически почти невозможное. Но бывают, конечно, случаи!

С каких-то пор я стал замечать смертельный страх и тоску в глазах нашего майора. Ему как будто шепнули ангелы, что надо готовиться, что дело идет к концу. Когда на подлете начинали гудеть немецкие снаряды и выворачивать огромные воронки в стороне, в лесу все вздрагивали, сжимались в пружину, бросались на землю и ладонями прикрывали голову, если на ней в этот момент не было каски. У майора, как я замечал, во взгляде появлялось тупое безумие. Зрачки расширялись, взгляд останавливался, лицо становилось землистого цвета.
Кончался обстрел – мы чертыхались, стряхивали с себя землю и сидя тут же на полу землянки закуривали. А майор столбенел и как истукан смотрел перед собой, ничего не видя. Что-то сломалось и лопнуло у него внутри.
Над головой у нас ходили и прыгали бревна наката, летела земля, трещали потолочные поперечины, ломались опорные стойки. Мы лежали плашмя на полу, прижав животы. По полу катались банки, дребезжали пустые котелки, падали прислоненные к стене винтовки. Кусок палаточной ткани, висевший над дверью, хлестал и метался, из печки сыпались угли и летели искры, латунная гильза светильника звенела как электрический звонок. Все мы качались вместе с землей и бревенчатым срубом. Телефонные коробки летели на пол – обрывалась связь. Поднимешь голову на миг, на долю секунды, глянешь вокруг, в блиндаже клубы дыма, пыли, ничего не видно. Ты даже не знаешь где ты, на полу или в воздухе наверху. Может, летишь уже вместе с бревнами? А что ты жив, тебе только кажется. Дернешься, дрыгаешься под всплески ударов ударной волны. Очухаешься, поднимешь голову, сядешь на полу, а во рту как кошки нагадили.
Обстрел утихал, пропадал гул снарядов. На вбитом в стенку крюке болтался противогаз. По его качкам можно было определить, как бросало блиндаж во время обстрела.
Выйдешь после обстрела наружу, дыхнешь свежего воздуха, потрясешься как шелудивая собака, стряхнешь пыль с головы и плеч, протрешь глаза кулаком, глянешь на божий свет, вроде ты жив остался.
Где-то, совсем рядом ударила тяжелая дура. Ударила так, что наш блиндаж на полметра подпрыгнул. Рядом слышны крики солдат. С той стороны подуло запахом немецкой взрывчатки.
В это время из дивизии вернулся майор Малечкин. Подъезжая, он по дороге слышал удары тяжелых снарядов. Он решил отдохнуть, но перед этим зашел ко мне узнать, нет ли в ротах потерь. Только он спрыгнул в проход моей землянки, как в воздухе опять зашуршали немецкие снаряды. Удар за ударом последовали вблизи. Кругом все заволокло и окуталось дымом. Мы пригнулись в проходе, пока рвались снаряды. Но вот все стихло. Мы подняли головы.

Вот тебе и майоров блиндаж! Бревна и накаты встали на дыбы. Сруб, опущенный в землю, разворочало начисто. На месте комбатовской лежанки образовалась огромная яма. Убило двух лошадей. Погиб солдат сто явший на посту у входа. Взлетел в воздух майоров чемодан, где он хранил галифе и хромовые сапоги со шпорами. Не обращаясь конкретно ни к кому, он почесал в затылке и как бы сам себе, говоря, произнес загадочно:
– Немец каналья давно метит в меня! Третий раз ухожу из-под самого взрыва. Майор повернулся ко мне и добавил:
– Чем это кончиться? Он все время охотиться за мной! Взгляд у него был рассеянный, какой-то тревожный, полный тоски и печали.
– Ты вот каждый день шлялся по передовой. Под пулями и снарядами сидел. Сколько на Бельском большаке людей погибло? А ты жив и невредим. Я нахожусь во втором эшелоне. Отсюда ни шагу вперед. А он меня чуть ни каждый день ловит. Нет, чтобы нашему интенданту в блиндаж угодить! Одним жуликом и мазуриком было бы меньше. А он стерва ловит меня, за боевым офицером охотиться.
Майор Малечкин вообще-то не был трусом. В начале войны он воевал на передовой, ходил в атаки, был два раза ранен. Но потом, осев в полковых тылах, он стал избегать передовой, война стала действовать ему на нервы. Страх вселился в его душу. А раз он ухватил тебя, от него никуда не денешься.
Мы потоптались около его разбитого блиндажа. Майор крикнул своего, теперь безлошадного стременного Егорку и велел ему идти к Потапенко.
– Передай, чтоб фляжку нацедил!
Мы спустились ко мне в штабную землянку, сели на нары, сидели молча, разговор не клеился. Через некоторое время появился Егорка с фляжкой в руке. Он подошел к майору и стал шептать ему на ухо:
– Потапенко про фляжку не велел никому говорить!
– Хрен с ним, с твоим Потапенко! И с его конспирацией! Давай налевай! Отметим случай такой! Нужно отметить мое воскрешение! Ты усек Егор? Майор твой воскрес!
Егор подобрал валявшиеся на полу железные кружки. Постучал их донышками и краюшками об стол и приготовился наливать.
– Ты бы их хоть сполоснул дубина! Нальешь нам вместе с землей.
– Потом отплевывай, отхаркивай! На зубах земля хрустеть будет!
– Никак не можешь сообразить?
Егорка сбегал за водой, обмыл кружки и вытер их тряпицей. Когда кружки были наполнены, майор приложил к кружке ладонь, помотал головой, сделал вздох и поморщился. Глаза у него были довольные.

Он знал, что спиртное в душу легко пойдет. Выдохнув для пущей видимости, он опрокинул кружку в широко раскрытый рот.
– Вот это дело!
– Душа в рай устремилась! – сказал он, переведя дух, и запел.
– Дай бог братцы не забыться, перед смертью похмелиться, а потом как мумия засохнуть!
– Егор налей нам еще! Налей по капельки, да смотри, чтоб до краев было! Я тебя жулика насквозь вижу! Ты и на мне, на своем майоре сэкономить хочешь!
– Не везучий я, старший лейтенант! Прилетит ко мне одна такая хреновина и всё.
– Тебя вон ни пули, ни снаряды не берут. А мне до конца войны не дожить. Вещий сон я видел. В твой блиндаж она никогда не угодит. Буду жить с тобой под одной крышей. И майор полез на нары, устроился поудобней и вскоре заснул.
Утро пришло солнечное и светлое. Застучала капель, появились лужи. Оттепель навалились и на немцев. Дороги развезло. Подвоз боеприпасов прекратился. Немцы перестали стрелять. Им было не под силу таскаться по размокшим дорогам.
Майор слегка похрапывал, но вскоре пробудился. Он не любил, проснувшись лежать и потягиваться на нарах лежа. Проснувшись, он вскакивал на ноги и тут же принимался за разные дела.
– Товарищ майор! Может умыться водицы подать? – спрашивал Егорка.
– Горячей воды приготовь. Бриться буду.
Малечкин брился каждый день. После бритья брызгался одеколоном.
– Чтобы милашки приятный дух нюхали! – пояснял он.
Теперь одеколону не было. Он разлетелся вместе со шпорами и чемоданом.
У нас, у молодых еще не росла борода. Некоторые из ребят для солидности отпускали усы. Малечкин недовольно смотрел на них.
– Что-то у тебя там какой-то пушек на губах? Как у недоношенного цыпленка! У тебя наверно бритвы нет? Сходи к старшине, пусть тебя побреет. Опосля, мне лично доложишь!
Майор был аккуратным и всегда поддерживал свой внешний вид. Уж очень он сокрушался по одеколону и о сапогах со шпорами. Где он теперь шпоры возьмет?
– Ты начальник штаба, сходи к пулеметчикам, а то они наверно совсем обоспались! – поглядывая на себя в зеркало, сказал майор.
– Проверь еще раз пулеметы и личное оружие!
– Вечером я еду в дивизии за получением боевого приказа.
– Не велено говорить! На днях переходим в наступление.
Я оделся, затянул ремни и пошел к солдатам. Майор уехал в дивизию, и встретились мы с ним только вечером.

Когда я вернулся из рот, майор сидел на ящике у входа в блиндаж. Перед ним стояли ротные старшины и наши интенданты снабженцы.
– Хозяйство свернуть до ночи! – услышал я его голос.
– Собираться спокойно без горячки! В лесу не болтаться! Обозы подготовить к переходу и ждать моей команды. Маршрут укажу перед самым выходом. Сейчас всем по своим местам!
Я доложил майору о состоянии рот. Майор приказал снимать телефонную связь. На рассвете мы тронулись в путь.
* * *
22.09.1983 (правка)
Март 1943

Когда войска срываются с места и пускаются преследовать отступающих немцев, леса, поля, дома и деревни, лежащие по пути и в стороне от дороги сливаются в памяти в одну серую ленту. Мелькнут в памяти отдельные остановки, кровавые встречи и останутся позади.
Приходит новый день, кончаются сутки, а мы все идем и идем, конца дороги не видно. Люди и лошади выдохлись и устали, еле ползут. На дороге непролазная грязь.
В начале пути, мы следили за дорогой, обходили неровности и подозрительные места. Немцы, отступая, могли поставить мины, чтобы оторваться от нас. Но потом, постепенно, появилась усталость, на глаза навалилась тяжесть бессонницы, появилось безразличие к минам и сюрпризам.
С усилием воли мы таращили глаза. Взглянешь перед собой, перед глазами солдатские спины, сапоги, ползущие по грязи и уходящая назад дорога. Солдат готов свернуть на обочину, отдышаться, присесть и привалиться к земле. Объяви сейчас привал, они все поваляться, не разбирая где сухо, а где сыро по самое брюхо. Потом дави их лошадьми, стреляй из орудий, строчи над самым ухом из пулемета, они не шевельнуться, ни поднимут головы, ни откроют глаза, чтобы взглянуть, что там.
Нам вдогонку шлют верховых, нас торопят. О привале разговора нет. Командование знает, что лошади выдохлись, что могут пасть на дороге, но их тоже торопят сверху.
Вот один из солдат, причитая, подгибает ноги, взмахивает руками, как цапля крыльями, хватает ртом воздух и со слезами медленно опускается на дорогу. Его подхватывают. Самому подняться, у него уже нет сил. Дружки волокут его назад к ротной повозке. Двое солдат в пути упали замертво. Их оттащили на обочину дороги.
В пулеметных ротах народ покрепче. Но и они идут, пошатываясь, порядком устали. Идут как пьяные, цепляя ногу за ногу.
Откуда у солдат только силы берутся? Идти день и ночь голодными по снежной хляби в полной выкладке. Офицеры рот держаться на ногах. Они помоложе и идут налегке.

Два взвода стрелков идут впереди. Пулеметчики с двумя повозками следуют за ними. Пулеметы на возках стоят в собранном виде. Сзади нас тащиться повозка стрелковой роты. Она то чуть отстает, то догоняет нас. На нее подбирают обессиленных солдат. Я иду сзади, за второй повозкой рядом с командиром пулеметной роты. Мы идем, разговариваем и медленно поднимаемся в гору по песчаному участку дороги. Здесь воды и снежной хляби нет. Под ногами сухой песок. По вязкому песку тоже идти тяжело. Ноги вязнут, каждый шаг приходиться делать с большим усилием. Но вот мы перевалили небольшую высотку, поросшую с двух сторон молодым ельником, спустились легко под откос и в этот момент, неожиданно под задней повозкой рванула мина.
Жёсткий, хлёсткий удар прокатился вдоль дороги. Люди и лошади вздрогнули, метнулись в сторону, на елях колыхнулись ветви, взрывной волной резануло по лицу. Всех кто шел рядом со мной, за повозкой, обдало тучей песка и грязи. На дороге, в том месте, где рванула мина, дымятся разбросанные по земле тела солдат. Тут убитые и раненые. На месте взрыва оголилась земля.
Рядом с воронкой разбитая повозка и круп лошади с оторванными задними ногами. Земля забрызгана кровью. Стоишь, смотришь очумело, вертишь головой и удивляешься. Какая сила заложена в мине? Удар сразу заставил солдат очнуться от полусна.
Удар мины резанул по нервам. Сделай, сейчас, случайный выстрел из винтовки и все кто остался стоять на дороге дернуться, как от повторного взрыва.
– Ну, чего встали? – кричит старшина.
– Давай трогай! Взорвались стрелки, а не наши! Сами разберутся!
Пулеметчики поворачиваются и медленно трогаются с места. Мимо нас назад идут человек пять солдат из стрелковой роты. Им велели стащить с дороги трупы убитых и оказать помощь раненым.
Идем по дороге и снова уставились глазами под ноги. Может, увидим металлический проблеск мины из-под снега или мерзлой земли. Повозочные распустили на всю длину свои вожжи и идут по обочине в стороне от телег. Проходит время, и солдат снова одолевает усталость и сон, внимание притупляется. Бесконечный переход берёт своё. Они не шарят больше глазами по дороге. Под их усталой и тяжелой поступью дорога медленно уплывает назад. Их мысли где-то внутри. Они идут и тяжестью налитых ног отмеряют бесконечные шаги по дороги. О минах забыто.
Нужно сказать, что мина коварное устройство. Люди с передовой привычны к пулям и снарядам. На подлете они шуршат, воют и посвистывают. Услышишь их знакомый голос, вовремя метнешься в сторону, нырнешь в канаву или воронку, ляпнешься в грязь, глядишь, вроде цел.

А мина лежит на дороге, лежит и звука не подает. Лежит она стерва, присыпанная землей и ждет свою жертву. Ударит по ней копытом лошадь, наедет на нее колесо телеги и рванет она метров на двадцать. Ударит так, что брызнут и вылетят мозги. Попадешь под ее удар, не почувствуешь ни боли, ни взрыва. Станет легко. Мелькнет белый свет, и поплывут цветные круги. Погаснут они, и задернет глаза черным бархатом.
Окажешься в шагах двадцати, считай, тебе повезло. Кинет тебя на обочину, ударит оглоблей по голове, сиди и жди, пока очухаешься. Замотаешь головой, сплюнешь сгустком крови, можешь вставать. Тебя только шарахнуло взрывной волной. Взорвался не ты – повозка с людьми. Они метнулись в черное пространство.
Бежать в сторону или падать на землю после взрыва совершенно бесполезно. Стой и смотри. Собирайся с силами.
Убитых стаскивают с дороги, чтобы повозки, которые идут следом не прыгали по трупам. С тылами полка, где-то сзади ползет похоронная команда. Это отборная братия, их с гастритом держат в тылу, они имеют дело только с трупами. Подойдут, посмотрят, стянут с убитых все лишнее: шинель, сапоги, шапку, если ее не разорвало, могут закидать лапником, а могут и так оставить в покое. Эти дела они сами решают. Кому ставить дощечку, а кого оставить без нее в вечном блаженстве. Иногда забросят труп убитого в кусты, а дощечку воткнут у дороги. Тут виднее. Пусть начальство не сомлевается – солдата закопали в земле.
Раненых тоже кладут около дороги, на обочину на видном месте. В куче они видней. А то, полковые пройдут и не увидят.
И снова под крики и ругань обозников лошади выхватывают телеги из канав. И снова серое, землистого цвета войско ползет по дороге, догоняя немцев.
Днем на дороге сырость и хлябь. Ночью дорога твердеет, становиться бугристой. Размоины и следы, борозды от колес покрываются коркой льда. Шагать по такой изрытой дороге одно мучение. Днем, когда греют небеса, идти легче, на душе веселей, дорога мягче. Днем ее месят солдатские сапоги, мнут копыта, давят колеса обозных телег. Снежная жижа и грязь хлюпает под ногами. Прелый весенний воздух щекочет в ноздрях. В низинах собираются разводья воды. Повозочные разгоняют своих лошадей, дергают их вожжами, кричат, матерятся, подталкивают повозки сзади. Лошади из последних сил карабкаться на пригорок. Пешие солдаты нехотя заходят в жижу и двигают вперед ногами.
А может именно в этот самый момент, когда ты карабкаешься на бугорок, тебя поджидает немецкая мина. Пни ногой поваленную жердь, задень слегка за кусок телефонного провода, брошенного поперек дороги, и боковой взрыватель натяжного действия сработает взрывом. Вы думаете, что в воде и слякоти капсюль может отсыреть и взрыва не произойдет? Солдаты так не думают.

Смотрю на идущих рядом солдат и пытаюсь понять, о чем они сейчас думают. Лица усталые, шинели забрызганы грязью, вид утомленный и измученный. Идут пулеметчики. Смотришь на них и не узнаешь, кажутся, почему-то не знакомыми и чужими. Хотя я каждого из них знаю в лицо. Я понимаю. Это от усталости. Мы идем и идем, а конца дороги не видно.
Немцы оторвались от нас и бегут. Мы не можем догнать их, хотя топаем уже целые сутки. Происходит что-то непонятное.
Сверху по всем инстанциям требуют доклада обстановки. А здесь не знают, где собственно находятся немцы. Свежих резервов в дивизии нет. Пулеметчикам приказали идти впереди, заменив стрелковую роту.
Драпать и удирать всегда легче, чем догонять. Немцев подгоняет паника и страх. Сзади на них наседают славяне. А наши не очень торопиться. Славяне идут себе и идут. В пехоте всегда так. Кто-то должен идти впереди. Сколько не иди, а первые немецкие пули где-то тебя обязательно встретят. Потому что мы воевали только солдатами.
Для отчетов и рапортов нужны были километры, пяди земли, освобожденные деревни. Количество раненых и убитых в расчет не принималось.
Когда прорывали оборону, были готовы к большим потерям. Главное, – нужно было прорвать. Считали, что дивизия в прорыве быстро выдохнется, понесёт большие потери. Но к нашему удивлению немцы сразу бросили всё и побежали на новый рубеж. Всё оказалось иначе, не так как рассчитывали. Мы в первый момент даже замешкались.
На большаке Белый-Духовщина в январе сорок третьего года немцев сбить не удалось. Прорыв наметили в обход Белого. Там у немцев оказалось слабое прикрытие. При первом же ударе, боясь попасть в окружение, немцы дрогнули и побежали на новый рубеж.
Прорыв немецкой обороны прошел без особых потерь. Резервов у немцев не было. Артиллерия частично была снята. Подвоз боеприпасов по раскисшим дорогам прекратился. Наступления в такой период они от нас ни как не ожидали.
Мы обошли Белый со стороны Шайтровщины и стали двигаться на Батурино параллельно Бельскому большаку. Мы ушли вперед. Белый был освобожден другими, наступавшими здесь частями.
Небольшой городишко стоил нам многих тысяч жизней солдат и ротных офицеров. Многие из наших солдат легли в эту землю. И еще больше, к нашему стыду попали здесь не по своей вине в плен.
Теперь, в весеннюю распутицу оказалось достаточно одного небольшого удара, и грозная немецкая оборона развалилась и рухнула за один день. Вот почему мы теперь без сна и отдыха шли, поспевая за отступающими немцами.

Начальство поспевало за нами наездами, катили в легких пролетках. Они успевали за ночь выспаться, плотно перекусить и пуститься за нами в путь, дороги для них были очищены солдатскими сапогами, копытами наших лошадей и колесами телег. Они ехали без опаски, подгоняя и торопя нас вперед.
Помню, мы подошли к Шайтровщине. Перед глазами предстала знакомая деревня. Когда-то здесь стоял большой пятистенный дом, в котором проживал сам Березин. В мае сорок второго года он бросил здесь свое гвардейское войско и скрылся, поставив немцам в плен восемь тысяч солдат. Последний раз его видели в компании врача из медсанбата с женой, которые отправились к немцам.
Помню, как на крыльце этого дома стояли солдаты из его личной охраны. Они смотрели уверенно на меня лейтенанта с высоты этого крыльца, держа на животе свои автоматы.
Воспоминания и прошлое теперь в сторону. Нам нужно держать направление на Брулево. От Брулево лесной дорогой мы идем на Коровякино, ночью поворачиваем на север и к утру 12 марта выходим к подножью высоты 236.
Такую высоту мы давно не видели. Мы стояли, задрав голову кверху, и смотрели на ее вершину торчащую где-то в небе. Дорога с опушки леса уходит зигзагами по ее склону в гору. Вывалив на простор и свет из сумрака заболоченного леса, мы вдруг услышали набегающий звук снарядов. И в тот же миг они прошуршали у нас над головой.
– Ну, вот и догнали немца! – облегченно вздохнули солдаты.
Позади на дороге вскинулись дымные снопы. Кудрявые облака взрывов побежали чередой по дороге. Солдаты еще раз подняли головы, взглянули в сторону вершины, откуда, мол, ждать их потом, сошли с дороги и привалились в придорожную канаву.
Переждав минуту, другую и услышав снова урчание снарядов, пулеметчики под окрики командиров разбрелись по полю и залегли.
Солдаты явно были довольны, что добрались до немца, что не нужно больше идти, теперь можно выбрать канавку, низинку, вытянуть ноги и выспаться.
Пока полковые разберутся, где немцы и что к чему, солдатам может бабы, будут сниться, котелки с кашей в ночном призраке будут витать. Они будут спать, пока их ротные на ноги не поднимут. За это время стреляй, не стреляй, ори, не ори, солдаты головы не подымут. Поднять солдата на ноги без крика может только звук пустого котелка, запах хлеба, солдатской баланды, горький вкус дыма махорки. Эти едва уловимые запахи поднимают на ноги больных и здоровых. Только мертвые не чуют их. Мертвого сразу определишь, если не встал на момент раздачи пищи.

Мы спали день и целую ночь. Я просыпался иногда, поднимал голову и оглядывал высоту и темное поднебесье. Немец всю ночь светил ракетами и периодически пускал серии снарядов в сторону леса.
А когда перед рассветом в роту принесли хлеб и похлебку, кода солдаты, как муравьи перед грозой, забегали с котелками, немец совсем прекратил стрельбу.
– Не хотит нам портить апетит!
– Щас торопиться есть не надыть!
– Рано с восходом могем в наступление пойтить!
– Может последний раз хлебово в рот пропускаешь!
– Через край, цедить не моги, ложкой вкус нужно осторожно нести!
– Сегодня варево гуще и сытнее – и солдат полой шинели протирал свою ложку от пыли.
Внезапная тишина, как и хлесткий обстрел, действует на людей. Или сейчас начнется мордоворот, или немец сорвался и побежал с высоты. По всему было видно, что немец собирался нам чем-то нагадить. Пока немец стрелял, у нас на душе было спокойно. Начальство сидело в лесу и нас не трогало.
У немцев, возможно, застряла, где пушка, провалилась на сгнившем мосту. Вот они и прикрылись от нас арт-огнем. У немцев пушки тяжелые. Не то, что наши, при выстрелах как лягушки прыгают. Вот они на сутки и притормозили нас. Это мои предположения. Возможно, тут готовиться что-то другое.
Вскоре за мной прислали связного солдата. Я вместе с ним отправился к Малечкину в лес. Мы отмахали километра три и свернули с дороги.
– Вот что начальник штаба! Командир дивизии требует взять высоту.
Стрелковую роту послали в обход, а на дороге кроме пулеметчиков никого не осталось. Тебе нужно вернуться в роты и организовать наступление. Две пулеметные роты достаточно, чтобы взять высоту. Телефонную связь мы тебе дадим. Штаб дивизии приказал лично тебе возглавить обе роты. Боевой приказ передашь командирам рот. На сборы даю тридцать минут, не больше. Все ясно? Давай топай! Добывай для Родины высоту!
Я вернулся в роты, передал приказ командирам рот, показал на высоту и добавил:
– Давайте гвардейцы топайте, пока немца там нет!
– Откуда вы знаете, что его там нет?
– Если бы он там был, он бы нам не дал хода по дороге. А мы, как вы сами видели, шли в лес и обратно в открытую. Что ж ты думаешь, он бы удержался, чтобы не полоснуть из пулемета по дороге! Немец сейчас не тот, что был в сорок первом. Он сейчас бежит и торопится. Ему рассуждать и думать некогда. Давайте, давайте ребятки! Чем скорей зайдем на вершину, тем для нас же будет лучше. А то он одумается, возьмет и назад повернет!

Мы подняли солдат, вышли на дорогу, где нас дожидались три телефониста с катушками провода. Перед нами лежала совершенно открытая местность. Извилистая дорога уходила куда-то в самое небо. Под ногами была сухая и твердая земля.
Неторопливо и медленно тянется время. У меня в душе конечно сомнения. Может, притаились немцы и ждут, пока мы сунемся к ним поближе. Справа и слева вдоль дороги идут пулеметные расчеты. Я, Самохин и телефонисты поднимаемся на высоту. Смотрим вперед, оглядываемся по сторонам, пока всё спокойно. Но в любую минуту может полоснуть немецкий пулемет или ударить ворох снарядов.
Мы идем вверх, ждем встречных выстрелов, прикидываем, где можно будет залечь. Но вокруг – напряжённая тишина. Кроме собственного дыхания ничего больше не слышно. От неизвестности и сомнений шаг при подъеме в гору начинает замедляться. От необычной тишины в ушах что-то звенит, начинают стрекотать кузнечики. Припадая к земле, солдаты за собой волокут станковые пулеметы.
Мы поднимемся все выше и выше, каждую секунду готовые развернуть пулемёты. Мне кажется, что мы стоим и топчемся на месте. Мы идем по дороге, а ей конца и края не видно. Мы подаемся вверх, а вершина уходит от нас.
Телефонист дергает меня за рукав, говорит, что когда размотаем пару катушек, мы должны остановиться и соединиться с Малечкиным.
Я останавливаюсь и жду. Телефонист доматывает провод, ставит на землю аппарат, подсоединят провод, и подает мне трубку.
Голос Малечкина слышится издалека. Я догадываюсь, что он требует двигаться, возможно, быстрее.
– Подойдете к немцу на сотню метров!
– Поставишь ротам задачу!
– Поднимете в атаку людей!
Я бросаю на руки солдату телефонную трубку и кричу солдатам, чтобы прибавили шагу. Солдаты машут мне рукой, мол поняли, а идут по-прежнему медленно.
А те, что сзади, что сидят в лесу, им естественно все подавай поскорей, у них обыкновенно ко всему нет терпения. Им важно кто первый скажет – "мяу"! Что высота взята! Давай! Давай! – по телефону несется вдогонку.
Еще немного и вот перевал. Один из пулеметных расчетов уже прилег на землю. Лежат как сычи и из-под касок таращат глаза. Уши навострили, к земле припадают.
Я кивком головы подзываю командира роты, и мы выходим на гребень, чтобы взглянуть вперед, с высоты. Телефонисты остались лежать на обратном скате.

Перед нами вокруг бесконечное открытое пространство. Оно простирается до самого горизонта. Видно леса, небольшие прогалины голых полей, белые полосы утреннего тумана, висящего над болотами и лощинами. А там дальше, голубоватые дали, уходящие из под наших ног. Впереди у подножья высоты видны крыши деревенских изб. Несколько жилых домов и два, три сарая. Справа и слева склоны высоты поросли кустарником. Мы стоим на вершине во весь рост, лицо обдувает свежий прохладный ветер. Нас со всех сторон отлично видно. Я схожу с дороги и поднимаюсь на бугор, на самую вершину, вскидываю бинокль и смотрю на впереди лежащую местность.
Телефонисты разматывают провод, опускаются на корточки, вбивают в землю костыль и подключают к проводу аппарат. Связи нет.
– Ну что там у вас? – спрашиваю я.
– Обрыв на линии!
Скользящим взглядом в бинокль я веду по склонам, смотрю на дорогу, уходящую вниз, к подножью высоты, рассматриваю серые, крытые дранкой, маленькие крыши, которые прилепились к опушке леса в самом низу. Отсюда с вершины видно все в непривычном ракурсе и масштабе.
До сих пор мы сидели в низинах и болотах. Смотрели на немцев и на твердую землю снизу вверх. Тогда окружающий мир нам представлялся в какой-то лягушечьей перспективе. Теперь мы были наверху, и бесконечные просторы уходили вдаль у нас из-под ног. Здесь дышится легко, свободно и полной грудью. Считай, над землей мы как птицы парим. Стоим в поднебесье и смотрим вперед на дорогу, по которой нам предстоит снова спуститься вниз.
Пока телефонисты возятся с телефоном, решаю взглянуть назад, туда, где в лесу сидят наши тылы. Уж очень маленькие фигурки солдат копошатся в земле на опушке леса.
Опускаю бинокль и смотрю на связистов. Мне нужно докладывать, Малечкин рапорта ждет. А они виновато поглядывают на меня. На лицах у них растерянность и недоумение.
– Давай быстро на линию! – кричу я им, – Мать вашу так!
– У вас где-то на проводе обрыв! А вы ковыряетесь в аппарате!
– Провод старый! Во многих местах перебитый! Связанный из кусков!
– Обычное дело на войне! Быстро на линию! Чтобы вашего духу здесь не было!
На вершине тихо, никто не стреляет. Можно бы было и не кричать. То же самое сказать спокойно и тихо. Но мы окопники, привыкшие к грохоту. Для нас тишина, это когда ты не с бабой, а лежишь в обнимку со смертью. Когда на душе у тебя приятный миг небесного видения. Когда солдату после этого уже не нужно больше ничего. Поэтому я и кричу.
Один из телефонистов срывается с места, хватает в руку провод и как собака на привязи, по проволоке, пригибаясь, пускается вниз наутек.

Я смотрю туда, вперед, где может быть новая линия обороны немцев. Но высот и гряд, охватывающих весь горизонт, впереди не видать. Впереди нет выгодных рубежей. Если немцы где-то и есть, то они прячутся в низинах.
Мы стоим на фоне плывущих облаков, под самым небом и нам сверху все видно. В низинах и болотах немцы не будут строить новые рубежи, так что нам предстоит идти и идти!
Немцы избегают низин и лесов, они всегда стараются сесть на вершины. Но почему на такой господствующей высоте они не закрепились? Почему сдали ее без боя? Посади здесь полсотни солдат, поставь миномет и пару пулеметов, прикрой высоту батареей пушек, и нам бы пришлось положить здесь не одну сотню солдат. На горбу у солдат война лежала!
Когда мы поднимались на высоту, я думал, что нас немцы встретят плотным огнем. Выходит, напрасно мы в себе подавляли страх и сомнения. Сколько пришлось пережить, делая шаг за шагом, медленно поднимаясь в гору.
Бесконечная лента полей и лесов раскинулась до горизонта. Сколько нужно поставить солдат, пулеметов и орудий, чтобы прикрыть огромную линию фронта?
В августе сорок второго года немцы в Пушкарях имели несколько десятков стволов на километр фронта. Они день и ночь рыли наш передний край. И высота та была пониже этой. Десятки орудий и неограниченное количество боеприпасов!
Немцы были стойки, когда над нами ревела земля. Когда сотнями снарядов они устилали землю. А теперь видно выдохлись солдаты фюрера. Пушек не стало. Запас снарядов иссяк. Вот и бегут они на хаузе. Интересно, как бы они воевали, если бы им, как нашим славянам, оставить винтовки и пушек не дать. Сыпануть на брата по десятку патрон и сказать – Лёс! Лес! Пошли! Форвертс! Нах Москау!
Посмотрели бы мы на них. Вот они и бегут сейчас. Спасайся, кто может! Солдаты фюрера с одними винтовками, без пушек воевать не могут. Ходить в атаку с винтовкой на перевес могут только русские. К этому славяне привычны с сорок первого года. Нашим полководцам, нужны были населенные пункты и километры. И мы мерили эти километры шагами, обозначая немецкие заслоны солдатскими трупами.
Услышав лошадиный топот по земле, я обернулся. Майор Малечкин с Егоркой верхами шли к высоте. Не доскакав до вершины, Малечкин осадил коня, легко спрыгнул на землю. Ординарец Егорка подхватил поводья и развернул лошадей. А Малечкин, придерживая рукой мотавшийся с боку планшет, взбежал на бугор, где мы стояли.
Майор отдышался, обругал телефонистов и с ходу выпалил мне новый приказ:

– Ротам приказано седлать высоту! Занять круговую оборону и ни шагу назад! Лично каждого проследи, чтобы зарылся в землю! Вперед пойдут полковые разведчики! Пулеметные роты останутся здесь! Ваши повозки вон в той лощине на опушке леса! Раненых будете отправлять туда!
Нас пулеметчиков, как я понял, перевели во второй эшелон. Нас оставили здесь, чтобы прикрыть высоту. Немцы могли сбить передовые роты, опрокинуть разведчиков и вернуться сюда. Но вряд ли они соберут свое разбежавшееся войско.
Малечкин был доволен, что мы заняли высоту. Он похлопал по плечу Самохина и направился к лошадям. За взятие высоты, как узнал я потом, майор был представлен к награде.
Пулеметные расчеты заняли оборону и окопались. Свободные от дежурства солдаты завалились спать. Кто знает, сколько времени проторчим мы здесь на высоте. Нас могут в любой момент двинуть вперед на немцев.
Внизу, куда ушли полковые разведчики, где у подножья высоты были видны серые крыши нежилых изб, затрещали выстрелы. Через некоторое время в захлеб ударил немецкий пулемет. Еще через некоторое время все стихло.
Телефонная связь была восстановлена. Я связался с Малечкиным и доложил о стрельбе.
– Твое дело наблюдать и подробно обо всем мне докладывать! – услышал я его голос в трубке.
К вечеру мы получили приказ сняться с высоты и отправиться вниз по дороге. Когда мы подошли к трем избам, где была перестрелка, мы увидели трех убитых разведчиков. Почему они не обошли по кустам эти избы стороной? Почему они пошли на избы по открытому месту? К сожалению, на войне такое часто случается.
Человек идет по дороге и в него никто не стреляет. Кажется, что и осторожничать нечего. Чего зря время тянуть? Солдат забывает об опасности, что он может получить встречный выстрел, а его уже давно взяли на мушку. Он спокойно идет. А немцы только ждут, чтобы он подошел поближе. Не будет же солдат обходить стороной каждый куст, каждый встречный бугор, сарай или избу, стоящие на отшибе. Нет смысла ложиться перед каждым сараем и ползти по грязной канаве на брюхе. Идешь по дороге, и в тебя никто не стреляет. Нет смысла прятаться и озираться по сторонам. Авось и здесь пронесет! – прикидывает каждый.
На войне трудно угадать, в какой момент ты лишишься жизни. Выстрел – одно мгновение! Пуля ударила и жизнь оборвалась!
При преследовании немцев мы не имели возможности прочесывать местность от куста до куста. Мы шли по дороге пока в нас не начинали стрелять.

Не будешь же ты ползти, когда кругом безмолвно и тихо. Мы не экономили патроны, а стрелять по пустым домам и сараям как-то было не к чему. Хотя мы не раз убеждались, что именно там нас каждый раз поджидали немцы.
Вспоминаю сейчас занятия по тактике в военном училище. Мы бежали по полю и кричали ура. Потом при подходе к деревне ложились и ползком подбирались к домам. Ползать солдата на войне одной командой не заставишь. Нужно, чтобы пули визжали у него над головой. А от чего это? От солдатской лени! Ее, эту матушку лень, из солдата дубиной не выбьешь. Теперь на войне все было по-другому и иначе. Теперь сама война учила нас всему. Мы учились не по рассказам на примерах Гражданской войны, когда ползком подбирались и ходили в рукопашную действовать штыками. Мы учились воевать на собственной шкуре. Преподаватели у нас были опытные – прошли всю Европу.
Усвоив, курс наук и приложив к науке русскую сметливость, проницательность и пытливость мысли. Мы потом взялись за ум. А уж чем, чем, а задним умом и русским духом русский солдат крепок. Мы превзошли своих учителей по всем статьям!
Были и еще причины нашей отваги и лени. Мы воевали между двух огней. С одной стороны – немцы. С другой наши доблестные тыловые начальники и командиры. Кто из них на нас надавит сильней?
Во время наступления у нас не хватало ни снарядов, ни пушек. Подвоз хлеба был с перебоями. С одной баланды не побежишь оббегать сараи и кусты. А начальство не давало нам времени спокойно лечь и лёжа умереть. Нас подгоняли, понуждали и торопили. Нам нужны были километры отвоеванной у немца земли. Каждый наш шаг стоил жизни простых солдат и ротных офицеров. Мы по дороге теряли больше людей, чем пустых гильз из-под винтовочных патрон.
Кому, кому, а русскому солдату, который прошёл войну с ротой в пехоте нужно поклониться в ноги. Он оплатил своей кровью и жизнью все нарисованные на военных картах красные стрелы. Но, к сожалению, его славное имя забыли. Победителями стали тыловые работнички от батальона и выше. Теперь они фронтовики и окопники, едрена вошь! Непонятно, кто воевал, а кто открыто прятался в тылах полка и дивизии.
Они, конечно, тоже терпели лишения и невзгоды. Во время наступления им приходилось лезть в седла и отбивать задницу, догоняя пехоту. Им приходилось ложиться спать, укрываясь в телегах. Не было у них привычных тюфяков и подушек.
О войне и о немцах они знали понаслышке. Я задал однажды комбату такой вопрос. Он взглянул на меня пытливо и увел разговор в другую сторону.

Отложим разговор, кто воевал, а кто участвовал сидя в тылу подальше от фронта. Вернемся к дороге, по которой нам предстояло идти. Там впереди нас ожидает много и всякого. Каждый шаг нашего пути нам стоит жизни.
Закончилась еще одна фронтовая ночь. От трех нежилых изб, где погибли разведчики, мы уходим на рассвете.
Ровная, покрытая свежим снегом дорога, повернула в лес. Накануне с вечера небо как-то вдруг потемнело, дунул холодный ветер, с севера налетела белая пороша. Все, что накануне размякло и хлюпало под ногами, сразу окаменело. Пространство исчезло, и перед глазами поплыла белая пелена. Идти по дороге было легко и приятно.
Где-то справа от нас километрах в трех по дороге идет стрелковая рота. Мы соседи, так сказать. Но мы друг друга не видим.
Здесь на дороге свежие следы убежавших немцев. Я смотрю на следы и считаю. Сколько их здесь отпечатано перед нами. Если следы оборвутся или уйдут, куда либо в сторону, нужно быть внимательным, можно ждать засады. Как охота за зайцем по первой пороше.
Тихий, присыпанный снегом лес стоит неподвижно. Рассвет еще не в полную силу. Но вот стали видны макушки деревьев, дорога тоже заметно светлеет.
Впереди широкий прогалок. Дорога круто сворачивает и уходит в сторону. Строений и заборов впереди не видно. Справа и слева ровное поле. На выходе из леса небольшое болото. Дорога по краю обходит болото. Лес то приближается, то отходит в сторону. Впереди пригорок. За ним видны крыши домов. Впереди, вдоль дороги тянется жердевая изгородь, около нее отдельные заснеженные деревья.
Мы подвигаемся еще вперед и поднимаемся в гору. Я внимательно оглядываю, коньки крыш, не покажется ли где над крышей голова или каска немца. Окна и завалинки изб еще не видны.
Я махаю ротному рукой. Он останавливает своих пулеметчиков. Раскрываю планшет, смотрю на карту. Хочу узнать название деревни. В самом конце поля кусты и низина, мост через ручей. Подходы к мосту могут быть заминированы. Идти по дороге или обходить деревню по полю стороной? Может вызвать из тыла саперов? Пока они притопают – время уйдет не мало. Саперы мин не обнаружат – мне за затяжку времени сделают втык.
Теперь нужно решить еще вопрос. Есть немцы в деревне или ушли из нее?

Подзываю и спрашиваю Самохина:
– Как думаешь? Есть в деревне немцы?
Самохин смотрит, качает головой и говорит:
– Не знаю!
– Посмотри на трубы. Видишь, на них сверху белой кромкой лежит свежий снег. Если бы немцы остались в деревне на ночь, они затопили бы печи. В холоде они не привыкли сидеть.
После некоторых раздумий я говорю Самохину:
– Пошли в деревню сержанта, пусть с собой возьмет человек, пять солдат. По дороге не посылай. Пусть идет по кустам огородами.
Сержант с солдатами уходит. Мы остаемся на месте. Деревня пустая. Мирных жителей нет. Доложил солдат, прибежавший из деревни.
Мы идем по дороге. Здесь и там штабеля снарядов и мин. Около крайнего дома немецкое барахло разбросано около входа. Подхожу ближе, вижу на крыльце немецкий ранец с рыжим мехом наружу на крышке. Тут же солдатская каска и несколько круглых банок с противогазами. Брошенных винтовок нигде не видать. Лежат ручные гранаты с длинными деревянными ручками целой кучей у крыльца.
Поднимаюсь по ступенькам. Дверь открыта настежь. Иду по скрипучим половицам, вхожу в избу. По середине избы стоит деревянный стол. Справа у стены двух ярусные нары, засланные соломой. С боку у нар деревянный бортик, оббитый березовой рейкой. Подхожу ближе, смотрю на рейку. Белой ствол березовой жерди распилен вдоль на две половины. Кора с полукруглых половинок не снята. Она на фоне потемневших досок сияет серебристой белизной. Плоской стороной березовые рейки прибиты к дощатому борту лежанок.
Забавно смотреть! Идет война, а они занимаются украшательством. Даже здесь на фронте они играют как маленькие дети.
Подхожу к столу, на столе стоит железная коробка. На крышке замысловатый рисунок. Крышка у коробки чуть приоткрыта. Солдат, один из тех, которых послали с сержантом в деревню, сказал мне, что в доме, возможно, стоят мины. Почему он так решил, думаю я.
Я не тороплюсь. За спиной у меня сопит тот самый солдат, который сказал о минах.
– Откуда ты взял, что дом заминирован?
– А вон за домом их целая куча!
Я стою, пожимаю плечами и, не поворачиваясь к нему, говорю:
– Сходи, принеси жердь подлиннее!
А сам думаю. Если бы не мины за избой, этой шкатулки здесь давно бы уже не было.
Солдат возвращается и подает мне длинную палку. Я отхожу от стола, поддеваю палкой под крышку и толкаю ее. Взрыва нет. В избе все на месте и тихо. Подхожу к столу и заглядываю во внутрь коробки. Ищу глазами проволочку, протянутую под стол к взрывателю мины.

На дне коробки лежат немецкие железные кресты. Их там больше полсотни, а с боку у стенки две плитки иностранного шоколада. Еще раз осматриваю стол. Все гладко. Никаких проволочек и ниток. Разгибаюсь и смотрю на солдата. Медленно одной рукой поднимаю шкатулку.
Солдат замирает, перестал даже дышать. У него перехватило дыхание, глаза не мигают. Я вынимаю обе плитки шоколада и запихиваю их в карман. Запускаю руку в шкатулку и выгребаю горсть железных крестов. Банку сую в руки солдату. Он берет ее и смотрит во внутрь, на дно. Немецкие ордена сияют холодным серебристо-черным блеском.
Совсем недавно они имели магическую силу на солдат фюрера. Теперь они ничего не стоят и ничего не значат, хоть и сияют, отблеском нержавеющей стали. Просто интересно на них посмотреть.
Я положил себе несколько штук в карман. Попадется пленный, мы его, для потехи, торжественно наградим. Скажем, приказ фюрера, крест приказали вручить. – Как твоя фамилия? Точно, это тебя!
Немецкая пуговица, споротая с униформы и пришитая к ширинке штанов нашим солдатом, имела большее значение, чем эта полсотни немецких железных крестов.
– Останешься здесь в деревне! Дождешься полковое начальство! Передашь им торжественно банку с крестами! – сказал я солдату.
Сам присел на лавку, достал кисет, свернул самокрутку, закурил и оглядел избу. Повсюду, на полу валялись бумаги. В углу под нарами стоит ящик с бутылками. Входит Самохин. Я кивком головы показываю ему на ящик под нарами. Он нагибается и вытаскивает его из-под нар. Теперь ящик стоит у меня между ног.
В ящике пустые и не распечатанные бутылки. Это не по-нашему держать в ящике не выпитый шнапс. Вынимаю одну из них и верчу в руках. Пытаюсь прочитать, что написано на этикетке.
– Вот эти восемь возьми на анализ! – говорю я Самохину громко, так чтобы слышали солдаты.
– Передай старшине! Пусть примет по счету! Малечкину две. Остальные на пробу. Скажи старшине, чтоб никого к ним на выстрел не подпускал!
Солдаты были поражены нашим открытием. Самохин достал пол-ящика консервов и уволок их на пулеметную повозку.
Когда Самохин вернулся обратно в избу, я достал из кармана плитку шоколада, положил сверху немецкий железный крест и протянул ему.
– За храбрость и за взятие высоты 236 награждаю тебя высшей трофейной наградой!
Самохин засмеялся. Прицепил на шинель железный крест. А шоколад ему не понравился.

Я достал еще один крест, положил его на ладонь и стал рассматривать его. Сделан он был чисто. Имел четкую форму и красивое рельефное обрамление. Серебристая накатка по черному воронению подчеркивала его контур.
– Чистая работа! – сказал стоящий рядом солдат.
– Да! – согласился я и подумал.
За кусок ненужной железки немцы отдают свою жизнь. Возможно, крест немцам дает какую-то привилегию или надел земли?
Сквозь открытую дверь на улицу я увидел движение солдат по деревне. Я поднялся с лавки и вышел на крыльцо. Верхом на жеребце в деревню въезжал майор Малечкин.
Майор подъехал к углу избы, сделал мне знак рукой подойти поближе и спрыгнул на землю. Егорка подхватил поводья его лошади, а мы отошли в сторону. Майор посмотрел на меня и негромко сказал:
– Вчера погибла вторая пулеметная рота.
– А что случилось?
– Полк, с которым рота шла, нарвался на танки. При подходе немецкой колоны наши залегли, а пехота удрала в кусты. Танки прямой наводкой расстреляли пулеметчиков в упор. Полк отошел, а наши погибли. В батальоне у нас теперь одна пулеметная рота. Я был в дивизии, просил пополнения. Но мне сказали, что людей нет, и не будет. Об этом никому не рассказывай. Командиру роты тоже не говори. Пусть воюет спокойно.
– На нашем пути здесь действует небольшая группа немецкой пехоты, – сказал я.
Основная масса немцев, по-видимому, отошла на юг, на Издешково и в сторону Ярцево. Мы двигаемся по проселочной дороге в стороне от основных сил немцев. Я обратил внимание на дороги, которые идут в южном направлении. Все они избиты и заезжены. А здесь, на дороге по которой мы идем, едва видны свежие следы.
– Всё это так! – сказал Малечкин.
– Я доложу в дивизию. Но нам нужно теперь беречь своих солдат. А то мы с тобой скоро останемся без войска.
В деревню вошла стрелковая рота. Человек двадцать не больше. Солдаты, было разбрелись по домам, но их собрали и приказали двигаться дальше. Вперед по дороге пошла стрелковая рота, вслед за ней пулеметчики. Сзади с двумя повозками ехал наш старшина.
Через некоторое время в деревню подошли наши тылы. Мне оседлали лошадь, и мы с майором верхами пустились догонять своих солдат.
Мы ехали шагом бок о бок, как говорят, стремя в стремя. Я рассказал майору о ящике со шнапсом и о шкатулке с немецкими крестами.
– Торопятся немцы! С перепугу забыли даже кресты! Видно здесь их немного! Вот и бросают все на ходу!

К ночи впереди идущие роты остановились. Выставили дозоры. Теперь нам разрешили сделать привал. Мы с майором легли спать в повозку к старшине. Спали всю ночь. Утром нас разбудил ординарец майора Егорка. Он принес воды для умывания. Первый раз за все время переходов я намылил шею туалетным мылом.
Потом одним из важных дел было посмотреть карту майора. Он отстегнул мне свой планшет, и я долго разглядывал карту, стараясь запомнить маршрут. На карте был отмечен маршрут, по которому мы прошли и должны были двигаться дальше.
На клочке бумаги я записал деревни. Бурулево, Околица, Коровякино, высота 236, Терешино, Батурино – что около д. Мошки, Военная, Ерхов. Впереди были Старина и Сельцо.
Железнодорожное полотно от станции Ломоносово на Смоленск было насыпано до войны. Но рельсы и шпалы не были положены. Участок дороги Ломоносово-Земцы был действующий. Мы подошли к новой линии обороны немцев на реке Вотря.
Насыпь, Сельцо, деревня Починок и берег Вотри, вот собственно зигзаг, по которому проходил наш передний край. Стрелковые роты заняли левый берег Вотри и стали окапываться. Пулеметную роту раздали по полкам.
В феврале сорок третьего солдатам и офицерам ввели новую форму одежды и знаки различия. Вместо отложных воротников и петлиц с треугольниками, кубиками, шпалами и нарукавных нашивок, мы должны были на плечи надеть погоны, нашивки и звездочки. Появились гимнастерки со стоячими воротниками и кителя для старших офицеров.
Дивизия стояла в обороне, начальстве шило себе новые мундиры. Дивизионные и полковые портные не разгибая головы, строчили новые мундиры. Не будет же начальство, вроде нас ходить со споротыми петлицами на облинялых гимнастерках и шинелях.
Малечкин тоже заказал себе новый мундир. Достал материал на китель и отрез сукна на шинель. Мундир и шинель ему шили в дивизии.
Меня приняли в партию. Рекомендацию мне дал наш комиссар батальона капитан Брагин.
Однажды ночью майор зашел ко мне в землянку, поговорил о делах, сказал, что поедет в дивизию и предупредил меня, чтобы я никуда не уходил.
– Жди меня здесь! Вернусь, будем обмывать мой новый мундир и твое вступление в члены партии.
От нас до дивизии километров двенадцать. Я прикинул, что майор вернется только к утру. Пока туда, сюда. Ночь темная. Дорогу плохо видно. На рысях не пойдешь.
Я вызвал старшину и передал распоряжение приготовить, что надо к возвращению майора.

– Всё сделаем! Будьте покойны! Немецкая водочка, та еще есть!
Старшина ушел. Я лег спать. Не помню, когда проснулся. Вышел на воздух, ночь была темная. Сырая и хмурая ночь и ветер с порывами. Присев у входа в землянку, достал кисет и закурил. "Не обмоешь новый китель – пути не будет!" – вспомнил я слова майора. Было это суеверие или пустая фраза. Была она просто так сказана, трудно сказать. Суеверие всегда подхлестывает человека на встречу с опасностью.
Я повернул голову вправо и прислушался. Мне показалось, что по дороге кто-то галопом идет. Но вот удары лошадиных копыт стали слышны отчетливо. Кто-то гнал по дороге лошадь, несмотря на темноту. Еще через минуту я услышал ясный звук лошадиных копыт. По галопу можно было подумать, что кто-то спешит именно сюда. Еще через минуту во мраке показалась фигура солдата, припавшего к холке коня.
Около землянки он осадил лошадь и не успел спрыгнуть с седла и сказать что-либо, я уже понял, что что-то случилось с майором. Это был ординарец майора Егорка.
– Товарищ старший лейтенант! – увидев меня, простонал он.
По голове меня резануло чем-то острым. Как будто Егор на скаку полоснул меня обнаженным клинком.
– Майора убило! – выдавил он.
– Где? – крикнул я. И не дожидаясь ответа, бросился к коновязи, где стояли наши лошади. Я сорвал с первой попавшей лошади попону, выдернул из-под головы спящего солдата седло, перекинул его через хребет лошади, подтянул подпруги и вскочил в седло. Рванув с места лошадь, я оказался около Егора, и, не слушая его болтовню, заорал на него.
– Давай вперед! Показывай дорогу!
– Старшина! Подводу гони! – крикнул я уже на ходу.
Только тогда, когда мы проскакали километров восемь, я почувствовал холод во всем теле и озноб в спине. Я понял, что скачу раздетый, в одной гимнастерке и без шапки на голове.
– Вот сюда на объезд! – крикнул мне, обернувшись, Егорка.
Я, не сбавляя хода, круто свернул в сторону. Мы осадили коней и перешли на шаг. Лошади храпели.
Когда мы подъехали к месту, я увидел майорова гнедого. Жеребец лежал на дороге. Он был разорван пополам. Я не сразу мог найти глазами тело майора.
Бросив поводья на седло, я соскочил на землю. Ноги и руки у меня дрожали. Может от холода, по всему телу шла мелкая дрожь.
Егорка меня о чем-то спрашивал, тряс за рукав. Я слышал его голос, но слов никак не мог разобрать. Со мной раньше ничего подобного не случалось. К морозам и холоду я давно привык.

Майор лежал на краю дороги в нескольких метрах от разорванной лошади. Еще пахло свежим запахом взрыва. Тело майора было неподвижно. Ему оторвало левую руку. В правой, он держал кусок поводка от уздечки. Голова была разбита. Из бедра текла темная кровь.
Он умер сразу в короткое мгновение взрыва. Шинель с него сорвало, новый китель был порван и забрызган кровью.
Вслед за нами прикатил старшина. Он бросил мне на руки шинель и шапку. Я оделся. Прошло немного времени, я стал согреваться. Следом за старшиной, который прискакал верхами, тарахтя по кочкам, прикатила подвода.
В небе появились первые проблески утреннего рассвета. Для нас светило небо, для майора наступила черная темнота.
Стало заметно светлей и я рассмотрел майора, место и подробности взрыва. Лошадь майора задней ногой наступила на противотанковую мину. Как она сюда попала? Почему не взорвалась раньше? Здесь по дороге целую неделю скакали и ездили. Всю дорогу избороздили колесами телег. Как могла остаться здесь нетронутая мина? Мне это показалось невероятным и непостижимом.
Мина взорвалась под брюхом у лошади. Майор попал в самый центр взрыва. Смерть была легкой и мгновенной.
Мы стояли полукругом и молча смотрели на нашего командира. Ветер трепал полы наших шинелей и слегка шевелил пряди волос майора с запекшейся кровью.
Мы потеряли своего майора и заботливого командира. Он был веселый, жизнерадостный человек, с неугасимой энергией, юмором и напором. Майор для нас был другом и требовательным начальником. За время совместной службы на фронте я никогда не чувствовал с его стороны хамского деспотизма, лицемерия и тупого зазнайства. Это был человек энергии и дела, открытый и справедливый. Он пытался нас расшевелить и ободрить, заставить посмотреть на войну и на жизнь без тоски, обреченности и печали.
Вот смотрите. Я лежу перед вами. Значит так нужно. Я об этом не сожалею. Да! Он был хороший человек. Он понимал нас каждого, не то, что другие. Он старался не замечать наши грехи и мелкие оплошности. За всю войну я встретил двух порядочных людей. Мой первый командир Архипов в сорок первом пропал без вести. И вот теперь погиб комбат Малечкин Александр Иваныч. Эти двое оставили в моей памяти то человеческое и лучшее, что связано у меня со всей войной. Два человека оставили в моем сознании неизгладимый след добросовестности и порядочности.
Я знал, что где-то в Горьком у Малечкина была семья. Он часто показывал мне фотографию, где были сняты жена и сын, и рассказывал подолгу о них. Я и сейчас вижу ее перед глазами.
Вот собственно все, что я могу рассказать о жизни майора. Откровенно жалею, что погиб такой человек.
* * *
22.09.1983 (правка)
Март 1943

Гибель Малечкина решила судьбу многих из нас. Солдат с пулеметами отдали в стрелковые полки, штаб батальона и его тыловые службы расформировали, и 4-ый отдельный гвардейский пулеметный батальон перестал существовать.
Для нового назначения меня вызвали в штаб дивизии. После короткого разговора мне предложили перейти в полковую разведку.
– Решай сам! Или разведка, или стрелковая рота в полку! Сходи, погуляй и давай ответ!

Я вышел, перекурил и дал согласие на полковую разведку. Меня направили в 52 гвардейский стрелковый полк. Начальника штаба майора Донисова Н.И. я знал в лицо. Мы прежде несколько раз встречались с ним в штабе дивизии. Меня назначили к нему помощником по разведке. С командиром полка я не был знаком.
Хотя, в должности начальника штаба пулеметного батальона я от передовой надолго не отрывался, но разведка была для меня незнакомым и новым делом.
В беседе с командиром полка я узнал, что в полку сейчас острая нехватка людей.
– Пока мы стоим в обороне, – пояснил он.
– Присмотрись к своим солдатам, изучи передний край и зря к немцам не суйся. Организуй наблюдение и учти!
– Сейчас твои разведчики используются на охране КП и стоят в ночных дозорах. Ты их не тронь. От несения службы не отвлекай. Оборона растянута. В полку людей не хватает.
– Смотри сюда! – и он, по карте, показал участок обороны полка.
– Высота 203, Сельцо, Старина, Левый берег реки Вопря, Высота 248, Ректа, Починок. Карта 22-1
– Немецкий край обороны проходит по недостроенной насыпи железной дороги, деревни Скляево, Морозово, село Петрово, Высота 243, 0тря и Забобуры. Далее на ст.Казарина, Лосево, Рядыни и Шамово. Карта 22-2
– Не исключена возможность, что немцы проведут разведку боем нашего переднего края, пустив до роты солдат. Начальник штаба даст тебе провожатого. Пойдешь во взвод полковой разведки. Находиться будешь там. Познакомься с людьми. Что надо – придешь ко мне.
Командир полка позвонил начальнику штаба. Майор Денисов дал мне в провожатого сержанта телефониста. Мы с ним отправились на передовую.
Были последние числа марта. В воздухе пахло сыростью и прелой листвой. Конец марта выдался тихим и теплым. Туман подобрал остатки снега. Солнце слизнуло остатки льда в оврагах и лощинах. Подсохли дороги, но грязь в низинах была.
На передовой свой порядок хождения по открытой местности. Под утро движение в пределах прямой видимости прекращалось. Солдаты приваливались к стенкам своих окоп, неторопливо дымили цигарками и для пущей важности выгладывали иногда за бруствер, посматривая в сторону немцев. Немцы по ночам не стреляли, но светили усиленно ракетами. Днем в нашу сторону летели снаряды и мины. Малого калибра к окопникам, а тяжелые – к тыловикам.
Весенняя грязь лежала поверх земли. По цвету и виду она подстать окраски солдатской шинели. Такая же линялая и бесцветно-серая. Дожди не успели смыть прошлогоднюю грязь с земли. Голые кусты и деревья стояли повсюду.
Взвод полковой разведки располагался в овраге неподалеку от передовой. Сюда в овраг можно было пройти по кустам даже днем незамеченным. Три небольшие землянки, врытые в склон оврага, прилепились друг к другу на небольшом участке земли. Вдоль землянок не широкая полоса сухой, утоптанной солдатскими ногами земли.
Над оврагом когда-то стояли деревья. Их спилили, и они валялись вокруг. Отдельно стоящие деревья могут служить немцам хорошим пристрелочным ориентиром. На передовой их старались всегда заранее убрать.
Мы спустились по крутой тропинке в овраг, и пошли в направлении землянок. Около них стоял часовой.
Солдат с автоматом сидел на стволе поваленной березы. Он пригнул голову вниз, и что-то ковырял прутиком в земле. Он не обратил на нас никакого внимания. Мало ли кто здесь без дела шляется?
Мы приблизились к нему. Он бегло окинул нас взглядом. Много тут всяких славян ходят. То идут на передовую, то возвращаются обратно. Ни от своих его здесь овраг охранять поставили. Немцы другое дело. У немцев форма другая. Их сразу видать.
По внешнему виду часовой ничем ни отличался от солдата стрелковой роты. Взять хотя бы для сравнения пулеметчика. Его по костям, по ширине плеч от стрелка всегда отличишь. Обозника тоже. Потому как он одет. По ремню, который у него ниже живота, как хомут, болтается.
Откровенно я не подумал что это разведчик. И потому решил, что мы не дошли до места.
На часовом была какая-то потертая, рваная и грязная шинель. Шапка блином придавлена сверху. У него небритое лицо, закопченные руки с черной полосой под ногтями.
Я взглянул на его ноги. На ногах кирзовые сапоги с оторванной подошвой, подвязанной телефонным проводом. И кто только дал ему автомат, висевший на плече? Автомат на плече отличал его несколько от простого пехотинца.
– Ну, вот и дошли! – сказал сержант.
Часовой, услышав "Дошли!" сообразил, что мы явились в разведку. Он нехотя поднялся с березы, вытер ладонью нос, повернул в нашу сторону лицо и улыбнулся. Покашляв немного, простуженным, хриплым голосом он спросил:
– Кого будить сержант? Командира взвода нет! Старшина тоже уехамши! Помкомвзвод в землянке спит! Он, с дежурства пришедши!
Сержант подошел и опустился на поваленную березу. Достал кисет и спросил часового:
– Будишь курить?
– Давай закрутим!
Сержант оторвал кусок газеты и передал его разведчику. Солдат запустил свою грязную лапу в кисет сержанта, взял пальцами щепоть, и шурша обрывком газеты, ловко скрутил и заклеил слюнями папироску. Он толкнул локтем сержанта и нагнулся прикурить. Солдат затянулся пару раз и посмотрел на меня. Посмотрел и почему-то глубоко вздохнул.
– Вот здесь в этих трех землянках и располагаются ваши разведчики! – сказал сержант.
– Разбуди помкомвзвода! Скажи! Новый начальник полковой разведки к вам прибыл!
– Завтра подтянем вам сюда телефон! Соединим со штабом полка напрямую!
– Располагайтесь товарищ старший лейтенант, а я пожалуй пойду с вашего разрешения.
– Конечно, иди! – согласился я, пожав плечами.
Из прохода землянки наружу вылез разбуженный помкомвзвод. Сержант распрощался и подался обратно.
Помкомвзвод, в накинутой на плечи шинели, сгорбленный и заспанный приблизился ко мне. Он хотел, было доложить, как положено по форме, но я его становил и пригласил присесть на поваленную березу. Он сел рядом со мной и продолжал ладонью тереть глаза, жалобно и громко зевать.
– Извините! Я только что прилег после дежурства! Больше суток и все на ногах!
– Ничего! Пойди, умойся!
Мое предложение умыться сконфузило его и даже привело в замешательство. Он не знал, что ответить и как сказать, что они вообще тут никогда не умываются. Да и воды для этого дела у них тут нет.
– Ладно, покури! – сказал я, поняв его затруднения.
– Когда командир взвода вернется?
– Федор Федрыч?
– Его Федор Федрыч зовут?
– Да! Они со старшиной за обмундированием поехали и завтра к утру должны вернуться.
– На полковой склад?
– Нет, в медсанбат! Там с умерших снимают! Если не рваное и не потрепано наши берут. Ребята поизносились. Некоторые совсем без сапог. Вон как Пряхин.
Из разговора с помкомвзводом я узнал немногое.
– Вот что старший сержант! Я тоже больше суток не спал. Покажи мне место, где я могу лечь, и давай мы с тобой отоспимся, как следует.
Он подвел меня к землянке, мы спустились в темноту. Он показал мне свободное место на нарах и я лег на слой подстилки из хвои. Под-голова мне дал старший сержант какой-то мешок. Проснулся я поздно. Внутри темно. Огляделся – в землянке никого. Полежал, прислушался к голосам снаружи. С краю, висевшей в проходе тряпки видна была светлая щель. Она то наполнена светом, то закрывается тенью проходящих мимо солдат. Из оврага попахивает дымком, слышны непонятные обрывки речи. Где-то рядом зашуршала двуручная пила, слышны удары топора по сучьям. Кто-то клацал затвором, видно проверял и чистил оружие.
– Что там за начальник к нам прибыл? Спит и не вылезает наружу!
– Кто его знает? Начнет с оружия? Или по фамилиям будет вызывать?
Я не торопясь, поднялся с нар, выбрался наружу, дыхнул чистого утреннего воздуха и с удовольствием потянулся.
В овраге сидели, стояли и ходили солдаты. Старшего сержанта среди них не было.
– А где помкомвзвод? – спросил я у часового.
Теперь на посту стоял другой молодой солдат. Он был опрятно одет, подтянут и смотрел веселее.
Допоздна я просидел с солдатами, расспрашивая их о службе в разведке.
Захмелевший старшина и порядком подвыпивший, командир взвода, не дожидаясь темноты, прямо среди бела дня покатили на повозке по открытой местности в расположение разведки.
– Давай напрямую! – сумел выдавить Рязанцев, заваливаясь на повозку.
Отобрав в медсанбате шинели, сапоги и несколько пар стиранного нательного белья, старшина уложил все полученное в повозку и сумел сбегать в санбатовский хозвзвод.
В хозвзводе он разыскал своего приятеля, шепнул ему на ухо, что есть для обмена пара часов. Одни с цепочкой карманные, другие с ремешком ручные. Нужна фляжка спирта, показав часы, добавил он. Мордастый фельдшер, долго не думая, забрал пустую фляжку и куда-то исчез. Вскоре он вернулся, передал старшине наполненную флягу и, протянув железную кружку, показал молча пальцем, что ему положено тоже налить. Старшина отвернул пробку и отлил ему положенную мзду за работу. Дорогую добычу, плескавшуюся под самом горлом, старшина не нацепил себе на пояс, как это делают, когда фляжка наполнена водой. Он засунул ее себе за пазуху. Отдай сейчас фляжку лейтенанту, тот нацепит ее на поясной ремень, и будет ходить. А она будет болтаться, и бить его по боку. Для чего это? – подумал старшина. Ради фасона!
Старшина был устроен иначе, чем командир взвода. Он не любил пижонства и хвастовства. В делах он был рассудителен, нетороплив и скромен. На фраеров он смотрел с недоверием, считал их пустыми людьми.
Не главное в человеке его внешний вид, а даже наоборот. И если он уж очень следит за собой, в душе у такого нет ни ума, ни сердца.
Сам старшина носил простую солдатскую шинелишку, большие нескладные кирзовые сапоги со сбитыми каблуками, хотя имел ко всему доступ и мог прилично одеться. Он мог, используя связи, рукой дотянуться до всего, что лежало на полковых складах, как неприкосновенный запас для начальства. Но старшина был скромным, хорошо соображал, он понимал свое место в разведке и не хотел перед разведчиками выглядеть щеголем. Он знал, что главное – уважение солдат, а не наглаженные галифе и гимнастерка под ремень на выпуск. Уважение людей не завоюешь нахрапом и рыком.
Вот смотрите. В руках у него не только снабжение и всякое барахло, но и власть, если хотите. Он будет менять сапоги прежде ребятам. "Бери – примеряй! Мне что останется!"
По ночам они ходят в дозоры. Днем отдыхают. Им молодым в крепких сапогах охота походить. Они как молодые петухи. Смотрят, в чем одет его напарник.
Старшина уже в годах. По службе в офицеры не стремиться. Ему приятно смотреть на довольные лица ребят. И ни один из них не может пикнуть, что он, старшина гребет под себя. Так уж сложилось, что он в разведке вроде родного отца. В руках он держит не только их животы и души, он имел необыкновенную способность успокаивать солдат, когда бывало особенно тяжело и трудно. Он простыми словами мог успокоить солдата, когда они возвращались после неудачной вылазки и среди них были раненые и убитые.
У ребят не выдерживали нервы. Многие иногда были на грани психоза. Полковая разведка это изнурительная и тяжелая работа с огромной нервной и моральной нагрузкой. При частых срывах, гибели близких товарищей и череды, сплошных не удач, нервы и разум человека часто отказывал.
Полковой разведчик это не стрелок в общей траншее. Пехотинцев стрелков гибло много, чего говорить! Но сама смерть у них была легче. Сидит солдат в окопе. Прилетел снаряд, рванул, и время на раздумье нет. Пехотинец не ищет смерти и на встречу ей не идет. Он пассивно сидит в окопе и ждет – пронесет или не пронесет. Пули за укрытие бруствера не залетают. Тут только если снаряд зашуршит или мина завоет.
Разведчик выходит из траншеи. И идёт по открытой местности в нейтральную полосу и все пули его. Очередь из пулемета или осколки в живот, пока сближаешься с немцами. Пока доберешься до немецкой колючей проволоки, пока сближаешься с немцами. Это всё на подходе.
Теперь под проволокой ты можешь в упор глотнуть свинца, за милую душу. Сидеть в укрытии траншеи безопасней, но тоже страшновато и невыносимо – теряешь много душевных сил, когда немец бьет поверху.
Но это совсем другое, когда ты добровольно лезешь под пули и виснешь на немецкой колючей проволоке. Когда группу разведчиков обнаруживают при подходе к проволоке, и они попадают под бешеный огонь, в живых из группы в десять, дай бог вернется половина. А чаще, из-под проволоки выходят из десяти – два, три, не больше. И снова эти трое с другими, новыми пятью отправляются под проволоку, чтобы вынести раненых и убитых. Без этих троих не обойтись. Только они знают и укажут место, где остались лежать их друзья. Сидеть и дрожать в окопе легче! Вернется солдат из такой разведки, а из дивизии опять звонок
– Готовьте в ночной поиск новую группу! Штаб армии требует языка!
И солдата с надломленной и опустошенной волей пытаются опять пустить вперед. А к нему не подходи. Тут и рыки полковника не помогут.
Окликнет его старшина, позовет помочь по хозяйству – поднимется с нар, пойдет помогать старшине, несмотря на усталость. Другие не суйся. Старшина знал одно, что в такие моменты нельзя оставлять человека одного со своими мыслями. Может работа и пустяковая, поручение плевое, не нужное и совсем не срочное, но в такой работе оттаивает человек.
Пока тот занят делом, старшина перекинется с ним двумя словами, вроде по делу и заведет разговор. Смотришь, и отойдет солдат, просветлеют у него глаза. А глаза, как зеркало самой души.
К солдатам и к их нуждам он всегда справедлив. Старшина все может, а сам ничем не пользуется.
Когда во взводе после серии не удач намечался кризис, старшина оставлял на время тряпки и дела. Он подбирал себе напарников добровольцев и уходил с ними в ночной поиск. В разведке он бывал не впервой. Солдаты доверяли ему не только свои жизни, но и добытые трофеи. Вот почему всякие не нужные штучки, вещицы и часы переходили потом из солдатских запазух в кирзовую сумку старшины, которая болталась у него на боку, когда он возвращался к хозяйству.
Старшина уважит каждого. Сменяет вещицу, блестящую безделушку на сало, консервы и другую еду. И еда делилась на всех поровну. Такой у нас закон был в разведке.
За свои старания он никогда не требовал вознаграждения и мзду. С солдат он не брал комиссионных. Он, всё до последней крохи, вываливал на общий стол. И если солдаты просили его взять какую-то часть или долю, он в знак несогласия поднимал указательный палец и грозил, улыбаясь им.
– Вот товарищ старшина возьмите! У вас нет зажигалки, а у меня их две!
– Ладно, уговорил! – отвечал старшина. Вещица полезная!
И зажигалка исчезала в шершавой руке старшины. Солдаты иногда передавали кое-что и для командира взвода, но делали это всегда через старшину.
Или другой случай. Подойдет к старшине солдат, постоит, помнется, вывалит из кармана на стол сразу несколько блестящих циферблатов и скажет:
– Я сегодня плохой сон видел. Лежу я как будто в могиле, а они мне под самым ухом тикают.
– Вроде я мертвый! А они стучат на разные голоса!
– Возьми старшина! Избавь меня от них! Может мне легче станет!
Старшина понимающе поднимал брови. Молча брал связку часов. Прикидывал их в шершавой руке на вес. Качал головой и улыбался широкой улыбкой.
– Ты их наверно давно таскаешь! Думал, что в кармане у тебя капитал! Вот они тебе и стали сниться! Теперь избавился! На душе станет легче!
– О смерти и могиле ты парень не думай! От нее от стервы никто не уйдет!
– Только каждому приходит свое время! – и старшина опускал связку часов в свою кирзовую сумку. Похлопав солдата по плечу, он удалялся.
И в этот раз, когда они с Рязанцевым отправились в медсанбат, старшина сделал расход трофей из запасов кирзовой сумки.
Сегодня старшина не взял с собой повозочного. Лошадью он правил сам. Лошаденка с тремя седоками и барахлом рысью не побежит. По дороге всякое может случиться. Может, придется гнать и галопом. В санбат ему нужно было поехать самому. Кто будет вместо него отбирать и копаться в барахле снятого с убитых. Рязанцев поехал навестить разведчиков, легко раненых, которые находились в санбате на излечении.
Когда старшина получил флягу из рук фельдшера, он не стал ее цеплять на ремень, чтобы она болталась у всех на виду. Он сунул её предусмотрительно за пазуху. Попадись на встречу, какой начальник или политработник, а здесь при санбате, где баб полно, их без дела шатается много. Подойдет такой один, ткнет пальцем, спросит, что это такое? Постучит по фляге щелчком, услышит глухой звук, почует запах спиртного, станет допытываться, где взял, куда несешь. А если заартачишься и не отдашь сразу и молча, поднимет крик, соберет вокруг себя народ. Прикажет снять ремень и отправит на дознание.
У этих тыловиков на спиртное обостренное обоняние. Старшина знал все эти штучки и поэтому сразу засунул флягу поближе к животу. Тяжелая, холодная фляжка животу не мешала. Теперь она в надежном месте, хоть и немного холодит.
Старшина не спеша, подошел к повозке и засунул ее в голенище лежавшего в телеге кирзового сапога. Никто не полезет в ворох старых шинелей искать в голенище бесценную кладь.
Старшина отошел и обернулся назад. Вон подошел к повозке командир взвода Рязанцев. Фляжка со спиртом у него под носом. А он не чует ее. Солдатские шинели и сапоги запах перебивают.
И только тогда, когда они покинули санбат и тылы, когда выехали из леса и миновали крутой поворот дороги, старшина сунул руку в сапог и достал оттуда фляжку.
За поворотом дороги он открутил винтовую крышку и протянул фляжку Рязанцеву. Рязанцев взглянул на нее, взял цепко рукой, как берут взведенную на боевой взвод гранату. Он не спросил что и как, откуда она. Он засунул горло фляжки в рот и запрокинул голову.
Старшине показалось, что Рязанцев никогда не оторваться от нее. Ему не жалко спирта. Он не хотел, чтобы тот напился. Он знал, что Федор Федрыч обязательно хватит лишнего.
– Кончай! – сказал старшина.
И с усилием потянул из рук Рязанцева флягу на себя. Рязанцев отпустил ее и замер на мгновение. Он собрался с силами и сделал глубокий вздох.
Пузатая фляжка лежала в шершавой руке старшины. Старшина поморщился и сделал два коротких глотка. Пил он не с жадным присосом, как это делал командир взвода. Тому лишь бы утробу налить. Пара глотков обожгла ему горло и побежала жаром внутри.
– Не разбавленный! – сказал он сам себе.
– Жулики, а налили честно!
Посмотрев на облегченную фляжку, он погладил ее рукой, накинул на горлышко резьбовой колпак и завернув его, сунул фляжку в голенище.
– Место надежное! Рязанцев не видал! Будет просить – больше не дам!
– Федь, а Федь! Ляг поудобней! А то я под горку вытряхну тебя! Держись вот здесь!
Рязанцев лежал в середине телеги. Лицо его расплылось, губы налились и вывернулись как у еврея.
– Давай старшина кати напрямик!
– Попадем под обстрел!
– Ерунда! Проскочим! В таком состоянии и помереть не стыдно! Вот скажут, им повезло! Поддавши, богу душу отдали!
– Эй, баргузин пошевеливай валом, молодцу плыть недалёко…
Командир взвода еще что-то промурлыкал, а старшина молча тронул вожжами лошадь, он знал, что если взводный выпил, то его ни чем не удержишь. Он полезет куда угодно.
– Славное море, священный Байкал…
Местность, по которой они ехали, просматривалась со стороны противника. Открытое поле постепенно спускалось вниз. Две неглубоких лощины, поросшие кустарником, шли параллельно дороги. Но там, на телеге не проедешь. Там днем можно было только пройти по кустам. Кой где в прогалках лощины немец на короткое время видел пеших солдат, но по ним не стрелял. Они показывались на миг и тут же исчезали. Не будет же он по ним из артиллерии бить. Но иногда немцы срывались и начинали обстреливать всю прилегающую местность. Шуршали снаряды и уткнувшись в землю, рвались. По лощинам стелился сизый дым. Охота за живыми людьми велась периодически.
А тут днем, нахально на открытое место по дороге выкатила повозка. Она, не спеша, как бы нехотя поддразнивая немцев, затарахтела по склону. Такой наглости немцы не могли пропустить.
Лошадь ленивым шагом подвигалась вперед, телега покачивалась на ухабах. Старшина зная, что сейчас начнется обстрел, что дорога хорошо пристреляна немцами, свернул в сторону и поехал по полю.
Старшина еще издали усек знакомое шуршание снарядов. Он осмотрелся по сторонам, выждал некоторое время, и резко свернув в сторону, с остервенением хлестнул свою кобыленку. Лошаденка уловив удар кнута, дрыгнула ногой и учуяв недобрый знак своего хозяина, дернула с места, рванула телегу и бросая в стороны ногами, пошла галопом вниз под уклон. Навострив уши, она все с большей скоростью неслась от набегающей на нее сзади телеги.
Впереди лощина и кусты. До кустов рукой подать. Там можно остановится, переждать обстрел и наметить дальше пробежку по полю. Повозка, громыхая, скатилась в низину, старшина натянул поводья, и лошадь перешла на ленивый шаг. Теперь она шла, покачиваясь и фыркая. В кустах старшина остановил ее.
Она повернула голову назад, посмотрела в его сторону одним глазом, и как преданная собака, хлестнула себя хвостом по бокам. Она даже хотела снова тронуться. Старшина по этому взгляду уловил ее намерение. Он погрозил ей пальцем. Стой, мол на месте и не балуй. Она поняла его сразу. И больше не дергалась.
Старшина достал кисет, свернул козью ножку, насыпал махорки, чиркнул блестящей трофейной зажигалкой. Пока он пускал кверху дым, она стояла смиренно и не дергалась. Увидев, что повозка не появилась за кустами на склоне, немцы прекратили огонь.
– Но это еще не все! – решил старшина.
Они только и ждут, чтобы мы, где появились на открытом месте. А нам нужно перевалить через открытый бугор.
Рязанцев лежал на ворохе шинелей. Он не участвовал в выборе пути и дороги. Однако он поднял голову и заметил:
– Не до вечера же нам здесь торчать! Теряем время старшина!
Старшина промолчал. Он не считал серьезными замечания лейтенанта. В каждом опасном деле должен вести кто-то один. Когда в дело нос суют двое, ни чего хорошего не жди! Старшина когда-то был разведчиком, ходил за языками, знал по опыту, что командует всегда один, тот, кто группу ведет. Будь то сержант или рядовой, если даже с группой идет лейтенант. Командир группы захвата всему голова!
– Делового совета от Рязанцева не добьешься! – подумал старшина.
Был бы еще трезвый, куда не шло! Старшине было ясно одно. Что решить вопрос куда ехать и когда трогать он должен только сам. Хотя легкий хмель в голове не давал ему осознать все тонко и точно.
Старшина не торопясь, докурил папироску, сплюнул на нее, слез с телеги, притоптал окурок ногой. Такова фронтовая привычка. Огня нигде и никогда после себя не оставлять. Старшина наклонил голову, новел ухом в сторону неба, прислушался, уселся на повозке поудобней, шевельнул вожжами и добавил:
– Ну, помаленьку! Пошла!
Повозка дрогнула и стала выползать из кустов на открытое место. Проехав метров двадцать и поднявшись на бугор, старшина сразу уловил на слух звук летевших снарядов. По звуку и полету они должны были уйти куда-то дальше в тыл.
Теперь, подумал старшина, самое время проскочить бугор и он решительно дернул вожжами. Когда повозка выкатила на перевал и набирая скорость затарахтела вниз по склону, обстрела не последовало. Ну, вот и знакомая ложбина. А там дальше овраг. Лошадь подъехала к землянке и остановилась. Помкомвзвод подошел к старшине, посмотрел на повозку и на лежащего в ней командира взвода и сказал старшине:
– Новый начальник разведки прибыл!
Проснулся я рано, утром меня никто не будил. Я лежал и смотрел на яркие полосы и пятна света, которые пробивались из-за края палаточной ткани, висевшей в проходе.
Я смотрел и думал, как сложиться моя новая служба и дальнейшая жизнь, как пойдут дела во взводе разведки, что собой представляют эти люди? Теперь мне вместе с ними предстояло воевать. Сам я смутно представлял работу разведчика, детали не знал.
По прибытию в полк, я имел беседу с командиром полка и начальником штаба. Меня спросили, кто я, откуда, давно ли на фронте?
Задача по разведке мне не была даже поставлена. Это, мол, твое личное дело и как вести разведку, сам соображай. Придет время, с тебя потребуют языка, а как его лучше брать, как выследить, и где это лучше делать, я должен всё это сам уметь и соображать.
Мысли мои перебил звук затарахтевшей в овраге повозки. Послышалось фырканье лошади, позвякивание уздечки, незнакомые голоса солдат и разговор между двумя людьми, по-видимому, сидящих на телеге. Командир взвода приехал, решил я, поднялся с нар и пошел к выходу.
Отдернув занавеску, висевшую у входа в землянку, я вышел на белый свет и увидел телегу. Повозочный распрягал кобылу. Он снял с лошади уздечку, отвязал вожжи, а кобыла тыкалась губами ему в рукав, подталкивала и ждала пока, из кармана на свет появится завалявшаяся корка хлеба.
Старшина тоже стоял ко мне спиной у телеги. Он хрипловатым, спокойным голосом отдавал солдатам свои команды, куда что носить и где складывать привезенное.
С появлением в овраге старшины солдаты разведчики оживились. Я стоял молча и с интересом за ними наблюдал. Я смотрел, как они подходят к повозке, берут поношенные солдатские шмотки и относят их в указанное место.
Из разговоров можно было понять, что вот теперь они получат крепкие сапоги и сменяют прожженные за зиму шинели, протертые до дыр гимнастерки и штаны. Сам факт этих незначительных перемен был для них важным событием.
Перемена старой негодной одежды, а у них на душе приподнятое настроение. Бывшие в употреблении, отремонтированные сапоги и шинели тронули солдатские сердца. Каждый смотрел и приглядывал заранее, что достанется ему из общей кучи.
Я смотрел на солдат и наблюдал их в деле, на их желание сбросить с себя дырявую одежду, снять истоптанные сапоги. Пока я молча смотрел и обдумывал свои наблюдения, кто-то тихонько подошел ко мне сзади и осторожно тронул рукой за плечо. Я обернулся. Передо мной стоял Фёдор Фёдорыч. Я посмотрел на Рязанцева и подумал
– Как сложиться моя новая служба и работа в разведке.
– Что за люди, с которыми мне вместе воевать?
До сих пор я не вполне ясно представлял работу полковой разведки, не знал всех тонкостей в их повседневных делах.
У меня был опыт стрелковой и пулеметной роты. В боях не раз приходилось вести разведку деревень и высот. Но то была разведка в полосе наступления роты. А здесь? Фронт полка.
Получив назначение, мне не только нужно было знать самому это дело, но и учить людей тонкостям полковой разведки.
Командир взвода, как мне сказали в штабе полка, прибыл во взвод тоже недавно. Приехал из тыла с краткосрочных курсов. Боевой опыт в войне считай, отсутствует. Опыт в разведке совсем небольшой.
В беседе со мной командир полка не поставил конкретных задач на разведку. Везде наверно так. Думай сам и сам все решай.
А как нужно – никто не знает! Учить тебя некому! Начальству некогда с этим разбирается. Это не его дело. Передовая это не бумажка, на которой написано донесение. Начальники полагают, что на войне не до учебы. Когда нужно будет взять языка, мне скажут.
– А как его брать?
– Это дело братец твое!
Языка не пойдешь и просто так не схватишь. Тут наверно нужно все разложить и рассчитать по минутам и секундам.
Мысли мои перебил скрип повозки, которая съехала в овраг и остановилась у входа землянки. Послышалось частое дыхание лошади, забегали солдаты. Командир взвода и старшина приехали, решил я и пошел им навстречу. Завернув за землянку, я увидел телегу и старшину. Повозочный подбежал к повозке и стая распутывать вожжи. Лошадь тыкалась влажными губами и теребила его рукав. Старшина стоял у телеги спиной ко мне. Он говорил о чем-то солдатам. Я остановился на полдороги и молча наблюдал за солдатами. Мне было интересно посмотреть на них, и послушать о чем они говорят. По их разговорам можно было понять, что они получили шинели и сапоги но их очень мало и не многие сбросят с себя дырявые шинели и сапоги. Пустяковое дело. Поношенные шинели. А в жизни человека целое событие.
Снятые с мертвых обноски расшевелили солдат. Как немного нужно человеку! Каждый из них смотрел и прикидывал, что ему достанется из этой кучи вещей. Обычное дело! Сбросить с себя дырявую одежду!
Кто-то запустил руку в телегу и тащил на себя сапоги. Старшина быстро заметил, поднял палец и не оборачиваясь погрозил.
Только в работе и в деле раскрывается по настоящему солдат. Наспех, второпях его не узнаешь.
Кто-то подошел сзади и осторожно тронул меня за рукав. Я подумал, что лошадь теребит и просит хлеба. Я обернулся и увидел перед собой не лошадь, а командира взвода. Того самого, Ряэанцева Федор федорыча, с которым мне предстояло вместе воевать. Я и прежде знал, что неудач и потерь в полковых разведках не мало. Успехи редки. Их можно сосчитать по пальцам.
Я поздоровался с ним и сразу заметил, что он прилично поддавши. Но сделал вид, что ничего не заметил. Про себя решил, что не подам даже вида. Мало ли, что могло случиться у человека. Мало ли, что заставило его выпить. Начинать службу с конфликта не стоит. Возможно это случайное дело. С любым может случиться, если начальство несправедливо поддело его.
Мы отошли к поваленной березе, сели на ее ствол и закурили. Разговор не клеился, мы оба молчали. Я ждал, когда начнет он. А он решил, что я буду задавать вопросы.
– В полку мне сказали, что ты тоже москвич.
– Да! – ответил он.
– Не разговорчив! – подумал я.
Так началась наша совместная служба. Нам было суждено провоевать вместе в разведке около года. Для полкового разведчика это срок не малый, если учесть, что срок пребывания на передовой вообще исчисляется несколькими неделями. Нам москвичам всевышний отрезал солидный срок. Год в полковой разведке, это как сама вечность!
Работа за передним краем тяжелая и опасная. Это не в окопе сидеть и чесаться от вшей. Смерть каждый день вырывает людей из нашей небольшой разведгруппы. В полковой разведке вместе со мной, Рязанцевым, старшиной Волошиным, повозочным Валеевым и лошадью по клички «Манька», всего двадцать живых душ.
На следующий день из неторопливого рассказа Федор Федорыча я узнал, что до войны жил он в Москве на улице Рождественка дом 2. Вход со двора направо.
Теперь этого двухэтажного дома нет. На его месте после войны построено здание Детского Мира.
– Работал я резчиком, – рассказывал он.
Работа грязная. Каменная пыль столбом стоит, в кожу въедается. После работы ни мылом, ни щеткой не отскребешь. В деньгах я особо на нуждался. Выпивал каждый день. На камне всегда имел приработок. Возьмем частный заказ. Вырежем из гранита постамент и надгробье, отполируем – денежки на стол гони. Поди, учти, сколько я плит из глыбы вырезал.
Жена и дочь живут в Москве, там на Рождественке. Но женился я неудачно. Прямо скажу. Попалась мне бабенка настырная, скандальная и горлопанка. Откуда такие бабы берутся? Скандалила без всякой причины. У нее видно болезнь такая. Только и избавился от нее, когда на фронт добровольцем ушел. А по работе у меня была броня от армии. Мы для высшего начальства надгробья делали.
Раньше я с отцом в деревне жил. Семья большая была. Жили бедно, хлеба не хватало. Жил у нас в деревне один мастеровой мужик. Вот и пристроил меня отец к нему ремеслу обучаться. Сначала на побегушках учеником был, потом на резку камня определили меня. Резали камень, мрамор, гранит. Рубили надписи, барельефы и всякое другое. Вскоре мастера нашего забрали и посадили, вроде как с эсерами связан был. Артель наша распалась.
Подался я в Москву. На разных работах там был. Потянуло к камню. Пошел резчиком. В Москве небольшой завод по обработке камня в то время был. Перед самой войной и женился.
В девках я тогда слабо разбирался. Все они казались, мне хороши для семейной жизни. И нарвался я на дуру с луженом горлом.
Сам я не особый любитель спорить и ругаться. Заорёт она, а я пойду и напьюсь. К водке я приучен смолоду. Камнетесы без водки работать не могут. Пыль в горло лезет. Глыбы лежат на открытом воздухе. Зимой снег и холод. Осенью дождь. Летом жара. Зимой гранитные глыбы холодом дышат. Летом около них жара, дышать нечем.
Меня к водке вовсе не тянет. Нет ее – мне наплевать! А если есть – наливай! А почему я от нее должен отказываться? Организм здоровый. Каждый стакан в пользу идет!
Рязанцев по своей комплекции был сильным и крепким. Тяжелый физический труд сделал свое дело. Он был небольшого роста. Плечи широкие. Руки мозолистые. Волосы светлые. Глаза голубовато-серые. Лицо дышало здоровьем. На щеках проглядывал румянец. Верхняя губа оттопырена, наливай и подставляй железную кружку. По возрасту, Рязанцев был на несколько лет старше меня.
– На открытой площадке, где режут блоки, – продолжал он,
– Стоит такой скрежет и лязг, что голоса людей не слышно. Я боялся остаться глухим. На кромку дисковых фрез льется вода для смазки и охлаждения. Рядом стучат молотки, зубила при ударе издают пронзительный визг. На зубах и в горле гранитная пыль. Плюнешь, чихнешь, и изо рта, как черная жаба вывалилась. Ходишь по воде. За воротник плещет вода. Кончишь смену, хошь водой смывай, хошь мылом намыливай, грязь влипла в тело. Дома ходишь цементом харкаешь.
Из мужиков во дворе я больше всех зарабатывал. Соседки завидовали моей жене. Зарплату я ей отдавал, а левый заработок держал при себе в кармане. В последнее время я стал уходить из дома. Она видит, что я одеваюсь, откроет дверь и давай орать на весь дом. Ждет, когда соседи соберутся. Мне это надоело. Я рад, что меня взяли в армию. Избавился от дуры. Вот она мне как поперек горла была. Рязанцев нахмурился и провел краем ладони по горлу.
– Если не убьют, кончиться война, я к ней не вернусь. Это дело решенное. Будешь жениться, старший лейтенант, не дай бог, если и тебе такая дура попадется.
На призывном пункте мне предложили пойти в военное училище. Чего думаю мозги всякой наукой засорять. Но товарищи уговорили. Офицерская служба чистая. Вот и стал я чистоплюем. Когда я прибыл в полк, мне предложили пойти в разведку. Вот я и здесь.
– А как у тебя с общей грамотностью? – спросил я.
– Грамотёнка, шесть классов. По азимуту с картой ходить не умею. Ты меня лучше к немцам за языками посылай.
Закончив дела, к нам подошел старшина. Поздоровался, присел на березу. Так просидели мы, некоторое время, обсуждая разные дела.
Вечером мы с Рязанцевым должны отправиться на передовую. Я хотел осмотреть передний край обороны полка. В каждом батальоне на передовой не больше сотни солдат. Линия фронта была сильно растянута. Солдат не хватало. Немцы могли ночью провести разведку боем и навалиться на траншею.
Комбаты добились от командира полка, чтобы разведчиков послать в ночные дозоры. У разведчиков была одна задача, охрана штаба полка и ночные дозоры. В разведке тоже людей не хватало. В ночные дозоры посылали по одному человеку.
– Как же так? – спросил я Рязанцева.
– Ранит, кого или убьет! И оказать первую помощь некому.
– А что я могу сделать? Сократить число постов?
– Конечно! Если немцы сунуться ночью, их все равно обнаружат.
После раздачи пищи мы с небольшой группой разведчиков отправились на передовую. Я спросил солдат, где и как они ведут наблюдение.
– Сидим в воронках, перед рассветом уходим назад.
– Далеко от передовой уходите вы вперед?
– Метров на триста, не больше.
– Что от туда видно?
– Ляжешь в воронку и слушаешь. Немцев не видно.
– А под насыпь ходили?
– Ходили! Немцы ночью патрулируют ее. Слышно как разговаривают.
– Не мешает посмотреть, где наши солдаты ночью дежурят! – сказал я Рязанцеву.
– Возьмем да сходим!
– Ну, тогда пошли!
Мы пошли с двумя солдатами на место их лежки. Поднявшись из траншеи на мягкий грунт, мы присели на корточки и прислушались. Нужно приглядеться к нейтральной полосе и выбрать направление. Так заведено. В каждой полковой разведке свои обычаи. Встав на ноги, мы пошли за солдатами, которые шли впереди. Темные фигуры их тихо скользили вниз по склону. Солдаты несколько раз останавливались, приседали и осматривались по сторонам. Мы с Рязанцевым повторяли их каждое движение. Но вот по лицу стали стегать ветки кустов, солдаты не торопясь, перешли через овражек.
Всего триста метров, а ночью они кажутся как целая верста. Ни чихать, ни кашлять нельзя. Как только разведчик перешагнул бруствер, он должен быть совершенно беззвучным. Ни спросить, ни ответить. Идешь, повторяешь движения передних, которые могут подать тебе условный сигнал только рукой.
Солдаты замедлили шаг, подали знак рукой и остановились. Один из них нагнулся и присел. Другой сделал знак, чтобы мы подошли ближе.
Они несколько углубили воронку. В ней можно было поместиться вдвоем. Свежую землю, они ссыпали в мешки и перед рассветом уносили с собой и вываливали возле траншеи. Оставлять свежие выбросы около воронки нельзя. По кучкам свежей земли, немцы могут засечь место ночного дозора. Днем обнаружат, а ночью поставят мину. Все логично. Но немцы пока из своей траншеи вперед не выходили. Небольшими группами они бояться ходить.
Это, по сути дела, был мой первый выход с разведчиками в нейтральную полосу. Я раньше ходил, но тогда со мной были не разведчики. С солдатами мы пробыли недолго. Они остались дежурить, а мы с Рязанцевым вернулись назад. Я думал, что потом в штабе полка у меня будет разговор о ночных постах и дозорах.
Я заранее решил выйти и посмотреть все на месте. Я плохо представлял, что именно разведчики охраняют в нейтральной полосе. Что собственно? Передний край или сон солдат стрелков, сидящих в траншее.
Покидать траншею и уходить вперед по началу неприятное дело. Когда ты сидишь в окопе прикрытый землею от пуль, вроде на душе веселее. А ходить по открытой поверхности земли под носом у немцев опасно, можно нарваться на пули или на удар осколков и укрыться негде. Бывают случаи, когда пуля не слышно летит, как мина на подлёте. Это, – твоя. Стукнет она неожиданно и считай, твоя песенка спета.
Или другой случай. Возвращаешься в траншею. Тут ты можешь запросто нарваться на пулю. Проснется, какой тетеря, пальнет с перепуга в тебя. Целясь, он никогда не попадет. А вот так, спросоня, обязательно всадит. Из пулемета резанут на всякий случай. Решат, что выстрел был сигналом тревоги. Хотя все знают, что наши люди впереди. Но всякое бывает. Решат, что их давно прихлопнули и что очередь за траншеей. Потом такого наплетут, что полковые тактики и стратеги не разберутся.
Фёдор Федорыч рассказывал, что одного из ребят вот так и убили. От своих пулю получил. От своих пулю не ждешь. Её получаешь неожиданно.
Под немецкими пулями кланяешься. Они стреляют по системе. Их ждешь и знаешь, когда быть настороже. Считаешь секунды. Стоишь, глядишь и решаешь, резанут или нет. Немцы нас встречают и провожают свинцом. Мы не воюем, мы ходим на смерть каждый день и в этом, кажется, нет никакого геройства. Такая работа – ходить на смерть!
Страх не в том, что пуля в тебя попадет. Страх в ожидании, когда она пролетает мимо. А когда она ударила, перебила ногу, обожгла шею, или разворотила скулу, страха уже нет. Пуля не пролетела мимо.
И если у тебя есть силы бежать, ковылять или ползти к своим, поскорей подавайся. А то потеряешь много крови. А если сил нет, дожидайся, лежи. Перед рассветом не явишься ко времени, за тобой придут и унесут.
Добрался до своей траншеи, сделали тебе перевязку, наложили бинты, можешь передохнуть. Тут появляется снова страх, нет ли у тебя гангрены. Но это пройдет, когда тебя положат на носилки, поднимут из траншеи на поверхность земли. Ты снова будешь думать о пулях, снарядах и минах, которые немец пускает, чтобы славяне не забывали, где они находятся.
Но вот тебя дотащили до оврага, положили на землю, где ждешь ты повозку. По дороге в санбат повозка может попасть под обстрел.
Ты лежишь на повозке, смотришь в небо, а повозочный бросил поводья, отбежал подальше и залег в канаву. Он будет лежать там, пока не кончится обстрел. Со страхом бороться легче, когда ты на ногах, чем вот так лежать беспомощно и ждать, когда рядом рванет снаряд, и осколки веером ударят в тебя.
Хорошо, что ты не попал на телегу полкового обоза. Вон к тому мордастому, что с кнутом за голенищем и с рожей похожей на московского извозчика. Он тебя в канаву сковырнет. Валяйся там до утра, пока кто-то другой подберет. А сам налегке галопом уйдет пока немец пристреливает место.
Тебе повезло. Ты жив, ты дотянул до операционного стола. На тебе разрезали одежду, размотали бинты, раздели, обмыли, где нужно побрили и к столу привязали.
Не успели дать наркоз, а в небе немецкие самолеты. Врачи и сестры в щели ушли. (окоп на одного), а ты опять смотришь в потолок, остался один со своими мыслями, страхами и надеждами. Ты лежишь под белой простынею, а на тебя с потолка сыпется земля. Ты мысленно приготовился к смерти, а она не торопиться.
Страх на войне повсюду и везде. Все переживания можно назвать одним словом – страх. Тот, кто воевал, знает цену этому слову.
У того мордастого извозчика от страха на лоб полезли глаза. У него был не просто страх, а животный. Только у мальчишек несмышленышей в глазах больше любопытства, чем страха. Они смерти не видели, а когда ее не знаешь, чего ее бояться.
У замполита Сенкевича, когда он бежал из под Белого, бросив солдат, был специфический – панический страх, за свою жизнь и шкуру. Потом он пошел в гору. Вот как бывает. Страхи тоже бывают разные.
Я вот рассуждаю о страхе, а нужно бы к делу вспомнить старика нашего Березина. Он не испытывал страха, когда восемь тысяч солдат попали в плен к немцу под Белым. Он боялся, что его расстреляют. И поэтому, он прикрылся солдатской шинелью и ушел в сторону города и больше его никто не видел.
А на командном пункте штаба армии его поджидала машина с людьми из контрразведки. Им было поручено взять его и увести куда надо.
Страха не бывает, когда поддашь спиртного. Рязанцев в поддатом виде мог пойти и перелезть через немецкую проволоку.
Мы вышли из нейтральной полосы. Впереди метрах в двадцати наша траншея.
– Что-то спина холодит! К утру наверно погода будет меняться! – сказал Рязанцев.
У меня под лопатками тоже озноб. Сзади нам вдогонку неслись немецкие трассирующие пули. Неприятное чувство, когда идешь и спиной чувствуешь свинец. По дороге в овраг можно было поговорить. Я спросил Рязанцева:
– Как ты думаешь? В чем собственно смысл ночных дозоров.
– Что они делают? Несут оборону или охраняют пехоту?
– Чего тут думать? Мне приказали, я их и поставил!
– Какую боевую задачу ты ставишь разведчику?
– За что он должен отвечать?
– Что он должен делать, если пойдут немцы?
– Что? Бежать будить пехоту или отбиваться в своей воронке? – допытывался я.
– Не знаю! В штабе, когда приказывали, я об этом не спрашивал.
На следующий день я взял с собой одного солдата и мы по заросшей кустами лощине отправились в штаб полка.
В блиндаже майора горела бензиновая горелка. Когда майор спал или работал, гильзу с фитилем не гасили.
Часовой пропустил меня в блиндаж. Майор сидел за столом и разбирал какие-то бумаги. Увидев меня, он отложил свою работу.
– Ты по делу ко мне?
Я стал рассказывать ему свои соображения.
– Если немцы сделают попытку перейти нейтральную зону, то нарвутся на наших ребят. Отойти назад разведчики не сумеют. Они лежат в мелких воронках или просто на голой земле, прикрываясь кустами. Их сразу всех перебьют. Раненые попадут к немцам в плен. Мне не понятно, где у нас проходит передовая? Может пехоту вывести из траншеи, а туда посадить наших ребят?
Майор молча посмотрел на меня. Возможно, он подумал, что я все сказал и пришел только по этому вопросу.
В это время майора потребовали к телефону. Пока он говорил, я вспомнил о Рязанцеве.
Это Федя молчалив и со всем согласен. Придет к майору, начнет говорить. Майор его перебьет и скажет:
– 3наем! Ладно, иди!
Рязанцев помнется и уйдет. А по дороге вспомнит, что про сапоги забыл спросить. Разговор с начальством выбивал у него мысли и пот на лбу. Вздохнет, махнет рукой. Ладно, в другой раз. К майору он потом не идет, посылает старшину. Федю от двух, трех фраз в жар и холод бросало.
Майор положил трубку и вернулся к столу.
– Как понимать все это? Кто обороняется? Стрелковые роты или разведчики? Ночью завяжется перестрелка. Наши пулеметчики дадут огонька в сторону немцев. Ведь они в темноте ударят по разведчикам.
– Что вы об этом думаете? – спросил я майора.
Майор молчал, а я продолжал:
– Может, я говорю не дело?
По-моему в Гражданскую войну выдвигали дозоры. Чапаев погиб, понадеявшись на них.
Какую боевую задачу я должен поставить разведчику? Иди, мол, браток полежи в нейтральной полосе до утра!
Я замолчал и посмотрел на майора. Он покачал головой и улыбнулся.
Командир полка может приказать нам на каком-то участке занять оборону. А охранять комбатов и стрелковые роты, такого приказа никто не может отдать.
Командир взвода разведки докладывает мне, что один из комбатов уже покрикивает на него. Я третий год на фронте, был ротным, успел побывать и на штабной работе, но такого ни разу не видел, пехота в траншее спит, а ее охраняют разведчики.
Когда я в роте был. С меня комбаты три шкуры драли. За клочок земли расстрелом грозились. А здесь что происходит?
Может комбаты бояться, что солдаты ночью к немцам уйдут. Пусть командиры рот не спят, сами их караулят. Пусть по траншее ночью циркулируют.
Я прошу этот вопрос решить у командира полка. Или я отвечаю за траншею и получаю от командира полка официальный приказ и участок на оборону, или я завтра снимаю с дозоров разведчиков.
Через месяц от нас потребуют взять языка, а во взводе у нас вместо разведчиков сторожа деревенские с колотушками. Потом меня мордой по столу будут возить, что контрольного пленного не взяли.
На днях прихожу в разведку. Смотрю, солдат на поваленной березе сидит. Подобрал под себя ноги, чтобы я не видел и смотрит на меня. Подошва у него телефонным проводом подвязана. А в полковых тылах портными и сапожниками хоть пруд пруди.
– У меня, товарищ майор всё. Прошу доложить командиру полка и по этому вопросу.
– Рассказал ты все по делу! Я тебя внимательно слушал.
– В полку с людьми плохо. Оружия и солдат не хватает. Фронт полка растянут. Если ты завтра заберешь своих ребят, то мы оголим оборону.
– Для перестройки нужно время! Сделаем так, – каждую последующую ночь ты будешь посылать в ночные дозоры на двоих солдат меньше. Последнюю пару снимешь, как договорились, через неделю.
– Комбаты за это время перестроят свои боевые порядки. Если ты согласен, я иду к командиру полка и получаю от него на это добро. Завтра по полку пошлем распоряжение и полковую разведку постепенно выведем.
– Видишь, я не только понял тебя, я целиком с тобой согласен!
– Ну что, ты согласен?
– Прошу на счет обуви и обмундирования дать указание зам. по тылу.
Майор ушел с докладом к командиру полка. А я вышел наружу, позвал своего солдата и мы, отправились обратно в овраг.
Прошло две недели. Разведчиков с постов и с ночной охраны сняли. Старшина ребятам организовал баню и переодел их в чистое белье.
Для наблюдения за противником на переднем крае установили стереотрубу. Разведчиков разбили на боевые группы. И теперь каждая группа получила свой участок для ночного поиска и прощупывания немецкой обороны.
Первое с чем я столкнулся и что меня озадачило. Это то, что разведчики не умели читать и работать с картой. Возвращается из ночного поиска солдат, я ему говорю:
– Покажи мне по карте место, где ты находился ночью, и какой объект ты под проволокой наблюдал?
Он не может ничего ответить. Ориентирование на местности, хождение по карте и азимуту для разведчика первое дело.
Пришлось организовать занятия. Премудрости военной науки медленно, но верно усваивались солдатами.
Разведчиков во время войны специально не готовили. В полковую разведку набирали добровольцев из стрелковых рот. Чаще в разведку шли молодые ребята. Свежего человека сразу в дело пускать было нельзя.
Это ни романтика и не игра в казаки-разбойники. Это опасная и изнурительная работа. В разведку набрали добровольцев. От солдат не скрывали, что их ждет тяжелая и опасная жизнь.
Рязанцев лично и каждого проверял на дух, на слух и на зрение. Дух, это неотвратное желание стать разведчиком, невзирая на все трудности этой профессии. Слух! У разведчика должен быть почти музыкальный слух. Он должен различать ни бемоли и диезы, а шорохи ветра, шуршание травы под ногами идущего, приглушенный разговор часовых в окопе.
Рязанцев ставил солдата к себе спиной и отойдя от него метров на десять произносил шепотом разные матерные слова и цифры. Ну и самое главное в проверке было зрение.
Рязанцев выходил с солдатом ночью на местность и тыча пальцем в пространство спрашивал:
– Это что?
– Где што? – переспрашивал солдат.
Я предложил Рязанцеву другой метод. У морячков это называется семафор. Когда один передает другому текст отмашкой руками. Поставишь солдата от себя подальше, и пусть он повторяет твои движения руками.
, как договорились, по порядку поднимает и опускает руки. А испытуемый должен всё повторить. Это первый момент. Второе! При утомлении зрения у некоторых солдат проявляются симптомы куриной слепоты. Недостаток витаминов и постоянное мучное питание вызывают эту болезнь, но не у всех. У некоторых солдат она появляется временами. Потом сама собой проходит. Главное для нас не болезнь. Главное отказ идти на задачу. Сам факт отказа психологически действует на других. Вызывает сомнение и подрывает веру.
Солдат не виноват, что у него бывает куриная слепота.
После проверки, новичка определяли в разведгруппу, и он постепенно входил в жизнь и дела полковой разведки. Каждый солдат в полковой разведке служил на добровольных началах. В стрелковые роты мало кто возвращался. Хотя каждый знал, что он имеет право в любой момент покинуть разведку и податься в стрелки.
У разведчиков были свои законы и обычаи. Правила игры со смертью ни кем не были написаны или установлены. Они рождались и появлялись в процессе боевой работы. В солдатском котелке появлялись разные мысли и идеи. Они проверялись в деле и постепенно входили как законы в жизнь. Пошли в ночной поиск, напоролись на засаду, попали под огонь, понесли потери, хлебнули горлом крови, теперь стало ясно, как нужно действовать.
Пророк Моисей для евреев писал Талмуд и кодекс законов иудейской веры. Мы с Рязанцевым не были провидцами. Все наши законы и обычаи были написаны солдатской кровью и смертью.
Обычаи у разведчиков были пострашней, чем законы военного времени. Идет солдат под немецкую проволоку не просто послушать и полежать. Он должен каждый раз принести ценные сведения. Он должен определить, где лучше брать языка. Он должен выследить свою жертву и проверить все до последней мелочи.
По его данным в немецкую траншею пойдет захват группа. Когда будут брать немца за воротник, нужно чтобы он не успел ни моргнуть, ни пикнуть. На все это нужна сообразительность, твердость духа, бесстрашие и редкое мужество, умение и тонкое понимание, и знание окружающей обстановки. Когда захват группа пошла на траншею, она должна умереть или взять языка.
Принимая в свою семью новобранца, мы излагали ему все без прикрас.
– Работа наша ночная! Мы брат на войне полуночники!
– Ты должен быть чутким, внимательным, решительным и осторожным. Ночью нужно уметь видеть и слышать, улавливать тени, шорохи и неясные звуки, собачьим чутьем выхватывать из темноты ночи живую цель.
Мы ночью ходим бесшумно, как приведения. Пройдет неделя, другая иногда светлого дня не увидишь. Так и будешь жить как летучая мышь в темноте. С вечера уходить, а к утру в темноте возвращаться. Разведчики и умирают ночью. Днем они спят.
Есть еще один важный момент. Разведчик всегда и везде должен иметь свое оружие в идеальном состоянии. Ни я, ни командир взвода твое оружие проверять не будет. За своим оружием каждый следит сам. Оружие это последний шанс остаться живым. Всякое может случиться. Разведчик в любую минуту должен быть начеку. Знаешь, что такое чека?
В отличие от солдат стрелковой роты, которые таскают ружья за спиной, у разведчика всегда в руках должен быть автомат. Патроны пистолетные. Пули летят не далеко. Убойную силу имеют небольшую. Автомат во время стрельбы сильно бросает. Масса затвора, который во время стрельбы прыгает, не позволяет вести точный прицельный огонь. Рассеянность большая. Шуму и треску много, а толку мало!
Автомат хорош для ближнего боя. С прицелом и мушкой возиться некогда. Огонь из него ведут с рук, с бедра или живота. Увидел цель, – стреляй в упор! По дальней цели огонь не веди! Напрасное дело! Стрельба короткими очередями дает не плохие результаты. Все это вы должны знать, чтобы потом ребят понимать с полуслова.
И еще замечание. Ночью в полумраке окопа неподвижная фигура немца плохо заметна. Немец может притаиться, а потом драпануть из-под носа. Видеть ночью, это особая наука. Опытный разведчик может подойти к немцу на двадцать метров и тот его не заметит. Потом я вам покажу это на примере и растолкую, почему это так.
И еще нужно сказать о разведчике. Карманы у него набиты бинтами и в каждом кармане лежит по гранате. Если увидишь, у кого из ребят на поясе в ножнах болтается нож трофейного происхождения, то знай, что в ночном поиске ножи в ход не пускают. Нож нужен разведчику, чтобы открыть бутылку шнапса или вскрыть банку консервы.
За год войны в разведке мне ни разу не пришлось увидеть нож, испачканный немецкой кровью. Нам нужна не зарезанная ножом жирная немецкая свинья, а живой и невредимый немец. Для нас язык огромная ценность. Он для нас как самый дорогой гость!
Притащили его к себе в блиндаж, мы его обласкаем, нальем два раза по сто, накормим, закурить дадим, свернем козью ножку. С пленным немцем у нас исключительно обходительное обращение. Мы к нему всей душой. Потому, что он стоит многих жизней наших ребят. А тут все обошлось без потерь и без лишнего шума.
Немца в окопе берут на внезапность, на страх, на испуг. От одного нашего появления у него парализует ноги и руки. Он может только заорать с перепуга. Мы ему культурно прикроем ладонью рот. Но это, чтобы до него дошло, что орать бесполезно.
Но чаще бывает так, что нас на подходе обнаруживают немцы. Первый попавшийся бросается наутек и поднимает крик как недорезанный. На переднем крае у немцев моментально поднимается боевая тревога. Пулеметы и минометы начинают реветь. Нейтральную полосу режут разрывы снарядов. Попасть в такой переплет не веселое дело. Подавить, этот бешеный огонь наши не могут. У наших нет орудий и боеприпасов. Стрелять ночью из орудий боятся. По вспышкам орудий их тут же засекут и подавят.
Инструментальная разведка у немцев была на высоте. Связь работала четко. У нас с передовой в тыл тянется один телефонный провод. У них по пять, по шесть проводов. У нас, чтобы с артиллерией соединиться, нужно звонить через батальон, а потом попадешь в штаб полка. У них непосредственная связь с огневыми позициями артиллерии. И все это дублируется проводами связи.
Полковая разведка не может рассчитывать на огневую поддержку своей артиллерии. Опровергнуть этого никто не может. Я могу сказать это в глаза Левину Славке, зам. командира полка по артиллерии.
Когда и где артиллеристы поддерживали огнем полковую разведку? Так что, одно неосторожное движение, пустяковая оплошность или нелепая случайность, часто приводили к гибели людей.
А еcли немец зазевался и ты ввалился к нему в окоп, то он от одного твоего вида цепенеет от страха и от ужаса. Он сам бросает оружие на землю и с восторгом, перекосив свое лицо, поднимает лапы и бормочет – Гитлер капут! И дело, как видно, до ножа не доходит. Кивнул ему в сторону головой. Мол, давай не шуми и вылазь наверх и он стервец все понимает без слов. Бежит по нейтральной полосе в охотку, назад на своих не оглядывается. Каждому жизнь дорога!
А если немец стоит на посту и случайно, обернувшись, увидит, что ты идешь на него с обнаженным ножом, то можешь быть спокоен, он без всякого крика всадит тебе пулю в упор.
Ну, ткнешь ты его ножом! А дальше что? Проткнутый ножом он ни кому не нужен! Логика простая. С ножами разведчики бегают только в кино.
Подойди к немцу незаметно и тихо, бодни его автоматом в бок, приложи палец к губам и он поймет сразу, с кем дело имеет. Поддень его мушкой легонько под зад, и он как натренированный выпрыгивает из траншеи. Вот это классический пример как надо брать без шума немецкого часового.
Без хорошего, острого ножа разведчику тоже не обойтись в боевой обстановке. Нужно обрезать немецкую телефонную связь, разрезать сапог при ранении в ногу, срезать аккуратно дерн и поставить мину.
Прибежит немецкий связист, ткнется к оборванному проводу, а конец провода к взрывателю подвязан. Подумают, что подорвался на собственной мине.
Последний снег сошел в апреле. Цвет земли менялся с бурого на зеленый. В апреле мы получили партию маскхалатов, сшитых из тонкой материи. Штаны с резинкой по типу пижамных пятнистые и рубахи с капюшоном с разводами, с зеленоватой марлевой накидкой на лицо.
В апреле было еще довольно холодно. Разведчики в нейтральной полосе лежали подолгу. Под маскхалаты надевали стеганые телогрейки. Зимние шапки были тоже в ходу. Только наш старшина Волошин ходил в картузе и не снимал его. Он, как и повозочный каски не носил.
Кстати о касках. В разведке не принято было носить ниши железные каски. Если не считать случаи, когда ребята надевали немецкие каски. В немецкой каске ночью не разберешь, кто идет по немецкой обороне, свой или чужой. Форма у немецких касок была особая. На нашу не похожая. Напялишь ее на шапку и можно вплотную подойти к фрицу, в немецкой траншее. А дальше она не нужна. Ее можно сбросить. И для своих она опасна, когда возвращаешься назад.
У нас на фронте носили каски солдаты стрелки, артиллеристы, телефонисты, саперы, снабженцы, портные и парикмахеры, и прочие военные специалисты полкового тыла. Артиллеристы ни только в них спали и ели, они нехристи, ходили в кусты не снимая их.
Противогазы и каски носили все, кроме разведчиков. Солдат любого подразделения не мог без противогаза показаться на поверхности земли. Если в тылах полка попадался солдат без каски и противогаза, то все сразу знали, что им навстречу идет полковой разведчик.
Всех солдат в полку стригли наголо. Только разведчики и денщики большого начальства не подлежали оболваниванию.
Разведчики гордились этим. Из-под каски прическу не видать. Железная каска мешала разведчику и по делу. Из-под нее не только прически не видно, но она на голове сидела как хомут на шее у кобылы.
Какие там ночные шорохи! Надень каску, и она со звоном гудит на голове. Ветер звучит в ней унылой мелодией. Стальная каска звенит от удара сучка. В ней ты как под колпаком. Она даже думать мешает.
И еще хочу заметить. За год войны из взвода разведки мы потеряли многих. Но ни один из ребят не был ранен или убит в голову.
Я сам был ранен пять раз. Имел контузии и ранения в лицо, шею, живот и в ноги. Осколки до сих пор сидят кое-где под кожей. Но ни разу меня не ударило выше бровей. Каску, я всю войну не носил. У каждого своя судьба, не угадаешь, что и где может случиться.
У разведчиков отрывало ноги и руки, выворачивало челюсть, пули пролетали грудь навылет, но прическу они никогда не портили. Может это специфика нашей работы? Пули чаще всего били только по ногам. У меня тоже большое количество ран на ногах.
Если перечислить все правила принятые в полковой разведке, то им не будет конца. Каждый день появлялось что-то новое, каждую ночь приносили что-то, над чем нужно было посидеть и подумать. Каждый раз вырисовывалась необычная ситуация и проблемы.
Да и немцы стали попадаться разные. После тотальной мобилизации, проведенной в Германии, в окопах у немцев появились старики и юнцы. Нам вроде дышать и проворачивать свои делишки стало легче. Но мы часто нарывались на кадровые дивизии, которые прибывали на восточный фронт из Европы.
28.10.77 г.
Прошло некоторое время. Мы получили распоряжение из дивизии захватить контрольного пленного. Все было продумано и учтено. Боевые группы каждую ночь выходили под проволоку и занимали исходное положение. Разведчики должны были привыкнуть к мысли, что им предстоит идти на насыпь и брать языка.
Когда человек первый раз подходит близко к окопам противника, у него всякий раз появляются сомнения и естественный страх. Волнение проходит с каждым новым выходом. Переживания мешают. Их надо преодолеть.
Кажется всё просто. Подошел незаметно. Лег где-нибудь в лощинке. Лежи, наблюдай, слушай и смотри. А сомнения грызут тебя.
Сейчас в нейтральную зону уходят одновременно три группы. Они действуют соответственно вместе. Каждая группа занимает своё исходное положение. Они изучают объект до утра. Они знают, что в один из таких выходов им предстоит подняться и пойти на насыпь.
Окоп, где сидят немцы на насыпи, небольшой. В нем находятся двое немцев. Можно бы пойти нахрапом. Какой смысл долго настраиваться? У каждого из разведчиков может быть чувство боязни, страх и предсмертная мука. Нарвешься на пулемет и жизни конец. Может, у немцев нет пулемёта – напрасны все сомнения! А может и есть, из которого они ни разу не стреляли? Но такого не бывает, чтобы немцы не попробовали свой пулемёт. Это у наших славян он может покрыться ржавчиной. К нему никто не подойдет. Так как стрелять нет ни какой охоты (можешь в ответ получить). А немцы народ дисциплины. На то и пулемёт, чтобы стрелять. А раз нет пулемётной стрельбы – нет и пулемёта!
У меня лично бывали тоже разные сомнения, когда приходилось идти и подолгу лежать под проволокой, под носом у немцев. В какую-то ночь я мог встать и спокойно дойти до самой этой насыпи, чтобы самому во всем убедиться. Посмотреть, послушать как там, что там?
А в другой раз меня брала за душу тоска, появлялся страх, терзали сомнения. Хотя особых причин для этого не было. Единственно, что нас угнетало, это массированные обстрелы немецкой артиллерии и упорное молчание наших пушек.
Мы еще не раз вернёмся к вопросу о страхе. Важно всесторонне выяснить кто, где и когда боится и когда ему на всё бывает наплевать!
В этот раз мы следили за немцами долго и упорно. Я звонил в разведотдел дивизии. Мне сказали, что торопиться не следует.
Каждую ночь мы выходили вперед в полной готовности, и каждый раз по каким-то причинам откладывали захват языка. Ждали, как говорят, подходящего момента. Ждали темной ночи, небольшого ветра, слабого тумана или моросящего дождя.
Откладывать захват языка легко. Но это тоже не очень хорошее дело. Люди к этому привыкают, и потом их в оглобли не введешь.
Сделать последний свой шаг в жизни ни каждый может. В отчаянии человек может пойти на это. А в разведке другое дело. В разведке нужно остаться живым и взять языка. В разведке это нужно делать со знанием дела.
В какой раз ты должен сделать этот первый шаг. Переступить черту в небытие и в неизвестность, и надеяться, что ты ее перешагнёшь назад. Но сколько раз это можно мучительно ждать и сколько раз, отпихивая ладонью смерть, делать?
Я могу ребятам отдать приказ сегодня провести операцию. Люди пойдут. А если при этом получиться срыв, мои приказы потом не будут иметь ни какого смысла, не будут ничего стоить!
Я отдаю приказ на захват языка, когда я сам мысленно решусь пойти вместе с ними в самое пекло. Вот когда разведчик будет решительным и непреклонным.
Штабу дивизии отдавать приказы легко. Вот приказ! Вот дата! Язык к указанному сроку должен быть взят! Начальник разведки дивизии хочет блеснуть перед комдивом.
– Пойди! Попробуй, возьми! А я посмотрю! – так думаю я, когда на меня сверху начинают давить.
Не судьба была немцу с насыпи попасть в наши руки. Вечером перед выходом на задание меня вызвали в штаб полка по срочному делу.
– Дивизия, – сказал командир полка.
– Получила приказ сдать свою оборону. Наши позиции займет другая дивизия. Разведку снимай и отправляй ее в тыл! И чтобы без шуму! При смене частей должна быть абсолютная тишина!
Здесь на опушке леса наш район сосредоточения! И командир полка показал мне по карте лесную дорогу и опушку леса.
– Сюда будут прибывать стрелковые роты! Вот здесь будет расположен штаб и наши тылы! Сюда выведешь своих людей и здесь, будешь ждать моих указаний!
Разведчики покинули траншею. Собрали в овраге имущество и тронулись в лес. Смена стрелковых рот затянулась на сутки.
* * *

– курсивом выделен зачеркнутый текст
Глава 23 Дивизию отводят в тыл
24.09.1983 (правка)
Май 1943

Неподвижное серое небо нависло над лесом. Повсюду на земле между стволов деревьев лежат солдаты. Посмотришь на них, на их согнутые спины, торчащие ноги и руки, они как мертвые валяются на земле.
Здесь в общей куче тел – приклады винтовок, каски, противогазы, запрокинутые головы и грязные сапоги, упертые в лицо другому. Среди хаоса спящих слышен раскатистый храп. А этот, в каске, в обмотках и ботинках, лежит и мурлыкает. Увидел во сне дом родимый, и от удовольствия до ушей улыбается.

Многие спят, согнувшись на земле, некоторые сидя склонили голову на колени. А этот лежит на боку разинув рот и мух ловит. А для мух ещё рановато, они не вывелись.
Солдаты пришли, легли и забылись в глубоком сне. Мы ждем приказа на выход. На дороге небольшой группой стоят солдаты, как тени беззвучные. Это дежурная часть, застава. Ей поручено встречать роты и направлять в лес. Не поставь на дороге заслон, уйдут куда, потом собирай их по соседним деревням. Им бы только картошки где накопать.
Сюда, в лес собираются с передовой все солдаты нашего полка. Быстро надвигается ночь. На дороге снова заметное движение. Это топает рота с передовой.
Интересно взглянуть. Сколько осталось в полку боевых солдат окопников? Если не считать обозных, артиллеристов и прочих и прочих всяких "вояк", из второго эшелона, жалкие сотни две, больше не наборется.
Среди ночи подаётся команда – "Подъём!". Разведчики встают, выходят на дорогу и ждут когда построят пехоту. Разведчиков не надо толкать и будить, тащить за рукав и материться. Никому в голову не придет поднимать их за воротник и проверять по списку. Им подали команду, они встали и пошли.
Вот и сейчас они стоят на дороге и ждут, пока из леса выведут стрелковые роты. В полковой разведке осталось десяток солдат, а по боевой мощи они ничуть не меньше любого батальона.
Мы стоим, переминаемся с ноги на ногу и ждем, пока построят стрелковые роты. Некоторые из солдат дымят из рукава. В открытую курить нельзя, начальство увидит, сразу облает. Горящий окурок виден издалека. Мы получили приказ на один переход. Полковое начальство, безусловно, знает конечный маршрут. Но нам не говорит. Не положено знать. Военная тайна!
Пока собирают пехоту и строят на дороге, я осматриваюсь кругом. Впереди под ногами липкая глина. А дальше ничего не видно. Впереди ночная темнота.
Откуда-то со стороны потянуло запахом болотной сырости. Кто-то из солдат стрелков в строю решил закурить. В темноте чиркнула спичка, на солдата тут же закричали. Огонь мелькнул и погас. Голоса и ругань утихли. Солдаты стоят и бренчат пустыми банками и котелками, которые у них переваливаются в заплечных мешках.
Но вот войско построено. Солдат пересчитали. Вроде все стоят в строю на дороге. Подается команда, и мы трогаемся с места. Две неполных роты стрелков топают вслед за нами.
Лесная дорога выходит на опушку. Впереди проглядывает бесконечное открытое темное поле. Над головой у нас ночное хмурое небо, а справа и слева мглистые очертания редких кустов. Они уходят назад вместе с дорогой.
Мы идем молча. Я вглядываюсь в темноту. Откуда-то потянуло дымком и запахом прелой соломы. Впереди через некоторое время показалась деревня. Подходим ближе. Дорога поворачивает влево. Неясные очертания приземистых изб уплывают в сторону.
Под ногами захлюпала вода. Дорога идет по самому краю болота. Шагаешь вперед, а ноги едут назад, сползают по размокшей глине. Но вот под ногами опять сухая и твердая земля.
Над головой мелькают голые ветви деревьев. Мерцающий свет неба постепенно исчезает в узком пространстве леса. Кругом опять темнота. Рядом шагают солдаты. Слышна их нестройная поступь шагов. Покачиваются силуэты. А дальне, ничего не видно.
Взвод разведки идет почти неслышно. У разведчиков свои привычки и правила. Где бы он ни шел, он должен передвигаться бесшумно, как тень. Это приобретается не сразу, вырабатывается постепенно.
Когда солдат стрелкового батальона строили на дороге, их поставили в колонну по четыре. Но как только они шагнули вперёд, колона распалась и солдаты растянулись по дороге.
Никто на марше и в походе никогда не держит строй. Беспорядка нет, солдаты идут, как попало. Где по одному, где по два, а где табуном. Никто ни кого не погоняет и не торопит. Идут и идут! Все вроде на месте, хоть и идут не в ногу, вразброд.
Я иду рядом с Рязанцевым. Сзади шагают разведчики. Сержант Санько, высокого роста белорус, идет рядом, вместе с ребятами.
Он только что вернулся из госпиталя после ранения. Разведчиков, обычно, после выздоровления направляют в свою часть. Он командир группы захвата. Сейчас у него в подчинении разведчиков нет. Он идет рядом со своими дружками.
Во взводе разведки своя расстановка и субординация. Кто? Сколько служил? Чем занимался? Лично брал языка. Все это учитывается. Старший сержант Серафим Сенько разведчик опытный.
А вон тот молодой и эти двое, хоть в разведке и новички, но по своим делам состоят на особом счету. В полковой разведке у каждого свое место. Будь ты на марше, в строю, или лежа на боку в землянке, впереди и на лучших местах самые опытные и отчаянные в делах разведчики.
В разведке у каждого своё место и дело. Одни в захват группах и больше других рискуют своей жизнью. Другие готовят объекты, ведут наблюдение, собирают о немцах данные, подолгу лежат в нейтральной полосе. Кто-то из ребят ходит в группы прикрытия, когда группа захвата выходит вперед изучать свой объект или брать языка. У группы захвата в нейтральной полосе своя личная охрана. Ее охраняют и прикрывают всегда и везде. Она стоит такого внимания.
Вон та троица, что идет рядом, со мной. Она готовилась на насыпи брать языка. Она идет впереди. А те шестеро, что идут следом за ней, это ребята из группы прикрытия. Когда разведчики встают в строй, их по росту, кого вперед, кого назад, не устанавливают. Они занимают сами свои места. Это не важно, кто в разведке служит давно. Важно кто, где воюет.
Здесь показатель один. Кто бросается в немецкую траншею и идей на смерть, брать языка, а кто, так сказать, прикрывает его действия из-под проволоки. Только нормы кормежки в счет не идут. А все остальное соблюдается по степени риска, по не писаным законам справедливости. Иначе нельзя!
На марше я иду со своими ребятами. Хотя, мог бы конечно поехать верхом рядом с начальником штаба. Но я был плохой службист. На глазах у начальства не любил торчать.
Дорога не везде одинакова. Она где ровная, где жижа избитая. Где-то там впереди идет полковой обоз. Пока мы идем по следу телег, но потом разойдемся. Обозы повернут и пойдут в объезд по улучшенной дороге, а мы и пехота свернем и спрямим свой путь по другой дороге.
Темные кусты и канавы медленно уползают назад. Позади, в который раз остаются покосившиеся и кисло пахнущие деревенским избы. Темные силуэты их теснятся друг к другу.
Ночная темнота скрадывает расстояние и сжимает пространство. Иногда кажется, что мы никуда не двигаемся и топчемся на месте. Мы как бы стоим и месим глину ногами, а деревенские избы из темноты наплывают на нас и проплывают мимо.
Но вот по лицу хлестнула первая ветка, за ней другая. Над головой нависли лохматые лапы елей. Открытое пространство кончилось. Неизвестная деревня исчезла, за поворотом дороги. Она исчезла во мраке и сгинула для нас навсегда.
Ночная тьма разлилась над землей. Впереди ни дороги, ни просвета не видно. Но вот мы снова выходим из леса. По запаху и духу можно подумать, что впереди деревня и что здесь живут люди.
И снова поле и небольшая деревня. Подходим ближе, нигде ни огня, ни лая собак. У крыльца стоит груженая повозка. В её упряжке пара лошадей. Зад у повозки отвис. Разбито заднее колесо. Около неё стоит солдат с винтовкой за спиной.
Возможно он из нашего полкового обоза. Но нас это нисколько не волнует. Мы не спрашиваем его, что случилось. Мы двигаем дальше.
Где-то в середине деревни нас догоняет верховой солдат. Это связной начальника штаба. Он просит нас остановиться. Отстала пехота.
Мы стоим и смотрим по сторонам, прислушиваемся к звукам ветра. Он шуршит в соломенных крышах, стучит раскрытой настежь оконной рамой, скрипит калиткой в палисаднике огорода.
Вот и первые тяжелые капли дождя. Они ударили по спине, брызнули в лицо, застучали по крыше. Разведчики достали накидки, натянули их на себя, подняли над головой капюшоны. Слышно как приближается нарастающий шум сплошной стены дождя.
Вот рванул ветер, подхватил полы шинелей, накидок и все кругом пришло в движение. Шум торопливого дождя навалился на землю. Мы стоим на дороге. Кругом ночная тьма. Мы слушаем хриплый голос дождя и слышим его нарастающий стук. Дождь усиливается. Солдаты пригибают спины.
Идти по дороге под проливным дождём не очень то приятно. Но никто не разрешит солдатам сойти с дороги на марше, зайти в пустую избу, развалиться на грязном полу и укрыться под крышей на время от дождя.
А пока ты должен стоять, как корова, высунув язык и собирая прохладные струи воды, которые бегут у тебя по лицу. Они на вкус вроде талого снега. Не то, что вода из колодца или ручья. Дождевой водой не напьешься!
Мы стоим под дождем и ждем пока подойдёт наша пехота. Я подхожу к крыльцу, отстегиваю карманный фонарик. Мне его подарил старшина Волошин. В луче яркого света замелькали быстрые струи и потоки дождя. На меня никто не кричит и не цыкает. Хотя я без особой надобности свечу в темноте.
Разведчики наверно думают, что я включил свет, чтобы зайти в избу и узнать, нельзя ли там переждать пока хлещет дождь. А так, от скуки светить фонариком, вроде и не к чему. Я хочу взглянуть, как мелькают потоки дождя в луче света. Как далеко луч фонаря пробивает через стену потока. Мало ли когда придется светить во время дождя под носом у немцев.
Мне это можно, а солдатам нельзя. Если солдат решит посветить своим фонариком, а полковое начальство увидит у солдата фонарь, то отберёт обязательно. Комбат из рук своего солдата выхватит фонарь и облает для порядка. Штабные полка, фонарь заберут культурно. Мораль прочитают ласково, без лишних ругательных слов.
Рядовому солдату не положено иметь электрический свет, тем более – трофейный. Может, ты хочешь перемигиваться с противником? Фонарь перейдет в другие руки в виде конфискации в фонд обороны.
Солдату вообще ничего лишнего не положено. У солдата есть винтовка, лопата, противогаз, горсть патрон россыпью, пара гранат. Хватит – и так тяжеловато!
Солдат молчит даже тогда, когда у него из котла уходит налево консервы и сало. У разведчиков не возьмешь.
А солдат стрелок на войне не должен сильно наедаться. Ранит в живот – сразу заражение крови! Впроголодь безопасней! А что жидкое варево, то это подвоза нет. Мало ли, что с подвозом может случиться! Солдат должен воевать не жалея живота.
А кому достанутся награды за эту деревню или высоту – для общего дела, значения не имеет! Он должен добывать славу дивизии!
А, как быть с ранеными и убитыми? Раненых заберут. А с этими! Пусть полежат! Какая разница? Мертвые все равно ничего не чувствуют! Зарыты они или поверх земли остались лежать. Русский солдат и без могилы обойдется! Сколько же их осталось лежать в канавах у дорог? Упал на ходу, оттащили его в сторону, чтобы лошадям и живым не мешал.
Так отбрасывают в сторону изношенную вонючую портянку, дырявую каску, пробитый навылет пулей котелок. Русский солдат, это русское чудо, это феномен природы.
Упавшее дерево на дорогу, вдавят ногами в грязь, раздавят колесами в щепу. Представьте, упал на дороге солдат, по нему в темноте прошлись ногами, помяли ребра, а он оказался жив. Он оплошал, не успел податься в сторону, у него перехватило дыхание.
Что это за солдат, у которого не хватило сил отойти с дороги и свалиться в канаву? Он не может крикнуть, не пошевелить рукой. Стойте! Что вы делайте? Он еще живой! Как живой? Разве ты не видишь?
Солдат кроме винтовки и горсти патрон ничего не имел. Как не имел? А окопная вонь? А вши? А кровавые раны? Разве этого мало? Добавить ещё? А, что ты можешь добавить? Землю пухом! Что же ещё? А распаханные, после войны, по весне белые кости! Может теперь хватит?
Не будем омрачать светлую память наших павших солдат. Поговорим об убитых потом. Впереди их будет много. Ох, как много!
Я стою у крыльца и смотрю, как в свете белого луча к земле стремительно несутся потоки дождя. Я нажимаю на кнопку и рычажком выдвигаю красное стекло. При свете красного – сверху льют потоки крови. Вот так кровавой стеной лилась на войне солдатская кровь.
Я меняю стекла. Убираю, красный и выдвигаю зеленый. Смотрю на солдат. Лица их меняют цвет с кроваво-красного на землисто-серый, на цвет обескровленных трупов. Выходит можно заранее при помощи фонаря увидеть, как будут выглядеть они в мертвом виде.
Я снова включаю белый свет и иду во внутрь избы. Мирных жителей в избе нет, а кислый запах и гнилой дух ударяет в нос при вхоже.
Мы могли бы зайти в дом и переждать дождь, но мы идем в общей колонне. Солдаты стрелковых рот тут же разбредутся. Их потом не соберешь до утра. Вот, если бы я ехал вместе с начальником штаба и мы зашли бы под крышу, это для солдат не пример. Они субординацию понимают.
На войне не надо укрывать солдат от дождя. Это не свинцовые пули падают с неба. Это вам Россия матушка, а не какая-то там немецкая цивилизация. Немцы не будут мочить своих солдат под проливным дождем. Они здоровье солдат берегут. А нашему русскому солдату от дождя абсолютно ничего не будет. Даже наоборот, небесной водой маленько обмоет. Приучить солдата к сухости и сытости, значит заранее проиграть войну.
Что же выходит? В паршивый дождь солдата нужно под крышей держать? На войне другой закон. Чем мокрей и злей погода, тем приятней будет солдату дойти до привала и привалиться на мокрую землю. Короче говоря, дождь и мокрота в штанах у солдата, это не кровавая рана в бедре. Дождь как дождь! Наше дело телячье. Обмочился и стой!
Привал по приказу назначен где-то в лесу. Выходит фонариком в сторону избы я свечу напрасно. Конечно зря. Только немецкое электричество порчу.
Но вот на дороге появляется снова конный связной. Говорит, что пехота на подходе. Приказано трогаться.
Было еще темно, когда мы свернули с дороги и лениво потопали в лес. Торопиться было некуда. Дождь не переставая хлестал по накидкам. Разведчики нарубили лапника и повалились спать. Дождь лил до самого утра, надоедливый и нудный.
Утром хлопнула крышка термоса. Приехал старшина. Все подняли головы. Облака стремительно бежали над лесом.
– При сильном ветре дождя больше не будет! – объявил старшина.
– Хватит валяться! Вставайте жратву получать!
Я посмотрел на компас. Наш путь лежал строго на север. Погода через пару часов явно настроилась. На короткий миг даже проклюнуло солнце. После кормежки опять построение.
– Железная дорога в двухстах мерах от привала! – объявили нам.
– Будем грузиться на открытые платформы!
Полковые обозы уже на месте погрузки. Стрелковые батальоны будут грузить обоз. Нас, разведчиков от погрузки освободили.
Выемка в земле, по которому проходило полотно железной дороги, была не глубокая. По краю полотна вбиты бревна, на них лежали настилы. По настилам закатывают на платформы телеги и заводят под уздцы лошадей.
Состав небольшой. Около десятка платформ и впереди паровоз. Погрузку закончили быстро. Солдаты забрались на платформы. Кто сидел на телегах, кто, свесив ноги, сидел на полу платформ. Начальник штаба полка бегал вдоль состава, что-то кричал офицерам, о чем-то спрашивал. Но вот паровоз дал короткий гудок, дернул состав, сцепные серьги звякнули, платформы заскрипели, и колеса застучали на стыках. Паровоз стал медленно набирать скорость.
– Куда нас везут? – спросил кто-то.
– Наверно в Земцы – ответил другой.
– А что? Это ветка Жарковский-Земцы?
– А ты как думал?
Интересно ехать на открытой платформе. Справа и слева мелькают кусты. Мимо бегут деревья. Над головой открытое небо. Впереди, пуская пары, пыхтит паровоз. Платформы качаются и рыскают. Паровоз дымит и отдувается, бежит по насыпи в одну колею.
Но вот кусты и опушка леса обрываются. Справа и слева от насыпи сплошное болото. Насыпь постепенно становиться выше. Состав выходит на крутой поворот. Теперь мы несемся над простором разлива. Гладкую поверхность воды с высоты платформы не видно. Отраженное небо бежит под ногами. Но вот проплывают мимо, стоящие в бурой воде, засохшая осока, полуживые кусты и тонкие прямые белые березы.
Мы стоим на платформе. Стук колес заглушает солдатские голоса. Солдаты о чем-то разговаривают между собой.
Дальние кусты и березы бегут вместе с нами. Некоторые из них даже перегоняют нас. А ближние несутся с повышенной скоростью. Платформы кивают то вправо, то влево. Высокая насыпь летит под колеса. Мы стоим на платформах и легко скользим над водой.
Снова крутой поворот. Паровоз повернулся к нам боком. Платформы выгнулись дугой. Они кружатся на месте как огромная карусель. Все что справа в центре, поворачивается вокруг себя. А с другой стороны болотная вода и кусты бегут назад с утроенной скоростью.
Из крытого вагона, когда смотришь в окно с одной стороны этой разницы в скоростях не увидишь.
Паровоз дал гудок и слегка притормозил. Платформы, набегая друг на друга, залязгали тормозными тарелками. Мы схватились за борта повозок. Повозки стоят на расчалках. Им торможение нипочем.
Паровоз снова дернул и перезвон прокатился вдоль состава. Неожиданно слева по ходу поезда показались немецкие самолеты. Паровоз заголосил частыми гудками. Самолеты прошли параллельным курсом.
– Что это они? Бомбить не хотят?
– У них бомб нету!
Но вот один из немцев заложил вираж и с ревом отвернул в сторону, Он развернулся и пошел вдоль насыпи.
– Вот тебе и нету!
От фюзеляжа оторвались темные точки и веером понеслись к земле.
Платформы на повороте шли по дуге вправо, а бомбы с визгом кинулись сверху слева. Над болотом вскипела вода, кверху вскинулись огромные фонтаны бурой жижи. Когда столбы воды рухнули, в воздухе еще парили куски корней и обломки деревьев. Оглушительные удары последовали один за другим. Мы катились по рельсам не сбавляя хода. Прыгать с платформ было некуда. Кругом была темная вода и трясина.
Самолеты один за другим стали заходить на боевой курс на насыпь. От паровоза беспрерывно неслись визгливые гудки. Он подавал нам свой голос, что жив, что пыхтит и тащит нас за собой из последней силы. Нам нужно добраться до твердой земли, до суши. На нас, сверху сыпались бомбы. Кругом все ревело, клокотало и кипело.
Эшелон с правого поворота перешел на крутой левый. Теперь бомбы сыпались с правой стороны. Взрывы следовали вперемежку с всплесками воды, с воем, с ревом, с писклявым голосом паровоза. Над насыпью стоял скрежет, грохот и стон. Сверху летели сгустки земли и куски деревьев. Огромные потоки воды низвергались на платформы.
Вот стена огненных разрывов перерезала насыпь у последней платформы, Там, где стояли люди, лошади и повозки рванула ослепительная борозда. Вскинулся дым и с платформы люди полетели с раскинутыми руками. Одна из лошадей поднялась на дыбы и стоя на задних ногах исчезла в облаке дыма. Телега на миг приподнялась и медленно разваливаясь, рассыпалась на куски. Отчаянный вопль раздался с соседней платформы. Задняя платформа вздрогнула, приподнялась и на лету оторвалась от состава. Запрокинулась колесами и полетела в воду. Ни повозок, ни людей на ней уже не было.
Эшелон с обрубленным хвостом, не снижая скорости, продолжал катить по насыпи. Никто из уцелевших не спрыгнул и не бросился на помощь попавшим под взрывы. Кто-то может быть и остался там в живых и теперь корчился от боли, истекая кровью, захлебывался в болотной жиже.
Самолеты отвернули. Эшелон продолжал катить. Обрубленный хвост мотался на рельсах из стороны в сторону. У хвостовой платформы видимо были разбиты колеса. Вот она оторвалась от состава и как-то сама собой стала валиться с насыпи. От эшелона оторвалась теперь уже вторая платформа. На полном ходу, не снижая скорости, она сделала прыжок и пошла под откос. Ударившись о воду, она брызнула болотной жижей и стала погружаться в неё. Какая-то неведомая сила столкнула ее с рельс и бросила в воду. В тот же миг до нас долетели крики людей, которые вместе с ней полетели с насыпи в воду.
– Эти выплывут! – сказал кто-то.
Под ногами мы почувствовали толчок. Состав освободился от тяжелого груза и легко рванулся вперед. Мы проехали еще с километр и тут вдруг заскрипели тормоза. Состав после лязга и визга замер на месте. Путь впереди был взорван.
Мы находились на узком изогнутом участке насыпи. Вокруг нас плескалась вода.
Немецкие самолеты развернулись и пошли на второй заход. Зениток и турельных пулеметов на платформах не было. Отбиваться от самолетов было нечем. Оставалось одно. Стоять на платформах, смотреть и ждать. Путь с двух сторон эшелону был отрезан. Кругом вода и никакого укрытия. Куда бежать? Где прятаться? Над головой гудят стервятники. Сейчас начнется всё снова!
Самолеты не торопясь, наваливаются сверху. Эшелон стоит в две изогнутые линии. У некоторых нервы не выдерживают, они прыгают в воду. Отойти от насыпи нельзя. Кругом большая глубина и трясина.
Барахтаться в воде при бомбежке опасное дело. От мощной ударной волны можно потерять сознание и захлебнуться в жиже. Куда деваться? Некоторые лезут под колеса, ложатся за рельсы. Мы пока стоим, смотрим и решаем, что нам собственно делать. Важно увидеть глазами, куда будут падать бомбы.
С передних платформ уже прыгают в воду. Некоторые приникли к насыпи, а первые всполохи бомб уже громыхают над ними.
Несколько первых самолетов, сбросив бомбы, отворачивают в сторону.
– Ложись на скат насыпи справа! – кричу я своим.
– Самолеты заходят слева!
Взрывы бомб чередой приближаются к насыпи. Взвизги и рев, мощные удары где-то рядом. Самолеты бросают бомбы, включив свои сирены. Пространство вокруг взбеленилось и неистово ревет. По воде идут ударные волны. Насыпь хочет оторваться и взлететь вместе с платформами. В дыму и всплесках огня ничего не видно. Над насыпью едкая пыль, в воздухе запах немецкой взрывчатки. В голове как удары молота, разрывы отдаются острой болью. Я прыгаю с платформы на край насыпи. Мы лежим и бьемся о насыпь, давим ее грудью. В горле пересохло, на зубах песок.
Сверху на меня что-то навалилось. Кажется, что меня живым засыпало землей. Я лежу втиснутый в песок и не могу дышать и крикнуть, что я ещё не умер. Скоро все кончится. Это последние удары и ощущение собственной могилы, сознание скоро померкнет. Каждому из нас достаточно одного близкого удара и тупого всплеска огня. Сопротивляться нет сил. Исчезает надежда и страх. Наступает полное безразличие. Теперь кажется, что на меня сверху наехала колесами платформа. Вот она тяжелая стальная махина проехала по ребрам и завалилась в воду. Нечем дышать.
Мне хочется крикнуть – Постойте! Я еще живой! А из горла вырывается хриплый вздох и непонятное бормотание.
Лежи спокойно! – мысленно говорю я сам себе. Ты уже похоронен! Засыпан землей! Ты уничтожен! Тебе теперь все равно! Другие без могил мертвыми валяются. Тебе еще повезло!
Взрывы и удары подкидывают насыпь. Я пытаюсь подняться на ноги, но не могу. Хочу подтащить к лицу руки, протереть глаза, а рук совсем не чувствую. У меня, их вроде нет.
И вот наступает тишина. Слышны только всплески воды. В ушах появляется небесное пение.
– Какая ерунда! – думаю я. И снова пытаюсь подняться. На мне лежит что-то тяжелое. Один из взрывов был рядом со мной.
Я упираюсь локтями, спихиваю, лежащую на мне тяжесть земли в сторону, земля поддается и с меня вместе с землёй в воду сваливается труп.
Я встаю на колени, ощупываю себя, протираю глаза кулаками, с меня ссыпается слой песка. Поправляю ремень, оглядываюсь по сторонам.
Первая мысль – сколько погибло разведчиков? О солдатах стрелках и обозных, которые были вместе с нами на одной платформе, я не думаю. У них есть свои офицеры, пусть они о них думают и заботятся.
Поднимаюсь на ноги, делаю вверх по насыпи несколько шагов и глазами ищу своих ребят. Рядом поднимается помкомвзвод.
Прямых попаданий в нашу платформу нет. Но где-то, совсем рядом, рвануло несколько довольно мощных взрывов.
Впереди окутанный дымом стоит паровоз. Около него уже бегают и суетятся люди. Откуда-то из под колес вылезает Федор Федрыч. На насыпь с платформы прыгает Серафим Сенько. Двое разведчиков в обнимку остались лежать под телегой.
– Вы чего? – спрашиваю я их. Раненые?
– Нет! Мы просто так!
– Проверь всех ребят! Выясни сколько убитых и сколько раненых! – говорю я помкомвзводу.
– Все кто живы, пусть выходят вперед, к паровозу!
– Полковая разведка выходи! – кричит помкомвзвод.
День клонился к вечеру. Немцы не летают. Собирают полковых саперов ремонтировать пути. Мы проходим мимо. Начальник штаба кричит, обращаясь ко мне:
– Какие потери в разведке?
– В разведке все целы! Две задние платформы оторвало!
Рязанцев строит ребят. Лица у разведчиков не веселые. После бомбежки у всех угрюмый и усталый вид. А чему радоваться?
Мимо идет солдат, он улыбается. У него на лице написано. Смотрите братцы! Меня ранило! Дал бог! Я остался жив!
Мы идем по насыпи, проходим болото, поднимаемся по насыпи и заходим в лес. Здесь мы будем ждать, пока починят путь, подадут состав под погрузку, пока сюда соберутся все солдаты полка. Работают саперы, да санитары подбирают раненых.
Уже в темноте слышим, как, стуча по рельсам, приближается паровоз. Темный контур его освещается горящей топкой снизу. Несколько коротких гудков и он затормозил на опушке леса. Опять погрузка, опять беготня, перезвон сцепных колодок и мы снова покатили по рельсам.
Где и когда мы встали под разгрузку, трудно сказать. Ночь была темная. Снова бегали и кричали. Солдаты еще не разобрались в темноте, а состав тронулся, набрал ход и исчез в темном пространстве.
Остаток ночи мы шли по дороге. Перед рассветом вошли в лес и нам объявили привал. После раздачи пищи солдаты повалились спать и уже забыли о дневной бомбежке.
Потери были небольшие, потому что состав стоял на изгибе двойной дуги. Нам повезло. Мы могли под бомбежкой оказаться и на прямом участке.
До станции Земцы пешком мы добрались довольно быстро. Стрелковые роты, скажу я вам, даже в тыл идут без особой охоты. Смотришь на них, вид у них такой, как будто они снова идут на передовую. Пройдут еще пару километров и протянут ноги.
Полковые разведчики дело другое. Их с полуживой пехотой не перепутаешь. На марше они быстры, а в делах расторопны и проворны. В стрелковых ротах публика хилая. Солдат нынче в пехоту дохлый пошел. У окопников своя неторопливая походка. Жить им на земле осталось немного. Вот они идут и не торопиться. Даже здесь, по дороге в тыл тянут свое земное время.
Перевалив через насыпь и взяв направление на северо-запад, мы стали удаляться от железной дороги. День был ясный и светлый, немецкая авиация больше не летала.
Мы шли по указанному маршруту и с любопытством смотрели по сторонам. Мимо нас назад уходила забытая людьми и богом местность, покосившиеся деревенские избы, огороды, заросшие сорной травой. Повсюду везде торчали прошлогодние засохшие будули.
Деревни, которые мы проходили мимо, казались безлюдными. Но приглядишься, в некоторых домах чувствовалась жизнь. Возле домов, с выбитыми стеклами и заткнутыми тряпьем, бочки с водой, а вдоль заборов сложенные поленицы дров. Человеческое присутствие чувствовалось, но людей не было видно. Они видно прятались от постороннего взгляда. Жизнь людей здесь шла как-то скрытно и незаметно. Возможно, близость станции и частые налеты авиации приучили жителей прятаться и скрываться.
Мелькнет где у притолоки сгорбленный силуэт старухи, встрепенется она пугливо, заслышав топот солдатских сапог, вспорхнет она как испуганная птица и опять кругом все мертво и зловеще тихо.
Мы думали, что по дороге нам будут попадаться обжитые деревни, вспаханные поля и люди занятые работой. Наконец-то мы увидим мирную жизнь, от которой мы долгое время были отрезаны. Но этого не случилось.
Мы идем по дороге и внимательно смотрим по сторонам. Разведчик должен на ходу примечать характер и особенности пройденной местности. На привале я буду спрашивать кто, что видел по дороге. Где переходили ручей? В каком состоянии мост? Мало ли, что я могу спросить.
С каждым пройденным новым километром мы уходим куда-то в даль. Ноги нас уносят все дальше от линии фронта. Наша повозка ушла вместе с полковым обозом. Нас пустили по другой дороге, чтобы сократить пеший путь. По времени мы должны выйти в район сосредоточения одновременно с обозом.
За поворотом дороги, при выходе из леса, показались крыши и стены домов. Это должна быть деревня Лейкино. Сюда раньше нас должен прибыть штаб полка. Если это Лейкино, то в деревне нас дожидается наш старшина.
Карты маршрута у меня нет. Накануне при выходе я взглянул на карту начальника штаба полка и имел кой какое представление о маршруте движения. Здесь дорога одна. В сторону уходят только лесные дороги. Я вел своих разведчиков по памяти, но уверенно сказать, что перед нами Лейкино, не мог. Пока я размышляю, мы подходим к деревне. У домов стоят повозки, по улице ходят наши штабные.
По всему видно, что полковой обоз только что пришел сюда. Для полковой разведки отвели два крайних дома в низине. В одной небольшой будем жить мы – старшина, я и Рязанцев. А в другой – большой и просторной помкомвзвод с ребятами.
В нашей избе живет хозяйка. В крайней избе, куда поместили разведчиков, хозяев дома нет.
За долгие годы войны нам впервые довелось войти в жилой дом и устроиться на ночлег на полу, на соломе.
Вечер был тихий, но довольно прохладный. Мы вышли с Рязанцевым из дома и присели на крыльце. Нам нужно было обговорить учебу и распорядок занятий для своих солдат. Рязанцев сел на ступеньку и задымил махоркой.
– Два дня нужно дать солдатам на отдых. Пусть приведут себя в порядок. Прикажи старшине истопить баню. Рязанцев в знак согласия пустил струйку дыма и сказал – Угу!
– Передай старшине, пусть завтра с утра её готовит. Нужно всем сменить нательное белье и выстирать обмундирование.
– Завшивело наше войско Федя! Скажи старшине, пусть из полка позовет парикмахера Каца Есю и стрижку организует. А то ходят с космами, как бабы, пузо навыкате. Поясные ремни нужно всем подтянуть. Подворотнички всем белые подшить. Сапоги почистить. Пусть на твоих разведчиков полковое начальство глаза пялит.
Рязанцев потягивал махорку и кивал головой. Вот так всегда! Я говорил, а он со мной соглашался. Сразу видно – разговорчивый! Рязанцев рта не открыл. Из него живого слова не выдавишь.
С наступлением ночи со стороны низины по деревне пополз туман. Он постепенно подобрался к жилью и я спиной почувствовал холод. Часовые, стоявшие на постах, стали жаться к строениям. Вот вам и летняя ночная прохлада! Она, конечно, не такая гнусная, как в марте, ранней весной, когда от холода коченеют руки и застывают ноги, когда от озноба и сырости слезятся глаза.
И сейчас часовые засунули руки в карманы. Что это, привычка? Или они действительно мерзнут? А может это тишина и тыл расслабили их и сделали их зябкими и чувствительными. На фронте ничего подобного не случалось. Обозникам страх угодить в стрелковую роту согревал душу. Пусть колючий ветер режет глаза, пусть снег и изморось хлещет в лицо. Для солдата это сущие пустяки, по сравнению с тем, что твориться на передовой, где сидят стрелковые роты. Там страх перед смертью согревал солдату душу.
Для разведчиков непогода – родная стихия. Когда идет дождь и неодолимый ветер заворачивает у немцев полы шинелей, когда по ногам несётся колючая пороша, когда глаза застилает туман, у разведчика на душе становиться легче и теплее. Разведчику на руку такая погода. Ненастье, это наша погода! А что происходит здесь, если приглядеться внимательно? Не только тыловики, но и разведчик, охранявший крайний дом, гнулся от холода. И разведчик туда же! А всё потому, что разомлели в натопленной избе, лёжа на мягкой соломе.
Ну и дела! Как в дом вошли, так сразу и затопили русскую печку. Летом избу топят! Видно соскучились солдаты по теплу!
Для солдат вредно тепло и мягкая солома. Жизнь без выстрелов и без грохота, это не для боевых солдат фронтовиков. Приглядеться по внимательней. Часовой от ночных шорохов озирается. Вот тебе и закаленный в боях солдат. Попал в тыл и озирается по сторонам.
Вспоминаю один выход в полевые условия, когда я учился в военном училище. Вывели нашу курсантскую роту в зимний заснеженный лес. Весь день мы ползали, бегали, кричали ура, ходили в атаки. Ну, думаем, к вечеру вернемся в казармы. Но к нашему удивлению и даже растерянности нас оставили ночевать в лесу. Было это первый раз. Никто не знал как это делается. Нарубив, лапника мы повалились на свои подстилки. Пока мы бегали и ползали, мороз слегка пощипывал нам уши и нос. А когда мы легли и притихли, озноб сразу пошел по всему телу. Мерзли конечности, ныла спина, лицо и губы немели, зубы стучали мелкой дробью. Как же мы мерзли, пытаясь заснуть.
Видя, что курсанты притихли и снут от холода, боясь, что мы сонные, можем обморозится, нам приказали рубить деревья и разводить костры. Мы долго возились с сырыми стволами. Костры наши дымили и не давали тепла. Нам казалось тогда, что нашим мукам не будет конца. Мы мечтали о своих двухъярусных кроватях в казармах. Едкий дым костров вывел нас тогда из оцепенения. Мы беспрерывно курили, считая, что дым папиросы согревает что-то внутри. К утру наши лица позеленели. В голове тупая боль и ни одной живой мысли. Воспаленными глазами мы смотрели на окружающий мир и ничего вокруг не видели. Какими вояками мы были тогда, в тот момент? Детская игра, скажу я вам, а не привыкание к полевым условиям. Утром нас построили и отвели в казармы.
Что было потом, помню очень смутно. Мы ходили куда-то, что-то делали. И ничего перед собой не видели. Чтобы солдат свыкся с окопами, его нужно держать в поле не месяц и не два. Нужна глубокая акклиматизация и перестройка всего организма. Нужен постепенный переход от сырой осени к лютой зиме. Нужно бы всех начальников, в том числе и командира дивизии, посадить на это время в окопы к солдатам. Пусть узнают Кузькину мать и почувствуют окопную жизнь на собственной шкуре.
И кормить их в это время нужно солдатской баландой, как это было у нас на передке. Вот тогда они разработают настоящую тактику и стратегию. Вот тогда солдаты по настоящему привыкнут к полевым условиям. Вот и сейчас, вывели солдат с фронта, дали одну ночь в натопленной избе на соломе поспать, теперь их нужно отмачивать под дождем и сушить на ветру не меньше недели, чтобы солдат стал солдатом и смог воевать. Дали ему подышать теплом и кислым запахом жилья, вернули из небытия, хлебнул он тишины, петушиного крика, послушал как куры квохчут на нашесте, теперь его как молодого жеребца в оглобли не введешь. Вот ведь в нашей фронтовой жизни как бывает!
Стоит разведчик на посту и по сторонам озирается. Смотрит в непроглядное пространство ночи и о чем-то думает. Все его здесь волнует. И тихая ночь и улица с домами. Передовая и немцы сразу отвалились. Их как будто и не было. Вот как легко и быстро все забывается. Попал человек в тыл, вырвался с того света, стоит и прислушивается.
В окопах бывало иначе. Бывало, идешь по траншее ночью, а немец содит из миномета неистово. Невольно пригнешься, под ноги не смотришь. Запнешься случайно за спящего солдата, пнешь его в бок сапогом, а он лежит себе и ухом даже не ведёт. Спит и просыпаться не желает. А он ведь мерзавец часовым поставлен в траншею. Дрыхнет без зазрения совести. Спящий солдат на передовой обычное явление. Потряс его за плечо, разбудил, отошел на десяток метров, а он зевнул спросонья, поморщился, потер кулаком под носом и опять за свое дело. Да еще храпит. Плевать ему на пост и на пнувшего его в бок сапогом офицера. Это вам не продуктовый склад в тылах пока. Попробуй там усни. Быстро загремишь на передовую. Здесь в траншее, хочешь спи, хочешь не спи, в тыл полка тебя не пошлют. Куды ты денешься?
Война отбивает у солдата память на теплую избу, тихую жизнь и ворох свежей соломы. Попадая в тыл, окопный солдат сразу задумывается о жизни. Тыловая жизнь для фронтовика – сплошная отрава! Она наводит на мысль, для чего человек родился и для чего он живет. Не должна просто так быть загублена живая душа. На передовой ни одному солдату такая мысль и крамола в голову не придет. Там только, успевай поворачивайся, соображай, чтобы сразу не убило.
А если на передке немец не стреляет и кругом всё тихо, прилег под передней стеной окопа, закрыл глаза, поджал под себя ноги и руки и спи до утра. Утром смена придет, своя братва, разбудит.
Жизнь солдатская хуже не придумаешь! Жизнь солдата на передовой измеряется неделями, днями и минутами, щепотями махорки, котелками хлебова и кусками хлеба по норме.
Спать солдату приходиться "урывками". Как лег на посту с вечера, так и до утра. Солдату время на отдых не дается.
Здесь в тылу – другое дело. Здесь солдата и дремота не берет. В голову лезут совсем не окопные мысли.
Рязанцев покашлял, поднялся с крыльца, устало зевнул, бросил на землю окурок и притоптал его по привычке ногой.
– Пойду, высплюсь! – сказал он.
За весь вечер это была его единственная фраза, которую он, наконец, произнес вслух.
Я сегодня дежурный по штабу полка. Я должен сидеть в дежурной избе вместе с солдатами телефонистами и посыльными. В избе не продохнешь. Русская печь натоплена, на метр от пола стоит дым махорки. Сидеть мне в избе не хочется, я выхожу на крыльцо и сажусь на колоду около стенки. Если позвонят, меня позовут к телефону.
Начальник штаба предупредил, что ночью могут нагрянуть проверяющие из дивизии. Мне понятно. Это не фронт. На Фронте они с проверками в окопы не сунутся. А здесь проскакать ночью по холодку – одно удовольствие!
Солдат обозников, что стоят часовыми, я предупреждаю, чтобы с той стороны при въезде в деревню они смотрели в оба.
Время на дежурстве тянется медленно. С вечера до утра – целая вечность! Хотя темный промежуток ночи по времени короткий. Когда ночью спишь, только лег, глядишь и вставать пора.
Обхожу посты и говорю с солдатами. Потом я возвращаюсь, достаю кисет, сажусь и закуриваю. Часовые на постах посматривают в мою сторону. Огонь от папироски видно издалека.
Летняя ночь коротка. Вот и рассвет. Бледная полоса лизнула край темного неба. Она вырвалась из облаков и повисла над лесом. И в тот же миг по деревне пролетел раскатистый и зычный голос первого петуха. Вот это да! Ты смотри! Петухи поют! Сколько лет ничего подобного не слышали! Разве можно спокойно сидеть и слушать этот неистовый крик! Вот тебе и ночная тишина с ночными шорохами! Нужно иметь стальные нервы, чтобы выдержать это!
За столько лет войны, после бесконечного грохота и кровавого месива, пожалуйста, получай в награду петушиное пение.
Часовые от неожиданности встрепенулись, вышли на середину улицы, повернули головы, разинули рты, разогнули спины.
Мы находились от станции Земцы в восьми километрах. Но если к железной дороге пойти напрямую, то до разъезда Замошъе не будет и пяти. В стороне от нас находились и другие деревни. Это Дубровка, Абоканово и Дорофеево. Дубровка ближе к железной дороге и в ней находился армейский эвакогоспиталь. Госпиталь, как госпиталь их во время войны было много разбросано в прифронтовой полосе.
Разведчики народ дошлый. За ними только смотри. Они уже успели пронюхать, что в госпитале есть знакомые медсестры.
Откуда, что берётся! Кто-то из наших солдат лечился после ранения в этом госпитале. И сказал, между прочим, что есть, мол, знакомые медсестры. Не прошло после бани и двух дней, как двое солдат стали проситься у Рязанцева в госпиталь лечить зубы.
– Знаем мы эту зубную боль! – ответил я, когда Рязанцев мне доложил и спросил разрешения отпустить их.
– Пусти одного! И весь взвод начнет маяться с зубами.
– У тебя случайно у самого зубы не болят?
– Разведчики это тебе не солдаты стрелки. Окопникам подавай картошки досыта. А за этими только смотри!
– Завтра выход в поле на учебу. В сторону Дорофеево смотри, не води.
– Солдатам нельзя давать время на размышление. Бег в полной выкладке, прыжки через канавы, форсирование болот, броски на несколько километров. Вот тебе и средство от зубной боли! Нагрузка успокаивает!
– Если не погоняешь их как следует, доберутся и до Дорофеево. Скандала не миновать. Полковое начальство нам не просит.
– Боюсь не удержать тебе Ряэанцев свою братию. Полюбуйся на них. У них на физиономии похабные мысли написаны. Уж очень пронырливы твои молодцы. Им госпитальная охрана не помеха. Возьмут часового, свяжут, рот тряпкой заткнут для потехи, чтоб не кричал.
– Федь! Ты понимаешь, что может произойти? Подойдут ночью тихо. Снимут часового. Потом мы перед начальством будем стоять как дураки. Могут подумать, что склады ограбили. Пожалуйста, проверяй. На сараях и амбарах замки и засовы на месте и целы, двери не сняты с петель. Пересчитают казенных лошадей, сбрую, телеги, госпитальных коров и свиней. Никто госпитальной ценности не тронул. А на счет девок у начальства фантазия не дойдет. Вот какая история может случиться в Дорофеево. Кто из наших молодчиков отличиться ни ты, ни я, не узнаем.
Медленно ползет рассвет по краю леса. Светлая полоса становиться шире и светлей. А петухи заливаются, голосят. Им ни ночь, ни заря! Им только бы по орать и по горлопанить на вою деревню. Два петуха, а шума и крика наделали на весь полк.
В избе напротив хлопнула дверь. Деревенские петухи этого только и ждали. Разбудили людей и сразу затихли. На крыльце напротив появились две фигуры. Одна маленькая и пригнутая, другая тяжелая с осанкой прямая в хребте. Первая, это фигура повозочного, вторая, это фигура полкового повара. Это наша кормилица. Эту личность в кромешной тьме по воровскому виду каждый солдат узнает. Любой стороной он повернись, с какого бы бока он под мышкой не тащил оковалок сала, часовой его сразу узнает. Уж очень въедлива и знакома эта фигура для всех. Завяжи солдату глаза, прикажи ему на ощупь повара определить, он его из сотни других по круглому брюшку опознает. Покажись он силуэтом на дороге, его тараканью походку видно издалека. Упрячь его в пустой амбар или сарай, пусти по следу любого солдата, он его нюхом по запаху учует. Уж очень он сильно пропитался запахом ворованного сала из солдатского котла. Всем эта фигура намозолила глаза.
Хорошо, что разведчики получают продукты не из его рук, а со склада. Они бы не простили ему водянистой баланды. Исчез бы он, как пропавший без вести и концы в воду.
Повар и повозочный пересекли дорогу и направились к кухне, стоящей под навесом. Повозочный вывел двух лошадей, накинул на них хомуты, поставил по обе стороны от центральной оглобли, подтянул постромки и вскочил на передок. Кухня загремела и покатила по дороге в сторону ручья. Повар снял замок с дверей сарая, открыл ворота и исчез в темноте.
Деревенская улица постепенно оживала. Одни солдаты решительно сбегали с крыльца и сразу принимались за дело. Другие появлялись в дверях, позевывая и почесываясь, лениво опускались на ступеньки и закуривали. Куда, например телефонисту торопиться и бежать? Сидящие поднимали головы и подолгу смотрели на небо. Лётная будет нынче погода? Ждать немцев на бомбежку или не ждать?
Деревня, люди и улица стряхнули с себя сон. Вот полковая кухня, залитая водой возвращается под навес и встает на приколе. В топке блеснул огонек, из трубы потянуло дымком. Повозочный работает топором, подкидывает в топку дровишек.
Солнце полыхнуло багряным отблеском в застекленном окне избы.
Из крайней избы выходят разведчики. Я отправляюсь в штаб доложить о сдаче дежурства. Рязанцев уйдет с ребятами в поле, проводить занятия. А я, сдав дежурство, отправлюсь спать. Сегодня будет новый день, будут и новые дела и заботы.
* * *

Через несколько дней мы покидаем район станции Земцы и берем направление на запад. Некотрое время наш полк стоял в районе ст.Западная Двина. Однажды с занятий, меня взвали в штаб полка и объявили:
– Полк выходит в новый район дисклокации!
До деревни Александровская мы шли строго на юг, а потом свернули на запад. На следующее утро, после ночквки в лесу, мы подошли к деревне Вировская и по деревянному мосту перешли Западную Двину.
Река в этом месте не глубокая. Мост поставлен на каменистой россыпи. Ниже моста речной перекат. Сразу же после моста поворот налево и небольшая деревушка.
При входе нашей колоны в деревню все жители ее высыпали на улицу. Они стояли около дороги, перед домами и смотрели на проходящих мимо солдат. Здесь были старики, женщины и дети. Картина не веселая. Люди угрюмые. Вид у них усталый, голодный и какой-то серый и обленялый. А с чего им собственно веселиться?
Деды, сложив чуть ниже живота корявые длинные руки, смотрели внимательно из под лохматых бровей. Бабы тоже худые, повязанные сомнительного цвета плотками, стояли притихшие, опустив руки как плети. Только на лицах ребятишек видно было живое любопытство. Девченки тоже в платочках, завязанных узелком впереди, смотрели с каким-то испугом и тупым любобытством.
С порога избы с посохом в руках на нас смотрела сгорбленная старуха. Она видно держалась с трудом, но внимательно шарила глазами по лицам солдат проходивших мимо. Кого-то искали ее старческие глаза. Деревня кончилась, люди и их лица остались позади.

Деревня небольшая, всего десяток домов. Кто-то спросил из солдат название деревни. Но как только мы прошли её, название тут же выскочило из головы.
Дальше мы идем на Козлихино, Хватково, Веревкино, Бенцы и Оверково. Около Оверково мы переходим через р.Торопу и сворачиваем на большак, который идет на Б.Наполки и Прилуки.
В узком пространстве лесной дороги, между стволами деревьев сумрачно и темно. Только наверху, где пробивается свет между вершинами деревьев, видны первые проблески утреннего неба.
С рассветом на лесной дороге появляется туман. На подъемах он заметно бледнеет, на буграх и перевалах он исчезает совсем. В низинах, по краю болот, где много влаги, он явно сгущается. Идешь по дороге и перед собой ничего не видишь. Такое впечатление, как будто вслепую ногами щупаешь куда можно ступить.
Разведчику всё нужно знать и все замечать на ходу. О густом и слабом тумане нужно иметь представление. Туман не часто бывает. И движение в тумане может потом пригодиться.
Солдаты идут друг за другом, спины и плечи их покачиваються в разнобой, под ритм шагов. Дорога в лесу все время петляет. Она то поднимается вверх, то сползает с пригорков полого и круто. Лесные дороги в этих местах тянуться на десятки киломерров.
Когда идёшь по дороге посматриваешь на спины солдат, поглядываешь по сторонам, и о чем ни-будь думаешь. Впереди беспросветно, все тот же лесной полумрак.
Вот и сейчас иду и думаю, почему у солдата появляется беспокойство, когда он покидает обжитую на войне траншею. Радоваться надо. Его уводят в тыл. Война на время позади. А солдат идет молчаливый и угрюмый. Похоже на то, как человек покидает свои старый и обжитый дом.
Ему что-то не достает. Он о чем-то с грустью жалеет. Что-то скрытое и необъяснимое поднимается и заполнет душу, когда покидаешь обжитую землянку, окоп, в котором ты уцелел от верной смерти.
Вспоминаю нашу землянку, овраг и поваленную березу, обтертый нашими шинелями её белый ствол. Рядом, за спиной, когда сидишь на березе, стояла небольшая зеленая ёлочка. Она и сейчас у меня перед глазами, вижу ее ясно, каждую её ветку. Много в лесу похожих деревьев и ёлок. Но эту кривую из сотни и тысячи других отличу. У этой ёлки обрублен сук снарядным соколком. Ударил осколок в сучек, надломился он и повис. Таких омертвевших сучков в лесу сколько угодно. Сучек вроде мелочь. А он именно дорог и памятен мне.
Разорвался снаряд. Осколок пролетел у самого моего виска, задел волосы, царапнул по коже и оставил след, как порез бритвой. Когда я обернулся, чтобы посмотреть откуда он прилетел, то увидел свежий срез сучка на этой елке. Сучек обломился и от удара осколка закачался как маятник на стенных часах. Вот как бывает! Ещё чуть-чуть и я не увидел бы обрубленного сучка и этой неказистой зеленой ёлки.
Мы покидали овраг, я окинул взором кругом все, что мне было знакомо и близко, белую поваленную березу, придавленную землей землянку и ёлку с обрубленным сучком. И я вдруг с сожалением понял, что навсегда покидаю эти места.
Ушла назад знакомая и привычная прифронтовая дорога, оставлены безымянные могилы соладат.
С немцами тоже было жаль расстоваться. Мы нашли потом с ними контакт, хоть и не знали друг друга. Мы чувствовали их, а они нас, как родственные души. Когда у немцев поубавилось прыти, когда мы сбили с них спесь, они поняли нашего брата окопника.
Славяне тоже не лыком шиты. У солдат особое чутье, когда дело касается окопной войны. Стороны без слов понимают друг друга. Немцы стали стелять и пускали пули метров на пять выше наших окопов. Наши, хоть стрелять и не любили, отвечали им нехотя, а трассирующие пускали еще выше над землей. Важно, чтоб стрельба и окопная война велась для вида. Пусть начальство взирает, что солдаты не спят, бдят и ведут перестрелку. На переднем крае с той и с другой стороны слышалась стрельба. Все шло как надо. Пули летели где-то на высоте. Мины рвались где сидели наши начальники. Там по дорогам шныряли повозочные и вся остальная тыловая братият.
Теперь все брошено. Оставлена нейтральная полоса, где-мы- ходили, лежали и ползали. Мы с закрытыми глазами знали их передний край и систему огня. Знали когда и где меняються часовые. Мы знали когда и куда они будут стрелять. Пустит немец очередь из пулемета в нашу сторону,можно идти спокойно по нейтральной полосе не пригибая голову. Наши солдатики, взяв повыше, отвечали им из пулемета: -Ти! Ти!-Та,та,та! Мол поняли вас! И опять на некотрое время над нейтральной полосой наступала тишина. Наша пехота и немецкая инфантерия понимали друг друга!
Только разведчики были злостными нарушителями спокойствия и благодати. Славяне окопники разведчиков не любили. Придет полковая разведка к солдатам в траншею, ввалится как хазява и сразу к пулемету. Резанут по немцам для проверки, не изменилась ли система огня у немцев. Наведут переполох. И потом немец дня два не может успокоиться. Последнее время от разведчиков стали прятать ленты с патронами.
Теперь всё осталось позади. Разведчики и стрелки идут в одной колоне по лесной дороге. И те и другие устали, и забыли про свои обиды.
Кругом деревья и кусты. Часто попадаються похожие участки дороги. Кажется вот только, что это место прошли. Теже высокие сосны и ели. Впереди дорога светлеет. Деревья реже. Под ногами земля тверже и плотней. Только что пахло гнилой трухой, а теперь в лицо ударило свежим порывом ветра. Дорога круто поворачивает. У обочины дороги небольшой бугор. На нем сидят солдаты из нашего полка. У них потерты ноги. Они сняли сапоги, разложили портянки. Сидят с голоыми ногами, шевелят ступнями и пальцами, щупают на ногах потертые места.
– Ты смотри! Эти уже привал организовали!
– Сапоги под себя подбери! А то сопрут на ходу! Босиком придеться потом топать по дороге!
Наши идут мимо. Увидели солдат с потертыми ногами и тут же в их сторону посыпались разные шуточки.
– Не слушай его ребята! Под голову клади! Спать ложись! К вечеру своих догоните!
Так уж повелось. Завидел своего собрата в беде, мимо не пройдет, обязательно подденет за живое. Непременно вставит ехидное словечко, от которого станет тошно.
Босые солдаты остались за поворотом дороги. Поскорей бы самим до места дойти.
Впереди на дороге заметно светлеет. Сквозь деревья проглядывает открытое поле. По всему видно, что лесная сторона уже позади. Дорога еще раз поворачивает, проходит между стволами деревьев и мы выходим в открытое поле. Слева поле, непаханная земля, справа опушка леса. Мы идем по краю поля и леса.
В глубине леса за редкими соснами показались солдаты, стоящие под кустами телеги и стреноженные лошади, пасущиеся в лесу. Под развесистой елью стоит полковая походная кухня. Труба немного дымит. Из под крышки котла выходит пар и запах солдатского хлебова.
Мы идем и посматриваем в сторону леса, где мелькают фигуры солдат. Похоже, что это наши обозники. Наших обозников можно сразу от других отличить. Их по внешнему виду легко узнать. Уж очень у них специфический внешний вид в отличии от другой тыловой братии.
В лесу просторно и сухо. Лето в самом разгаре. Нас на марше пробивает пот. Мы идем в одних гимнастерках. А повозочные в ватных телогрейках перепоясаны ниже живота ремнями. Из под касок выглядывают сплюснутые сверху вниз физиономии. Одежда у них замусолена, как будто они свои животы натерали салом. Сибиряки в дивизии сохранились в штабах, тылах, складах и обозах. Народец не высокий, но очень живучий. Их с насиженых мест оглоблей не вышибишь.
А те, что в начале войны были в ротах остались в земле под Медным и Калинином. В живых остались безснарядные артиллеристы, медсестры и врачи санрот и медсанбата, полковые парикмахеры, портные, сапожники, обозные и повора.
В стрелковой дивизии уж так повелось одни идут на смерть, а другие наедают шею. Все они "паря" друг другу и землячки. А мы им кто? Мы чужие, с других регионов. Мы москали. Мы чужаки и примни в ихней сибирской дивизии.
Коммиссар 52 полка из Красноярска. Химик полка из Ачинска. Кого не копни, все они "паря". А в ротах воюют люди со всей России. Так, что зря кой кто из них кричит и пыжиться, что сибиряки прошли от Волги до Восточной Пруссии. Прошли солдаты, а эта отборная братия ехала сзади. На войне одни воевали, а другие участвовали так сказать!
Полковой обоз прибыл на два дня раньше нас в этот лес. Обозники успели рассредоточиться и занять места, затащить в лес повозки и пустить пастись лошадей. Прибыв на место, они сразу принялись копать землянки и блиндажи. Чтобы быстро зарыться в землю, они в помощь себе потребовали стрелковую роту солдат. Обозники охраняли склады, а стрелки пехотинцы валили лес, подвозили бревна, рыли котлованы и накатывали накаты.
Складские стояли на постах и охраняли съестное. Одним словом делом были заняты все, в лесу кипела работа.
Окинув взглядом место, где трудились солдаты, можно было безошибонно сказать, что полк здесь встал и обосновывается на долго.
Обозники суетились. Они жили всегда торопясь. Солдаты стрелковых рот неторопливо, лениво втыкали лопаты в землю.
Подойдет какой интендан офицер, сделает замечание. Солдаты тут же прекращают работу, стоят молча, пялют на него глаза. Ждут когда он уйдет подальше отселе.
Мы доходим до угла леса и останавливаемся, здесь в сосняке мы должны организовать себе место постоя. Мы не строим себе землянок и блиндажей как наши тыловики. Мы отрываем щели на случай бомбежки и из жердей и лапника городим себе шалаши. Шалаши так для того, чтобы днем можно было лечь и отгородиться от постороннего взгляда. На случай дождя у нас у каждого есть накидки. К вечеру мы уже валялись на подстилках из хвои.
По проселочной дороге со стороны деревни Вшивка, постоянно кто-то едит или идёт. Рядом, на некетром расстоянии, на берегу озера Жижица деревня Спичино. Мимо Вшивки проходит дорога на станцию Жижица. Деревни Вшивка теперь нет.
По дороге от Вшивки, то пропылит телега, то верховой увидев, что наконец добрался до знакомой опушки леса, заторопиться на рысях. К вечеру, глядишь, по дороге идет маршевая рота. Это безоружная сотня солдат, которая прибыла из глубокого тыла и топает от станции Жижица по лесной дороге пешком, для пополнения нашей дивизии.
Дивизию пополняют солдатами, оружием и лошадьми. Солдат новобранцев сгружают на перегоне в лесу и дальше они топают вокруг озера по лесной дороге. Им полезно промяться. Солдату новобранцу с первого дня нужно привыкнуть к лишениям и походной жизни. Ему сразу из теплушки вагона не вредно пройти километров тридцать в обход.
До линии фронта недалеко. Слышен отдаленный гул артиллериской перестрелки. Солдат эти звуки сразу улавливает.
Солдатики новобранцы сразу почувствовали усталость в ногах,боль в пояснице и пустоту в животе. За один переход тридцать километров, без всяких привалов пройти новобранцу не очень легко.
На подходе к лагерю солдатики маршевой роты начинают цеплять за землю ногами. Их заводят в лес и они падают как мертвые. Им объявляют, что они прибыли на место. А они лежат, закрыв глаза и не шевелиться. Безликие, помятые и за дорогу обросшие.
Лихое воинство идет к нам на пополнение. Смотришь на них и думаешь, старики они, или молодые? Все они выдохлись и обессилили. Ни од ой живой души, ни одной здоровой рожи. Откуда я буду брать пополнение для разведки? Из тысячи прибывших, не могу десятка набрать. А нам нужны добровольцы, смелые и сильные ребята. Куда девался проворный и шустрый русский солдат? Кто-то из тюряги пришел. Всякое они говорят. Неужель это правда? А чему удивляться.
Посмотришь на дорогу, опять пылит маошевая рота. Усталые и молчаливые идут они мимо, разглядывая нас и заходят в лес.
Мы, старые вояки, стоим у дороги и тоже поглядываем на них. Две партии встретились на дороге и скоблят друг друга глазами.
Они нас спрашивают,
– Как у вас тут?
А мы, вроде задаем им вопрос,
– Ну что прибыли голубчики, скоро узнаете, как тут у нас.
Гвардейские полки пополняются живой силой. Стрелковые роты ростут. Лесной лагерь постепенно расширяется. Под деревьями и в кустах появляются новые шалаши. Возле них отрывают узкие щели на случай бомбежки. Для солдат стрелковых рот не строят блиндажи. Их дело привыкать к матушке земле.
Через неделю лесной лагерь меняет свой облик и запах. Чистый воздух и хвойный дух исчезает. Пространство, по которому ходят солдаты постепенно замусоривается, засоряется и загаживается. В воздухе стоит запах портянок, грязного белья и мочи. Лес преображается с появлением нового пополнения.
Вновь прибывшие пока ходят без оружия, хотя оно лежит в ящиках и ждет своего часа.
Каждый новый день в полк прибывает маршевая рота. Маршевая рота, это до сотни невооруженных солдат. Одеты они в солдатскую форму, подпоясаны брезентовыми ремнями. У них у каждого, как положено за спиной пустой заплечный мешок. Они ждут когда им выдадут консервы, хлеба буханки две на каждого брата и оковалок сала не меньше кило. Им невдомек, что этого они здесь никогда не получат. Мы молчим, ничего не говорим, пусть маленько услодяться мечтой и мыслью.
Им оружие в дороге не дают. Запас продуктов они не получают. Их в дороге кормят на перевалочных базах. Подходи плеснут в котелок, хлеба кусок, махорки щепоть, получил и отваливай. Они надеятся, что их накормят до отвала, когда они приедут на фронт. На фронте до отвала выдают только пули в живот, об этом они скоро узнают.
По пути следования их сопровождает офицер. Он имеет список на руках. Каждый день перед кормежкой он проверяет их по списку.
Притопали солдатики в расположение полка и считай, что за каждым из них захлопнулась дверь в тыл и в мирную жизнь. Обратной дороги им больше нет. Обратно в тыл солдат может попасть только раненым. И не дай бог, если у него после ранения обнаружат гангрену. С гонгреной в тыл ему доступ закрыт. Легкораненые, лечением сроком до месяца, оставались тоже в санротах и медсанбате. В эвако госпитали отправляли тяжелых, но надежных. С нашего участка фронта с тяжелыми ранами ребята попадали в район города Иваново.
Попал голубчик в окопы. Сразу не убило. Воюй себе да воюй! Другого выхода нет.
У сопровождающего офицера свои дороги и пути. Доставил в полк маршевую роту, сдал солдат по списку, под расписку по счету, достал пустой котелок и отправляйся на солдатскую кухню, получай хлеба и хлебова. А свой суточный паек прибереги. И этот тоже наровит оторвать от солдатского котла. Не успел показаться в полку и сразу на кухню. Вот так и курсирует до фронта и обратно в тыл. Пороха не нюхал, а считается фронтовиком. Глядишь в другой раз он является уже в очередном звании. Был старшим лейтенантом, а теперь капитан.
Дивизия получает пополнение и ее по всем признакам готовят в наступление, хотя нам пока об этом ничего не говорят.
Однажды в полки прибыли армейские штабные. Они будут проводить учение – "Стрелковый полк в наступательном бою". Солдатам дано указание отрыть на учебном поле траншею в полный профиль и поставить проволочное заграждение.
Нейтральная полоса от вырытой траншеи на положеном расстоянии. Исходное положение наступающего полка оборудовано по всем правилам. Здесь окопы, щели и блиндажи. Солдаты трепятся, что армейские специалисты для учебного боя подобрали местность похожую на ту, где нам придётся потом вести наступление. Солдаты всё знают, а мы офицеры не в курсе дела. Солдат много, огромная масса. Один сказал то, другой сказал это. Сказанное просеивается сквозь сито, мусор отметается, а смысл и зерно остается. Слух, слухом! А случилось все так, как трепались они.
Однажды со станции, по дороге со стороны Спичино, запылили два танка. Проурчали, прогремели, пролязгали и застыли в кустах на опушке леса. Комбаты ходили туда смотреть, прикидывали как на танки сажать солдат в качестве десанта.
Когда дело дойдет до реального наступления и танки с десантом рвануться вперед, комбатов на танках или поблизости не будет. Это они здесь в лесу делают важный вид, покрикивают на солдат, махают руками, дают указания. В бою ни один из них в цепь пехоты не пойдет. Они будут сидеть сзади в земле и ждать когда в роты протянут телефонную связь. Своя жизнь каждому из них дорога, она дороже чем жизнь стрелка солдата.
Но вернемся к учебе и учебному полю.
На исходной позиции начальник артиллерии полка Славка Левин установил две полковые пушки. Армейские спецы приказали открыть огонь боевыми снарядами. Они хотят, чтобы рев танков и стрельба боевыми из пушек создало у солдат реальное представление. По траншее условного противника полковые выпустят по десятку фугасных снарядов. Отрабатывается огневой вал, за которым, на противника пойдут наши солдаты.
Никогда этого не было, чтобы пехоту в тылу приучали к стрельбе боевыми, а танки, проутюжыв нейтральную полосу, пойдут на траншею противника. Сколько сожгут они на учении бензина?
Первый раз за всю войну по пустой траншее, просто так для грохота выпустят десятка два снарядов. Видно мы стали сильны! Раньше, в реальном бою, нам при наступлении на деревню больше двух снарядов было не положено.
Полковая разведка в полковом учении участия не примет. У нас своя учеба. Мы выходим ночью на свою тренировочную полосу. Разведчики готовятся для ночных действий.
Мы нашли небольшой участок земли на песчанном бугре по краю леса. Там били окопы и ход сообщения. Видно кто-то до нас успел окопаться здесь. Мы нашли его готовым в стороне за болотом. Возможно, что здесь когда-то проходил передний край.
Разведчики в ночной поиск отправляються небольшими группами. В каждой группе не больше трех-пяти человек. Комплектуються группы на добровольных началах. Каждый имеет право выбрать себе напарников. Люди сходятся на доверии и взаимной дружбе. Самые отчаянные состоят в группах захвата. Командир группы захвата самое важное и главное лицо. Это не важно сержант он или рядовой. Во время ночного поиска все ему подчиняються. Даже я, если иду вместе с ними за языком.
Новичку в группу захвата попасть сразу трудно. Нужно на деле себя показать. Нужно иметь незаурядную сообразительность и выдержку, стойкость и решительность без всякого там куража. Таких групп во взводе три. Все зависит от укомплектованности развездки. В боях эти группы пополняються из числа добровольцев. Остальные солдаты взвода разбиты на группы прикрытия и обеспечения. Обеспечение не продуктовое, а боевое. Это своего рода лестница, на которой каждый знает и занимает свое место. В разведке нет, как в обычной жизни, коръеризма и возни за место. Хочешь быть впереди и выше всех, иди в захват группу. А это значит, что ты рискуешь больше всех. Опаснее всего ходить и брать своими руками немца. Остальное все мелочь по сравнению с этой чистой работой.
Добровольцы из пополнения проходят учебную проверку. Они должны походить до пота, поползать, когда тебе пот застилает глаза, проверить себя на зрение, на слух и на сообразительность. Их берут с собой опытные, они за ними ходят как щенята.
Группа захвата среди разведчиков находиться в привилегированном положении. Они не ползают каждую ночь под немецкой проволокой. Они не ищут где можно взять языка. Их не используют на побегушках связными и посыльными. Они не стоят около землянки на постах. Всем этим занимаются солдаты из групп прикрытия и боевого обеспечения. Люди из группы захвата отдыхают до времени. На них, как на профессионалов будет возложена самая ответственная и рискованная часть операции. Они не занимаються подготовительной черной работой. В ночном поиске под немецкую проволоку ходят другие. Они слушают, нюхают, готовят данные о противнике. Нащупали слабое место, нашли подходящий объект, вот тогда для мысленной оценки захват-группа выходит на место и уточняет мелочи.
Она идет не одна. Ее охраняет в нейтральной полосе группа прикрытия. У нее личная охрана, если хотите. После проверки, если у захват-группы сложиться мнение, начинается дороботка и доводка задачи по захвату пленного.
Взятие языка из передней траншеи в стабильной обороне дело не простое. Любая ошибка, неточность, случайность, оплошность заканчивается гибелью ребят. Из двух, трех проработанных объектов выбирается один. До тонкостей и мельчайших деталей изучаются проходы в проволочном заграждении. В минных полях обезвреживаються мины. Прочерчиваются и наносятся на карту все мертвые пространства, командует поиском командир группы захвата. Ему подчиняються при подготовке и проведении операции все разведчики, участвующие в поиске. Он командир и хозяин над жизнью людей. Он выбирает день и час выхода на задачу. На задачу, это значит на захват языка. Такое бытовало у нас тогда выражение.
Сегодня я вижу, что сержант чем-то недоволен. Он качает головой и просит не торопить его. Ему что-то не нравиться и он решает готовить другое место. По лицу его видно, что он решает вопрос жизни и смерти.
Разведчики понятливы. Я разделяю его сомнения. Я вижу, что он не готов и не собрался с духом. Разговор продолжать не к чему.
Ворваться в немецкую траншею не мудренное дело. А что дальше? Другом пулеметы и проволока в четыре кола.
– Чего там мудрить! – слышу я голос командира полка.
Полковое начальство считает, что мы умышленно тянем время. "Доползли до траншеи, спустились в нее, любого немеца с перепуру снимай и бери языка! Вот и вся ваша тактика и опереция! Смелого пуля боиться!"
Если все так просто, то почему мы каждый раз несем потери в людях? Торопить сержанта нельзя. Нажим на него может привести заведомо к срыву. Я сам не раз ходил под немецкую проволоку, лежал там подолгу, слушал и наблюдал, изучал, делал выводы, но к решению сунуться туда на приходил.
Когда наступит подходящий момент и решающий час, сержант сам скажет:
– Завтра идем! А это значит, что к ночи должно быть все готово.
Командир взвода Рязанцев соберет людей, проверит омуницию, снеряжение и оружие, наличие боеприпасов, перевязочных средств, пригодность маскхалатов и уточнит задачу каждого разведчика по этапам, по времени. Перед выходом на боевую задачу нужно еще раз проработать систему сигналов и связи в бою.
Командир взвода учтет кто болен, у кого куриная слепота, кашель, простуда, расстройство желудка. У кого из ребят все тело покрылось зудом, дрожат руки и подгибаются колени. Командир взвода знает кого из разведчиков заменить. Перед выходом на задачу, когда ее накануне объявляют у людей проявляються разные внешние проявления, признаков страха. Сегодня они у этого парня есть, а в другой раз он чувствует себя нормально. Чужая душа-потемки! Каждый раз она себя по разному ведет. И у самого отчаянного порой бывают признали депрессии.
Группа захвата хочет перед выходом попариться в бане. Мало ли какие причуды бывают перед смертью у людей!
Немецкая траншея, это не учебный полигон, не тренировочный окоп, куда можно позевывая небрежно спрыгнуть. Когда берут языка, время идет на счет по секундам. Из немецкой траншеи можно и не вернуться. Небольшая мелочь. Повернул голову не в ту сторону, не увидел вовремя немца, получил порцию свинца в живот и будь здоров.
Скрывать нечего. Перед выходом на боевую задачу многих бьет озноб. и от страха перед смертью появляются разные болезни.
Иной солдат, как не старайся, не может справиться с собой. С этим приходиться считаться.
Легко рассуждать когда сидишь в полковом блиндаже упершись локтями в карту и подперев челюсть ладонями. Полковой блиндаж километра три от передовой, а блиндаж дивизии еще дальше.
Другой раз солдат сам проситься в поиск, а сегодня у него душа болит без всяких причин.
Перед выходом в ночь нужно заставить всех ребят написать домой письма. До возвращения солдата письмо будет лежать у старшины. Вернешься с задачи, хочешь отправляй, хочешь рви. Это твое дело. Но последнее письмо должно быть написано и точка.
В ночном поиске всего не учтешь. Все как выйдет! Многое неизвестно! Где-то недосмотрели, ушами прохлопали, что-то недодумали и просчитались.
Не просто научить и подготовить разведчика, из сырого материала, из новобранца. С рассвета мы ложимся спать, днем к обеду просыпаемся, а с наступлением темноты вновь уходим на учебу.
Проснешься днем, выйдешь из шалаша, оглядишься крутом, а интенданты в лесу все строяться. Копают солдаты стрелки. Подойдет к ним интендант, покашляет в кулак и видя молчаливую неприязнь солдат, отойдет в сторону и плюнет со злостью. Лучше отойти вовремя, а то кто и сзади лопату земли кинет на голову. И на него цикнуть нельзя. На окопника голос не повысишь. Бросят работу и уйдут спать в кусты. Иди жалуйся! На свою невоздерженность.
Свои тыловые те стараються, лезут из дресен. А эти откровенно, не скрывая тянут время. А чего тянуть? Налетит авиация, от вороха мешков с продуктами останется одна пыль. Склад нужно надежно и поглубже зарыть в землю, чтобы ни одна бомба не взяла.
Окопный солдат работает лениво. А интенданту блиндажи нужны поскорей. В ямы опускают срубы из толстых бревен. Перекрытие над головой в четыре наката кладут. Сверху с полметра земли насыпят, свежим дерном выкладывают. Но делают они все это чужими руками.
В сосновом лесу, где рассредоточен полк, деревья валить запрещается. Деревья валят где-то в другом месте, бревна возят на повозках со снятым возком. Если внимательно присмотреться, то можно заметить где-то рядом в лесах появились свежие вырубки. Где на дорогах пролегли свежие борозды, по которым возят заготовленные бревна.
Иногда над лесом появлялся немецкий самолет. Полетает он, пострекочит, но не бомбит, не стреляет из пулемета. Сделает сотню снимков и улетит.
Пройдет дня два, три. О самолете все забыли. Никто не придал его полётам значения. Но вот с неба грянул гром. Немецкие пикировщики уже заходят над лесом. Пройдуться они разок, другой, подденут интенданские мешки со ржаной мукой, которой заправляют солдатскую похлебку. И в лесу начнеться веселая жизнь.
Интенданты сидят на мешках и стерегут свое добро. А солдатики стрелки подневольные людишки стучат топорами, махают лопатами. Но случается так, что под стук топоров, солдаты стрелки, изловчившись, откинут в сторону незаметно мешок с мукой и присыпят его тут же землицей. Только отвернись, разинь варюжку, задумайся о чем. Мешок с мукой как сквозь землю провалился. Никто не отходил. Никто не отбегал. Все стоят и копаются в земле. А мешка одного с мукой уже нет. Хочешь снова пересчитай. Вот здесь, только что лежал мешок и исчез безследно.
Солдаты окопники все заранее подготовили. Яма в размер мешка давно была готова. Только зазевался кладовщик, толкнули мешочек в яму, присыпали землицей. Теперь в поле ветра ищи!
Стащить мешок муки это плевое дело. Они могут и лошадь из обоза увести. Потом где нибудь в кустах найдешь рога и копыта!
Обозные и снбженцы не раз на этом горели.
Вот и сейчас солдатики окопники с надеждой посматривают на небо. Не появиться ли желанный небесный звук с высоты. Сейчас в самый раз прилететь немецким пикировщикам. Шарахнут по обозам, тышовики сразу недосчитаются пары мешков муки и нескольких убитых лошадей, а из них махан получается аппетитный. Потом пойди проверь чем ее убило в голову осколком или пулей?
Тыловики как наседки сидят на мешках. В их среду чужой никогда и ни за что не воткнётся. За этим начальство следит строго. У них на складах и на кухне везде свои проверенные людишки. Они проверены на сообразительность и усердие, отобраны на ловкость рук и умение молчать. Они натренированы на оттяпывание из солдатского пайка сала и консервов. На любом из них пробу ставить негде.
А в стрелковых ротах разные людишки. Им склады нельзя доверять. Это окопный материал. Они пойдут на ратное дело!
В сумерках мы выходим на свое учебное поле и в сумерках возвращаемся в лес на отдых, к себе в шалаши.
У нас исключительно ночная работа. Можно сказать, что мы полунопники. Ночью мы должны уметь ходить по компасу, измерять пройденное расстояние, ориентироваться по карте на местности, преодалевать неслышно препятствия, видеть все кругом, обнаруживать противника и уметь вести ближний бой.
Всё это пока учеба!
Каждый неудачный момент, или ошибка, сход с намеченного пути или отклонение с маршрута в боевых условиях может привести к потерям.
Во время учебы солдат не испытывает страх, смерть не висит над ним. Риска никакого! В этом главная неувязка учебы и боевой действительности.
* * *

– курсивом выделен зачеркнутый текст
25.09.1983 (правка)
Июль 1943


Как-то в конце июля нас перебросили к линии фронта в район Великих Лук. Ночью мы вышли на передний край и заняли оборону. Один полк был введен в соприкосновение с противником. Остальные полки стояли во втором эшелоне. Мы стояли, как позже я узнал, в полосе обороны 33-ей армии. Она часто была нашим соседом справа.
Нам приказали провести ночной поиск с целью захвата языка.
Разведчики в ночной поиск ходят небольшими группами. В отличие от нас, немцы берут языка, наваливаясь на наших большим числом не менъше роты. Перед рассветом навалятся, поднимут стрельбу, прихватят с собой одного двух солдат и отойдут в свои окопы. У нас поисковых групп три по трое, иногда немного больше.
Мы следили за одним объектом и готовы были выйти на задачу, но в последнюю ночь случилось непредвиденное. Кто-то из ребят, возвращаясь перед рассветом, задел ногой натянутый провод и под немецкой проволокой раздался мощный взрыв. Рванула противотанковая мина с боковым, натяжным взрывателем. К счастью из ребят никто не пострадал. Немцы сразу всполошились. Открыли огонь. Стали светить ракетами. Видя, что наша сторона молчит и без движения, они постреляли, посветили и успокоились.
Разведчики через некоторое время выбрались в свою траншею. Вроде бы всё обошлось. Но сам факт появившейся около проволочного заграждения мины, заставил нас задуматься и менять объект.
Чеши, не чеши в затылке! Это наш ляпсус, допустили просчёт! Что это? Немецкая ловушка? Свежая, только что поставленная мина? Или это старая, которую мы не обнаружили прежде? Но мина посеяла сомнения!
Теперь было нужно готовить новый объект. Был небольшой немецкий окопчик на правом фланге. Мы присмотрели его. Может, перейдём к нему? Здесь мы мало ползали и не тревожили немцев.
Сидят немцы на отшибе, помалкивают, осветительных ракет не бросают. Так, иногда постреливают одиночными, из винтовки. Вот собственно и всё, что знаем мы об них. Может всего два, три солдата с винтовками сидят? Почему мы раньше не обратили на них внимания? Целую неделю ползали только здесь.
Я спрашиваю сержанта, что он думает на счет этого окопа. Сержант молчит. Я чувствую, он тянет время. Спрашиваю ещё раз:
– Может на этот окопчик пойти нацелимся? Он ничего не ответил, а я продолжал:
– Даю тебе два дня на размышления!
– Сегодня ночью пошли туда ребят.
– Через два дня дашь мне ответ!
Я посмотрел по карте характер местности, где располагался этот окоп. На карте все показано условно. Здесь заброшенный участок дороги, здесь небольшое болотце, а сзади овраг и небольшое возвышение. Вот здесь на обратном скате вероятно у немцев блиндаж.
Я сижу над раскрытой картой и изучаю её. Неровности рельефа на карте нанесены горизонталями. Чем ближе они друг к другу, тем круче скат и выше высота. Повышение и понижение местности обозначены Берг-штрихами.
Внизу на полях карты имеется шкала заложений. По ней можно определить и подсчитать крутизну скатов и вычертить профиль местности в заданном направлении.
Когда с какой-то точки на местности ведешь наблюдение, просматриваешь нейтральную полосу, невидимые склоны и мертвые пространства практически не видишь. Их можно выявить только путем построения, используя шкалу заложений. Разговор идет о незначительных и не о резких изменениях рельефа. Глубина обороны противника обычно изобилует подъемами и спусками. Противник всегда выбирает для своей обороны пересеченную местность. Оборона стоится на выгодных рубежах. Обратные скаты немцы используют для скрытых подходов.
Знать подробно рельеф местности, её особенности и скрытые места для разведчика важное дело. Это нашей пехоте на всё наплевать. Где у немцев хода сообщения? Где за обратными скатами блиндажи и укрытия? Где в нейтральной полосе мертвые пространства, не простреливаемые пулеметами. Пехота за свои окопы не ходит.
Это нам полковым разведчикам при соприкосновении с противником надо все знать. И вообще, нам для работы, нужны крупномасштабные карты. А их у нас, к сожалению нет. Такие карты попадают нам иногда в руки, когда мы берем их у немцев.
По ним можно построить точные профили местности в заданном направлении. Просто так смотря на карту эти тонкости не уловить. Прочитал карту. Вроде все понятно. Кажется все просмотрел и учел. А сделал прикидку, графические построения и сразу убедился, что многое и важное упустил.
Нам, разведчикам, в то время давали карты переизданные в 1938 году. Эти карты были сделаны с других старых карт. Многое на местности с тех пор изменилось. Вместо хуторов на местности стояли целые деревни. Некоторых названий деревень давно уже не было. Детали на километровых картах обычно даются обобщенно. Отсутствуют опушки выросшего или вырубленного леса, не показаны многие дороги и мелкие ручьи. Дороги распаханы, потому что хутора и деревни снесены.
Нам нужно знать точно, где на подходе к немцам имеются мертвые пространства и где на обратных скатах у них находятся блиндажи. Мы часто допускали ошибки, полагаясь на данные устаревших карт.
Днем мы ведём наблюдение. Просматриваем нейтральную полосу, и передний край обороны немцев в стереотрубу.
Стереотруба искажает реальную глубину и протяжённость пространства. Наведешь трубу на немецкий окоп, выставишь резкость на его проволочное заграждение. Смотришь на проволоку – каждый колышек как на расстоянии вытянутой вперед руки. Чем сильней увеличение, тем меньшую глубину местности ты видишь перед собой. И естественно, ни каких пологих складок, ни каких мёртвых пространств.
Перед выходом на задачу я не разрешаю разведчикам смотреть в стереотрубу. Подбираемся предельно близко к самому окопу. Нельзя допустить, чтобы у них в голове реальное пространство на местности мешалось с искаженным представлением, которое можно увидать в трубу.
На небольшом бугорке перед нами находится стрелковый немецкий окоп.Там сидят два немца, тоже окопники. Бруствер окопа у них обложен зелёным дёрном. Не то, что у наших. У наших славян бруствер представляет собой просто вал голой земли. Никто из наших не пойдет резать дерн. К чему это? Окоп, траншею все равно издали видно.
Немцы в своем окопе сидят тихо и почти не стреляют. Только изредка ночью посветят ракетами, вот и все!
За целый день увидишь раза два мелькнет над бруствером немецкая каска. Покажется часовой, повертит головой, посмотрит туда, сюда, покажет свое худое лицо, вот и все данные за целый день наблюдения.
Сколько их там? Какое оружие у них там в окопе? Сколько пулемётов, автоматов или одни винтовки? Нужно прощупать проволоку. Нет ли у них там минных сюрпризов? Где к окопу подходит ход сообщения? По которому они утром уходят к себе в блиндаж.
Ни дыма, ни трубы, ни точёных деревянных шестов, на которые они вешают провода телефонной связи. Сколько немцев сидит там в окопе?
Ничего нового не принесли наблюдатели и слухачи, а ни одну ночь пролежали под немецкой проволокой. Докладывает один из солдат:
– Слышали, как раза два покашливал в окопе немец.
– Может один, из всех кашлял, а остальные молча за пулеметом сидели?
– Чего бы им вонючего подпустить? Такого, чтобы и другие закашляли!
– Ты под самой проволокой лежал? – вмешивается в разговор Рязанцев.
– Ну! – отвечает солдат.
– Вот ты им и подпусти русского духа! Может от твоего шипучего они не только кашлять начнут, но и чихать будут.
В землянке общий хохот.
– Мы должны знать, что у них там, в окопе! – говорю я. И смотрю на солдата.
– Совершенно справедливо! Товарищ гвардии капитан! Вы грамотный и ученый! Научите меня бестолкового, как это сделать!
Вот это поддел! Я стоял и не знал, что ответить. Вот, как бывает! Я сказал, что мы должны знать и попался на слове. С разведчиком нужно ухо держать востро. Приказать – Давай, давай! – проще всего. А что потом? Что из этого выйдет?
Командир полка может мне сказать: – Давай, давай! А я ему, как солдат, не могу ответить: – Как, мол, это сделать? Он мне тут же скажет – А ты у меня на что? – Ты начальник разведки, ты должен лучше меня знать как это сделать!
Нам нужно знать, что у немцев в окопе? Без этого соваться туда нельзя. Но как это сделать, я пока не знаю. Провести разведку боем, нельзя. Можно всполошить немцев и сорвать выполнение задания. Обойти окоп с тыла и посмотреть, что там делается опасный и рискованный ход. Остается одно. Ждать и наблюдать!
Разведотдел дивизии требует языка. Они подготовкой операций не занимаются. Всё висит на мне и командир полка меня каждый день торопит. По их авторитетному мнению взять языка довольно просто. Просто мы трусим. А если бы не трусили. Пошли и взяли бы.
Мы не можем идти очертя голову. Это каждому ясно. Пустить людей вслепую, значит обречь на верную смерть. Потом я буду докладывать, что операция сорвалась, разведка понесла большие потери. Вот теперь ясно, скажут они. Сам знаешь, война без потерь не бывает!
Я могу официально приказать Рязанцеву выйти на захват языка. Послать людей на окоп в любую ближайшую ночь. Люди пойдут, а там хоть не рассветай!
Главное не в этом. Как я потом буду смотреть разведчикам в глаза. Тем, которые останутся живыми. Как они потом будут относиться к моим приказам и распоряжениям?
Командиру полка что? Приказал и на все наплевать. Сверху на него давить не будут. Разведка понесла большие потери? Что сделаешь? Война всё спишет!
Осечки и потери в разведке бывают. Всего не учтешь. Ребята тоже иногда допускают ошибки. Платятся за это жизнью. Но послать людей, как штрафников на заведомую смерть я не могу. Совесть не позволяет.
Стоит один раз сделать не по совести, сразу потеряешь доверие солдат. Без веры, людей на смерть не пошлешь!
Отдать приказ легче всего. Сказал: – Давай! – и солдаты пойдут. А что потом? Результат, будет какой?
Артиллерийской поддержки у нас нет никакой. Подавить батареи противника наши не могут. Поставить огневые заслоны на флангах участка в полосе действия разведчиков у артиллеристов не хватит пороха и духа, жила тонка.
Инструментальная разведка отсутствует, аэрофотосъемка обороны противника не ведется, крупномасштабные карты отсутствуют. В общем, у нас действует один метод: – Давай, давай! Это мы слышем каждый день. И ещё на нас давит и грозит командир полка и разведотдел дивизий.
Над землей нависла мглистая пелена дождя. Под ногами, куда не вступи, непролазная грязь и слякоть. Дождь идет, считай третьи сутки. Солдатские окопы залиты водой.
Мы идем на передний край и обходим раскисшие окопы стороной. Третьи сутки лежим под дождём… ходим в нейтральную полосу и лежим там под проволокой.
Немецкий участок обороны, где нам предстоит взять языка, глинистый. Земля не впитывает в себя воду. Дождевая вода заливает низины, окопы и хода сообщения.
Затяжной беспрерывный дождь загнал солдат в укрытия. У нас, редкие часовые торчат в залитых водой ходах сообщений. Плащ-накидки на солдатах намокли и разбухли. Посмотришь на часового со стороны, он похож на торчащий пень или на вросшую в землю корягу. Во всяком случае на живого солдата он не похож. Стоит в мутной воде неподвижно. То ли он смотрит куда, то ли он спит стоя? В такую погоду все живое скрючилось, съежилось и остолбенело. Поверх бруствера поглядывают две, три неподвижные фигуры. А в траншее, считай, должна сидеть целая рота. Часовые посматривают в сторону немцев, а что они видят? В десяти шагах впереди, перед тобой, стоит сплошная стена дождя. Дождь налетает то сплошным косяком, то сыплет мелкой водянистой пылью.
Телефонные провода лежат в воде. Слышимость пропала. Связь не работает. Телефонисты поорали, погалдели в трубку, охрипли и закрыли рты. Чего зря орать? Провода из кусков. Во многих местах оголённые.
Редкий связной пробежит на передовую. Вон бежит паренек по мокрой глине, ноги разъезжаются. Где ступить в потоке воды, не видно. Вот он добежал до передней траншеи. Шинель от дождя побурела, пропиталась водой, стала тяжелой. Потоптался связной около траншеи, везде воды покален, в траншею не полез. Побежал вдоль хода сообщения к ротной землянке.
Нам на рассвете брать языка. Для нас такая погодка самая благодать! К немцам даже днем можно на двадцать метров подойти и не увидят. Пока немецкий часовой опомниться, ему прикроют рот и он не успеет пикнуть. Одежда тяжелая. А сверху все льет.
Вперед подвигаемся медленно, чтобы не оступится, не упасть, не сделать резкого движения. При такой ходьбе тратишь много сил. Подошел к немецкой проволоке и выдохся. На ногах налипнет глины по пуду. А главное только начинается.
Погода и ненастье работают на нас. Кому-кому, а немцам мокрая курица клюнула в задницу! С неба сыпет противный мелкий дождь. Промочит немцев он до костей.
Торчат они в окопах, хоть и стоят на деревянных решетках. У них все не как у людей. Наши по воде шлепают и не городят себе настилов из жердей. У немцев в дождь часовые стоят на деревянных настилах, как памятники на пьедесталах. Внизу на дне окопа, под настилом, мутная вода, а у него под ногами сухо, деревянная решетка из струганных досок поднята выше. Из-под каски выглядывает гнусная физиономия. Губы посинели, непослушная челюсть дрожит, как кленовый листок. На плечах лоскут мокрой ткани. Шинель ниже пояса намокла и обвисла. Полы шинели потяжелели. С них ручьями стекает дождевая вода. Сидало у немца пропиталось водой, оно холодит и прилипает к заднице. Ему бы сейчас зонтик! И тросточку вместо винтовки!
Ремень винтовки у немца висит на шее. Воротник шинели поднят и подоткнут под каску и ремень. Винтовка стволом поперек висит на груди. Руки втянуты в рукава. Немец стоит и сдувает с кончика носа дождевые капли.
От мокроты и холода немец ушел мыслями в себя. Он сжался в комок, и окружающий мир для него отсутствует. Он стоит на деревянной подставке и смотрит в пространство. А куда смотреть? Если ничего не видно.
Голенища сапог у немцев короткие. Только и смотри, чтобы не черпнуть мутной воды, если оступишься. И немец чуть-чуть нехотя шевелится.
Брать такую мокрую курицу для нас одно удовольствие. Это не то, что лезть в сухой окоп, когда немца погода до костей не пробивает.
– С погодой нам братцы считай, повезло! – говорю я шепотом своим разведчикам.
– Пока он проморгает глазами, пока он выставит руки наружу, протрет глаза, вы успеете взять его и дать ему под зад коленом.
– Берите его в охапку! Руки придержите, чтобы не дотянулся до винтовки.
– Рот не забудьте ему заткнуть и смотрите в оба!
Мы с Рязанцевым остаемся лежать в низине. Захват группа и группа прикрытия уходят вперед. Немца брать будут трое. Пятеро их прикроют. В такую погоду толкучки около проволоки не следует создавать.
Так оно и случилось. Не успели трое ввалиться в окоп, схватить немца за мокрые полы шинели, как двое разведчиков подхватили его и он повис в воздухе над окопом в горизонтальном положении. Третий прикрыл ему рот и снял с головы ремень винтовки. Двое подсунули ему ладони под поясной ремень и он, едва касаясь ногами земли полетел вперед, как птица на легких крыльях.
Перед глазами у немца замелькала размытая дождем земля. Двое разведчиков, поддерживая его навесу, бегом уходили в нейтральную полосу.
Через некоторое время немцу ударили в лицо мокрые листья и ветки кустарника. Плеснул в лицо прохладный душ дождевых капель.
Только теперь немец сообразил, что его схватили и волокут русские. От сознания, что он попал в плен, что все его расчеты на Великую Германию рухнули, он содрогнулся и застонал. Плен! Далекая Сибирь! Которой его прежде пугали. По всему телу пробежала неприятная дрожь. Ему вдруг стало невыносимо жарко и захотелось пить. Он стал облизывать верхнюю губу, по которой с лица скатывались прохладные струйки дождя. В глазах помутилось. Через минуту он пришел в себя. На душе было спокойно и всё совершенно безразлично.
Теперь он стоял на ногах. Двое русских стояли около него и улыбались. Он почувствовал твердую землю под ногами. Третий, что был сзади, приблизился, поддел его стволом автомата под бок и легонько прошелся ребрам. При этом заулыбался до самых ушей. Один из двоих, которые его тащили за ремень, надвинулся на немца вплотную, схватил его за плечи и как вожжи потянул на себя. Он наклонил немного голову вниз и боднул немца головой и обнял руками крест на крест.
– Фриц? Адольф? – тыкая пальцем, спросил он немца.
– Нейн, нейн! Их бин Вальтер!
– Значит Вальтер! – сказал третий, который прыгнул в окопе на немца первым,
– Ну дорогой! Дай я тебя обниму и поцелую! – и солдат обхватил немца обеими руками, подвинул на себя и поцеловал его в посиневшие губы.
– Тьфу ты зараза! – произнес он в сердцах и смачно сплюнул на землю при этом. Все остальные засмеялись. Целовать немца, кроме него никто не смел. Кто бросался в траншее на немца, тот потом и целовал его, комедию разыгрывал. Таков был заведен в нашей полковой разведке обычай. И его выполняли каждый раз.
– Вот братцы! Какую гадость приходиться целовать! Хоть бы девку, какую поцеловать для приличия!
– Молодец камрад! Хорошо ты нам под руку попался!
Немец стоял, втянув в себя шею. Он ничего подобного не ожидал. Он думал, что они, ткнув его в бок автоматом, расстреляют тут же. А они были рады и улыбались как дети. Он пытался разгадать их загадочное поведение. Неужели это ирония судьбы? Сначала посмеялись, а затем расстреляют. Им всегда внушали, что русские не оставляют пленных в живых.
Тот, что целовал и плевался, достал кисет, оторвал кусок газеты, скрутил козью ножку. Щелкнув зажигалкой, он затянулся несколько раз и раскурив её, спросил:
– Раухен!
– Яа, яа! – и немец достал из кармана сигареты.
Выпустив клубы махорочного дыма, солдат вынул изо рта козью ножку и не спрашивая, сунул её немцу в рот.
– Данке шон! – промямлил понимающе немец.
– Кури, кури! – сказал солдат и забрал из рук немца пачку сигарет.
Солдат угостил сигаретами стоящих рядом. Немец тянул набитую махоркой козью ножку, а русские дымили немецкими сигаретами. Затянувшись насколько раз, немец поперхнулся и на глазах у него появились слезы.
– Руссишь табак зер штарк! – произнес он.
– Кури, кури! Скорей подохнешь! – сказал солдат и все засмеялись.
– Данке шон! Данке шон!
– Нам с тобой повезло! Мы тебя голубчика без шороха взяли! Все обошлось как надо! Молодец Вальтер!
На переднем крае у немцев пропажи не хватились. Ни пулеметной стрельбы, ни снарядных разрывов. Они даже не трехнулись, что у них сняли часового.
Можно в передней траншее передохнуть, пока все наши здесь соберутся. Торопиться вроде некуда. В полку и в дивизии подождут. Им пленный не срочно нужен. Это жареный баран к обеду должен поспеть! Им пленный нужен для отчета. Вот, мол, мы какие молодцы. Вы нам с верху ничего, а мы вам, пожалуйста, контрольного пленного для отчета приготовили.
Главное в том, что мы без потерь его взяли. Для нас, для разведчиков жизнь каждого дорога. Взяли, отдадим! Но плохо одно. Опросный лист потом из дивизии не получишь. Пленного брали мы и ничего о нем не знаем.
– Ну что пошли! – говорю я, когда все разведчики собрались в кустах около траншеи. В тыл мы идем тоже рассредоточенно, чтобы не попасть под случайный обстрел. Впереди группа захвата с пленным немцем, за ней мы с Рязанцевым и следом группа прикрытия и обеспечения.
Идем по дороге молча, обходим глубокие лужи. Слышно чавканье сапог по влажной земле, удары крупных капель, когда проходим кустарник.
Настроение у всех хорошее. Теперь каждый мутный ручей и залитая водой низина, нам не помеха. На душе легко, светло и мухи не кусают!
Я вспомнил, как мальчишкой бегал по лужам, брызгая в стороны. И чем глубже лужа, считай, что тебе исключительно повезло.
Небо после дождя заметно просветлело. Сверху еще капало изредка. Мы были все мокрые и грязные, но на душе было легко и весело.
Дело сделано! Свалились все мысли и заботы! Видать тихий немец попался. При захвате не пикнул, не огрызнулся, сопротивления не оказал.
Смотрю на немца и говорю Рязанцеву:
– Смотри, как бойко шагает. Старается от ребят не отстать. Чуть соскользнула нога – хватается за ребят. Уж очень он вписался в группу захвата!
Теперь идти не далеко. Скоро доберемся до своей землянки. Старшина уже начеку. Нальет всем по сто грамм и сала по куску на закуску отрежет. Немцу тоже плеснём сто грамм. Такой уж порядок в разведке. Старшина отрежет ему кусок хлеба и сала тоненький кусочек положит сверху. Что6ы запах был.
Нальет и нам с Федей горло промочить, чтоб голос не потеряли. Старшина знает порядок. Сегодня больше сто грамм он никому не нальет. Завтра, когда разведке объявят недельный отдых, тогда всем прибавит. У него свои запасы есть. Захват группа на особом счету. Ей и норма водки двойная. Хочешь, пей сам! Хочешь, угощай кого.
Часы, фонарик и зажигалка немцу теперь не нужны. Ребята из захват группы оставят их себе на память. Потом, когда ни будь чиркнет зажигалкой и скажет напарнику:
– Помнишь немца, которого в дождичек прихватили!
Полковые конечно будут недовольны, что трофеи остались в разведке. Трофеи, добытые разведчиками перекочевывают в полк не прямым путем, а через нашего старшину. Перекочевывали, так сказать, в обмен на водку и сало.
Нам за каждого языка давали недельный отпуск. Мы отдыхали в тылах полка. Разведчиков с фронта домой не отпускали. Боялись вражеской агентуры. Кто его знает? Может, он завербован, а то, что на передовой воюет и ходит на смерть, это только прикидывается. Человека трудно распознать. Чужая душа потемки! Людям с передовой особенно не доверяли.
Через две недели дивизия снялась из под Великих Лук и взяла направление на юг. На этот раз нам предстояло пройти значительное расстояние. В светлое время суток стрелковые роты располагались в лесу, на привалах, а когда темнело, выходили на дорогу и совершали марш. Так мы сделали несколько переходов, пока однажды не подошли к мосту через Западную Двину.
Нам велели расположиться в лесу на отдых. В лесу мы простояли весь день и следующую ночь.
Полки нашей дивизии шли по дорогам параллельным маршрутом. В каждом полку свои обозы и колоны. Мост через Двину единственная переправа, здесь скопились повозки и солдаты. Наш полок находился в лесу, пока другие полки переправлялись на тот берег.
Громыхали повозки по бревенчатому настилу. Слышались крики повозочных и топот солдатских ног. Десять тысяч активных штыков проходили мост и расходились по дорогам.
Утром настала наша очередь перейти на другой берег. Население деревень с любопытством смотрела на проходящие мимо них войска. Старухи почему-то крестились, закатывая глаза. Лица у молодух были задумчивы и неподвижны. Мальчишки, разинув рты, теснились у заборов. Старики понимающе качали головами.
Вырвавшись на лесные просторы Задвинья, полки разошлись по дорогам и скрылись в лесах. Так шли мы, пока не подошли к району сосредоточения. Когда нам приказали остановиться, мы догадались, что нашим переходам пришел конец.
Где мы находились в данный момент, определить было трудно. За дорогой на переходах мы не следили. Мы мысленно потеряли нить, по которой прошли.
Вообще такие переходы утомительны и однообразны. Втягиваешься в бесконечную дорогу, по которой идёшь и идёшь. Идешь, смотришь под ноги или в спины впереди идущим.
Под ногами то хлюпает жижа, то просто брызгает вода, потом ползет под ногами зыбкий песок, то идешь по травянисто твердой дороге. Идешь, шагаешь лениво и конца дороги не видно. Идешь, впереди тебя маячат спины солдат. За дорогой не смотришь, за направлением не следишь. Хлестнёт по лицу веткой, а ты даже не замечаешь в лесу ты или в поле мимо одиночно стоящего дерева идешь.
Однажды утром нас положили прямо на дороге. Вообще-то не положили, а мы сами легли. Из головы колоны передали команду остановиться. Кто, где встал, там и повалился на землю. Слева и справа от дороги слышались голоса людей, и чувствовалось какое-то скрытое движение. Мы их не видели, но по опыту знали, что они как муравьи копаются в земле.
Ранним утром по земле стелился туман. А когда взошло солнце, мы увидели солдат по внешнему виду не похожих на славян нашей дивизии. Каждая пехотная часть чем-то отличалась к одна от другой. Некоторые из солдат ходили, а основная масса работала лопатами. Они выбрасывали землю наверх и рыли узкие щели-укрытия. Кругом под деревьями свежие выбросы земли. Во многих местах окопчики и щели были обложены свежим дерном. Славяне другой дивизии усиленно зарывались в землю.
Но вот опять по нашей колоне передана команда. Мы поднялись с земли и медленно, куриным шагом, как это делают люди, подходя к гробу, чтобы последний раз взглянуть на покойника, начали движение. Теперь нам окончательно стало ясно, что отсюда мы начнем наступление.
Мы прошли чуть дальше вперед и впервые на лесной дороге увидели трехосные грузовые машины. Там где наши полуторки и Зис пятые по брюхо сидели в зыбкой земле, эти американские с передними ведущими с ходу проезжали дальше. Обычно для наших машин для прохождения низин валили лес и стелили гати, а эти колёсами легко ползли по земле. Их было не много, всего две штуки.
– Смотри! – оживились солдаты.
– Новая техника прёт!
– Пушек и снарядов говорят, навезли! По полсотни стволов на километр будут ставить!
Откуда наши славяне все знают? Шли вроде все одной колонной. А солдатня уже в курсе всех приготовлений. Солдатский нюх на всякие секреты непостижим! Пока до командира полка боевой приказ по инстанциям дойдет, простой солдат окопник уже знает наперед все подробности.
И вот вам ещё: – Эти все уйдут! Они для нас роют окопы! А наша дивизия здесь останется! – делают вслух заключение солдаты.
Солнце поднялось выше, осветило дорогу и мелколесье. Теперь было хорошо видно, что кругом кипела работа.
– Подготовку исходных позиций здесь начали в последний момент. – подумал я.
Уж очень торопились солдаты, кругом летела земля. Видны были полусогнутые спины, мелькали лопаты, под кустами и деревьями лежали штабеля бревен. Их заранее где-то заготовили, очистили от сучьев, привезли и сложили. Для нас готовили укрытия, которые мы займем за сутки до наступления. Расчет простой. Через два дня мы пойдем в наступление.
Над лесом низко пролетели два самолета типа Дуглас. Промелькнув красными звездами они скрылись в сторону тыла.
– Видно большое начальстве летает? – заметил кто-то, из солдат.
– Дура! Они окопы сверху осматривают! Как замаскировано? Что сверху видно?
– Щас по радиу сверху кому по мозгам дадут! Сверху видно, где плохо замаскировано!
Еще с полчаса мы толкались на дороге. Но вот наша полковая колона постепенно растаяла. Стрелковые роты ушли в отведенные укрытия, штаб полка занял несколько приготовленных специально для них блиндажей, артиллеристы полка спрятали свои пушки под навесы из жердей, забросанные сверху зеленью веток, снабженцы и тыловики остались где-то сзади. Мы, разведчики заняли несколько открытых щелей около пехоты.
Всему личному составу дивизии было строго-настрого приказано сидеть в окопах и не кому не ходить. Категорически запрещались в течение дня всякие самовольные хождения. Ночами под страхом смерти запрещалось курить.
И вот еще одна ночь осталась перед началом наступления. Ночью, когда стемнело, провели смену частей на передних позициях. Солдаты, стоявшие в обороне, оставили нам свои окопы, траншеи, хода сообщения и блиндажи. На переднем крае наступила тревожная тишина.
Рекогносцировку местности провели вечером со всем офицерским составом наступающих рот. Командир полка занял специально оборудованный блиндаж в сотни метрах от передней траншеи. Впервые командный пункт полка располагался в непосредственной близости от исходного рубежа пехоты. Да и пора бы было научиться воевать. Командир полка сзади поджимал комбатов. Те в свою очередь сидели в полсотни метрах от своих стрелковых рот. Командиры рот, как обычно, находились вместе со своими солдатами. Так уж с самого начала войны повелось. Солдаты вперед не пойдут, если увидят, что ротный топчется сзади. Другое дело, когда ротный с ними в цепи. Офицер спокойно идет и им нечего бояться. Командир роты рискует жизнью, – солдату тоже приходиться рисковать!
На командный пункт полка, в батальоны и роты подана проводная связь, У командира полка дополнительно рация для связи с дивизией. Каждый батальон поддерживает танковая рота. Танки стоят на исходных позициях, сзади пехоты. Для них в полосе наступления выделены особые проходы.
* Смоленская операция (07.08 – 02.10.43) 52 гв.сп, 17 гв.сд, 2 гв.ск, 39А, Калининский фронт
7 августа 1943 года, утро перед атакой
Ночь тянется медленно. Перед наступлением каждому, кто пойдет вперед, есть о чем подумать. Вот и притихли солдаты. Разговор не клеится, да и о чем говорить? Солдаты сидят неподвижно. Каждый ушел в себя.
Самое подходящее время помолчать и подумать. Время перед атакой остановилось совсем. Никто на тебя не кричит и не дергает. Это будет потом, когда поднимется цепь. До самой последней минуты будет бездействовать связь, будут молчать телефоны. Каждый в эти минуты предоставлен только себе.
Сидят солдаты в передней траншее и ждут, когда заваруха начнется. Кто из них завтра с рассветом останется жив, кому оторвет ноги или руки, а кто из них упадет на землю, не естественно и нелепо дернув коленками и взмахнув руками.
Молчат телефоны!
У каждого есть о чём-то подумать, о жизни! А что о ней думать? Окопнику она не светит совсем! Даже надежды нет! Не то, что самой жизни!
Я, Рязанцев и несколько разведчиков идем по передней траншее. Прохладный ночной ветер гуляет вдоль нее. Он то появляется и налетает, то исчезает совсем. Потом он снова тихо начинает шевелить листвой кустов над головой.
Солдаты сидят в открытых окопах и ждут рассвета. Посмотришь по сторонам. Сизый туман струится над передним краем. Присмотрись к серым шинелям, каждый солдат напряжен, хотя внешне не двигается, как будто спит спокойно.
Пройдись вдоль окопа! Многие лежат и сидят, привалившись к земле с закрытыми глазами. Но они вовсе не спят. Они чутко улавливают каждые шорохи и вздохи. Они прислушиваются к шепоту и вполголоса сказанным словам. Сейчас каждое слово, сказанное о немцах, ловится на лету. А что мы собственно знаем о них? Утром, когда сделаешь первый шаг навстречу немцам и смерти, о немцах и о жизни думать будет поздно.
Армейских разведсводок о немцах и о их оборонительных укреплениях нам не дают, чтобы мы их не боялись. Мы делали, по кустарному, свое опасное дело. Но психика солдат тоже отрицательный момент. Так он идет вперед и не знает, что там его ждёт, какие сооружения. Он их даже перепрыгнет и не поймет, что смертельный рубеж позади.
* * *

– курсивом выделен зачеркнутый текст
25.09.1983 (правка)
Август 1943
7 августа 1943 г.

Прорыв немецкой обороны на реке Царевич имел для нас особое значение. Впервые мы своими глазами увидели, что в войне с немцами произошел коренной перелом. Наша артиллерия нанесла по немцам мощнейший удар.
Столько лет мы воевали одними винтовками, несли огромные потери в людях, немец не жалея снарядов разносил наши позиции и сметал с лица земли наши наступающие роты. Каждый раз мы попадали под огонь его артиллерии, а он остервенело, мешал все живое с землей.
После стольких лет тяжелейшей войны, мы впервые увидели, как над немецкой обороной стало медленно подниматься к небу огромное черное облако дыма, пыли и земли.
На наших лицах вероятно можно было увидеть удивление, волнение и радость от всей души. У нас менялось выражение лица, потому что менялся характер войны. Теперь огневой смерч висел и клокотал над немцами.
По выражению лица немецкого пленного можно было точно сказать, как у них идут дела.
В начале войны пленные попадались с нахальными рожами. Встречались даже наглые и злобные лица. Зимой сорок первого, когда мы захлебывались кровью и отгоняли немцев от Москвы, у них на физиономиях появилась растерянность и недоумение.
В сорок втором, летом, они дали нам пинка из-под Белого, и на физиомордии у них появилось спокойствие, уверенность и твердость духа.
Весной сорок третьего, когда мы их отогнали от Ржева, на лицах у солдат фюрера отпечаталась тень сомнений, глубоких раздумий, внутренней борьбы и испуга.
И вот теперь в августе сорок третьего года лица у немцев осунулись, вытянулись, исказились от страха. У взятых в плен, появилась угодливая и слащавая улыбка.

Зря не фотографировали пленных немцев по годам. Всю пленку испортили на наших полковников и генералов. Разложить бы эти фотографии по годам, можно точно установить и представить картину кровавых событий.
С тех пор прошло много времени. Некоторые моменты и эпизоды стали меркнуть. Но стоит иногда пошевелить мозгами, поворошить в голове, как сразу перед глазами встают фотографии и целые застывшие и подвижные картины. Разве забудешь войну!
На войне у окопника зрительная память работает исключительно сильно. Звуки войны, те всегда на один мотив! Взрывы и гул, удары снарядов и посвист пуль. Имена людей из памяти улетучились. Сегодня он рядом, а завтра его нет.
– Эй, друг! Не помнишь, какая у него была фамилия? Зрительной памяти у солдата хватит на всю жизнь. В ней как на фотографиях всё зафиксировано. Всех имён солдат не вспомнишь. Грохот и скрежет металла и сейчас перед глазами стоит.
Не всем было дано увидеть войну глазами во всю ширь. Солдаты сидели, стиснув зубы, под обстрелами на передовой и гибли. А тыловые прятались в темноте блиндажей, прислушиваясь к отдаленному гулу немецкой артиллерии. Они и тогда считали себя участниками войны и фронтовиками. Как-то наш командир дивизии воскликнул:
– Я сражался с немцами под Духовщиной! А, честно говоря, он её никогда и не видел, войну то. Сражались другие! Он думал, куда и как пустить солдат на укрепления противника.
Когда-то мы корчились под ураганным огнем немецких батарей. И у нас от грохота лезли глаза на лоб. Теперь немцы на своей шкуре испытали войну во всей своей красе и блеске.
Что нужно русскому солдату? Харчей досыта! Снарядов побольше и стволов десятка два на километр. Вот когда он вылезет из своих окопов и будет смотреть в сторону немца разинув варежку.
Пока немцы придут в себя, славяне будут уже в немецкой траншее. Немец хочет подняться, а ноги его не слушаются. Нет сил, оторвать от земли обмякшее тело. Пальцем шевельнуть нет сил. Пока немец сообразит поднять руки вверх, его за шиворот вытащат из окопа и поставят на ноги.
Представьте себе, если человека с третьего этажа сбросить плашмя на рыхлую землю. Он не разобьется насмерть. Он останется жить. Но при этом он получит такой страшный удар, что некоторое время будет лежать неподвижно. Сидя в открытом окопе солдат, получает удары гораздо сильней. И не один, а сотни вперемежку. Тяжелые фугасные рвутся рядом, поднимая в воздух тонны земли. Представляете, какую силу ударов воспринимает тело солдата. Тяжелый снаряд вгрызаясь в землю рвется с огромной силой в какой-то миг. Рушатся блиндажи, окопы и солдатские укрытия. Ударная волна пронизывает все на своем пути. Разбивает в кровь лицо, сдавливает грудь, парализует дыхание. Самое безобидное, когда у тебя сочится кровь через сжатые губы.
Над немецкими окопами стояла темная мгла. Мы вылезли из наших укрытий, стояли на поверхности и посматривали вперед.
Когда после первого массированного удара наша артиллерия сделала короткий перерыв, наступила, как взрыв, тишина. Глазами видишь, что кругом ни всплеска огня, ни всполоха земли, а в ушах продолжает реветь. Звуки взрывов идут не со стороны немцев, не от земли. Они вырываются изнутри из твоей мозговой коробки.
В наступившей тишине отдельные немцы пытаются бежать. Я ухмыляюсь посматривая в бинокль. Все они не сделав, и двух десятков шагов попадут снова под обстрел и распрощаются с жизнью.
Дело в том, что если такой мощи огонь на короткое время стихает, то опытный окопник никогда не покинет своего укрытия, не побежит даже будучи легко ранеными. Опытный солдат пехотинец знает, что арт-огонь через минуту, другую взревет с новой силой. Перерыв в обстреле дают, чтобы слабонервные вылезли наружу из своих укрытий. А те, что похитрей лежат в окопах и блиндажах прижав головы и животы и не шевелятся.
Два, три робких выстрела прозвучали с той стороны. Нашлись же такие! Как будто из всей немецкой дивизии три покойника встали на ноги и в честь себя произвели салют. У них нервы не выдержали. Вот они и пальнули в нашу сторону.
Три коротких выстрела прозвучали как сигнал к началу нового массированного обстрела. Наша артиллерия снова рванула.
Вы наверно подумали, что в обороне немцев все кругом полыхало огнем и горело. Языками огня лизало кусты и стволы деревьев, были объяты пламенем бугры и накаты блиндажей и черным дымом коптили воронки после разрывов. Ничего подобного на войне не бывает. Потому, что кусты и деревья от разрыва снарядов не горят, если их предварительно не полить керосином или бензином. Это во время съемок для эффекта по незнанию дела поливают землю и кусты горючей жидкостью.
Я сам не раз бывал под такими обстрелами и знаю, что стоит жизнь солдатская не по кино, а на самом деле.
Когда-то мы тоже дергались сидя в окопах под ударами немецкой артиллерии. Теперь немцы испытали на себе наши страдания, ужасы и муки. Теперь ураган огня ревел над немецкими позициями.
Огромная серая туча расползлась и поползла по земле. Пауза оборвалась. Зловещая туча вздрогнула, загрохотала и ожила. Брызги огня взрывов распластались над землей, и с глухим стоном и скрежетом зашаталась земля, заходили окопы, запрыгали бревна накатов над блиндажами и землянками.
– Товарищ гвардии капитан! Если так и дальше пойдет, они нам ни одного живого фрица не оставят! Что они рехнулись? Смешают все с землей! Трофей не останется! Дорвались до снарядов! Стволы пожгут у орудий!
Но вот ударили реактивные установки. Их скрежет возвестил начало наступления. Огненные языки пламени проскребли воздух у нас над головами. Солдаты оживились, ожидая сигнала к началу атаки.
Мы с Рязанцевым стояли на бруствере солдатской землянки. Задребезжал телефон. Телефонист поспешно протянул мне из окопа трубку.
– Почему без время вылезли наверх?… мать! – услышал я в трубке зычный голос командира полка. Рев и скрежет реактивных снарядов заглушил его последние слова.
– Сигнала к атаке я ещё не давал!
– Жду сигнал, стою на месте и веду наблюдение! – крикнул я в ответ.
Бросив трубку телефонисту, спросил:
– Ты что ль ему доложил?
Я забрался на насыпь повыше, приложил бинокль и посмотрел, что творилось впереди. Но из-за дыма, летящей земли и пыли ничего не было видно. Стоя на насыпи, мы не кланялись, как это было прежде. На душе было легко и спокойно.
Сейчас, через несколько секунд, с КП командира полка взлетит в воздух красная ракета. Это сигнал нам и пехоте идти вперед. Красная ракета взмахнет над кустами в воздух, мы дернемся вперед и пойдем на немецкую траншею.
Перед концом обстрела разрывы снарядов следуют особенно плотно. Перед атакой пехоты, темп огня усиливается и ревет.
Немцы сидевшие в окопах и траншее не предполагали, что на них обрушится такая мощь огня. Под такими обстрелами человек теряет чувство времени и пространства. Можно представить себе, как немцы оцепенели от страха, ужаса и ударов. Что можно чувствовать и о чем можно думать, когда вокруг тебя взревела земля? Когда небо померкло, и траншея встала на дыбы. Страшная внутренняя борьба давит и душит человека. С каждой новой секундой он приближается реально к своей смерти. Совсем еще не жил, а смерть уже выхватила его и костлявыми руками сжала в объятиях, так что ни вздохнуть, ни бзднуть, ни пёрнуть! Как в этом случае выражаются солдаты.
Солдат понимает, что ничего не поможет. Что он сам ничего не может изменить. Под таким обстрелом остается только ждать и молиться. Каждый из них мысленно прощается с живыми.
Я видел, как наши солдаты под бешеным огнем доставали из-за пазухи крестики и карманные иконки, шевелили беззвучно губами. Шептали молитвы. А что делать верующему солдату, если он не верит в себя. Мальчишки, не веровавшие в бога, обращались к своим матерям. Мама спаси! – шептали они. Солдаты постарше закоренелые безбожники обращались мысленно к своим родным и близким, а иной матерщинник ради облегчения души слал в пространство проклятия и укреплял свою веру трехэтажным матом. Человек чувствительный находил утешение в слезах. Каждый по-своему готовился к смерти и прощался с жизнью. Страшна не сама смерть! Странно ожидание ее!
Немцы народ набожный и суеверный. У них, там, в Германии разные католики, протестанты, баптисты, евангелисты и прочие Христовы и божьи.
Теперь у немцев ходила земля под ногами. Теперь у них душа расставалась с телом. Под таким огнем молись, не молись, на лбу выступит холодный могильный пот и от страха на всю жизнь перекосит физиономию.
Не многие остались в живых с подергиванием головой и судорожной дрожью в коленках. Были и такие, к которым нельзя было приблизиться и за версту. У них от страха и спертого дыхания, обнаружилось расстройство кишечника. Да, да! Не улыбайтесь! Не делайте кислое выражение лица, не складывайте презрительно и плотно губы, если вам за обедом вспомнился вдруг этот случай. Не думайте, что если процедить сквозь зубы
– Фу ты! – то этого не было на войне. На войне всякое и не такое случалось.
Посиди в окопе, когда у тебя из-под ног уходит земля, когда от ударов у тебя спёрло дыхание, когда ты прощаешься с жизнью, когда ты узнаешь, что людей с железной волей под таким огнем не бывает. Это дешёвая показуха тыловиков, рассчитанная на простачков, пока их жареный петух в задницу не клюнул.
Часто бывало, когда самый безвольный солдат ведет себя под обстрелом внешне спокойно. Но это только внешне. В душе у человека идет борьба. Чувство долга и страх играют в картишки. Кто кого переиграет? Солдат может в этот момент отмочить шуточку, выкинуть фортель, а у друга в это время глаза от страха лезут на лоб. Потом этот же отчаянный храбрец от одиночного выстрела из винтовки приседает. Вот и пойми его, когда он боится, когда ему море по колен.
По частоте и силе взрывов, по ползущему облаку над позициями немцев было видно, что земля охвачена последней судорогой и агонией.
Грохот и гул снарядов не похож на бархатные раскаты грома во время грозы. Здесь особый зловещий отзвук.
Мы стояли на насыпи землянки и смотрели, как в последних муках корчились немцы.
И вот в небе повис условный сигнал красной ракеты. Мы шагнули вперед и в развалку размашистым шагам пошли на немецкие траншеи. Нетронутая снарядами трава в нейтральной полосе путается под ногами. Мы пересекли её и приближаемся к позициям немцев. Со стороны немцев ни единого выстрела. Артиллерийская стрельба – как мелодия! Такую мелодию с нашей стороны немцы раньше никогда не слыхали. Работала артиллерия резерва Главного командования. Полсотни стволов на километр фронта.
Мы шли по заболоченной равнине, поросшей мелким кустарником и кочками. Сухой земли было достаточно, чтобы не лезть в воду. Мы с каждым шагом приближались к немецкой траншее.
Нам бы радоваться, что немцы раздавлены. А мы идем и вспоминаем свои атаки прошлых лет, бесчисленные потери и кошмары, когда мы под огнем немецкой артиллерии приближались к последнему своему рубежу. У нас не укладывалось в голове, как мы могли без артподготовки наступать с одними винтовками. Теперь эти кошмары позади. Теперь можно воевать. Под такой грохот ноги сами идут, выбирая, где посуше.
А если вспомнить прошлое! За каждый вершок земли мы платили сотнями жизней наших солдат.
Не торопясь и поглядывая по сторонам, мы приближались к немецким траншеям. Теперь мы не кланялись нашей матушке земле, не дрожали под пулями и ревом немецких снарядов. Мы знали по собственному опыту, что немцы сидят прижатые к земле. Они подавлены и полуживы! Они охотно поднимут руки, чтобы избавиться от смерти и остаться жить. Жизнь у них теперь самый высокий смысл! Таковы законы войны! Они не побегут, чтобы снова попасть под огонь артиллерии. Они знают, что их списали и считают мертвыми. За семьи бояться нечего. Теперь одна возможность – остаться живым на земле. Страх перед смертью – мучительный страх!
Теперь мы своими глазами увидели, что нас поддерживает артиллерия. До сих пор нам только это обещали. Мы за долгие годы войны привыкли к пустой болтовне и обману.
Когда разговор заходил о наступлении и командир полка усиленно напирал на поддержку авиации и артиллерии, то мы заранее знали, что это он нам пудрит мозги. Мы спокойно смотрели ему в глаза и открыто улыбались. Видя, что мы не верим ни единому слову, он свирепел, бледнел в лице, клялся и божился, что уж на этот раз обязательно все будет, как он говорит. Но мы в ответ смеялись ему в лицо. Он усилием воли напускал на себя решительность. И металлическим голосом обрывал наш смех. Здесь я говорю о прошлых годах войны.
– Приказываю деревню взять! – кричал он, сорвавшись на тонкий голос.
– К исходу дня доложить! И прекратить смехоечки!
Мы пожимали плечами, в ответ ничего не говорили и расходились по ротам.
– Пора научиться в стрелковом строю воевать! – кричал он нам вдогонку. Вот после этого нам становилась ясно.
Мы понимали, что там наверху, откуда сыпались приказы на наступление, прекрасно знали, что солдат на деревню бросят с голами руками. Что артиллерии в полку нет, что никакой бомбежки с воздуха не будет. Как-то нужно было поднять у нас дух. Бывало, перед атакой для большей видимости по деревне бросят пару снарядов наугад. И это! Называли артподготовкой.
Выражать свое несогласие словами командиры рот не имели права. Нам тут же прилепили бы ярлык изменника Родины или агента немецкой разведки. Вот собственно, почему между нами и полковыми шла постоянная и молчаливая борьба. Такова была действительность. Мы должны были безропотно выполнять свое дело. Командир полка и комбат потом из тебя душу вытрясут, если ты после этих двух выстрелов не поднял своих солдат в атаку. А на счет авиации тоже было. Однажды где-то сзади по макушкам пострекотал наш самолет. Проурчал по макушкам кустов, сделал круг и убрался на аэродром восвояси.
– Ты слышал рев нашей авиации? – закричит в трубку комбат или командир полка.
– На тебя столько снарядов истратили и сожгли бочку бензина, а ты все лежишь? Он видите ли под огнем не может поднять головы!
– Для того и война, чтобы немцы стреляли! Отдам под суд! Если к вечеру деревня не будет взята! Поднимай солдат! Разговор окончен! Мне телефонист по телефону доложит, встал ты или лежишь!
Вот так мы воевали до августа сорок третьего. Теперь мы шли и смотрели, как рушились и летели бревна немецких накатов. Если и дальше так пойдет, то от солдат фюрера останутся только каски и лоскуты шинелей.
Мы идем вместе с нашей пехотой. Слышу говор солдат и отдельные фразы.
– Что же наши делают? Совсем остервенели! Пер-пашут там все с землей! Сам понимай, нам нечего будет делать!
Артподготовка внезапно оборвалась. Кругом все оцепенело. Как будто перевернулась другой стороной земля.
Уцелевших немцев страх удерживает на месте. Когда мы подошли к окопам, солдаты фюрера копошились в земле. Их в траншее осталось немного – десятка полтора. Там трое. Здесь четверо. В землянках с десяток.
– Морген фрю!- крикнул я, подходя к землянке.
– Гитлер капут! – залопотали немцы и подняли руки вверх.
Увидев, что мы не стреляем, они оживились и стали карабкаться вверх. Теперь немцы хотели одного – остаться в живых. На них было жалко смотреть.
Я взглянул на разведчиков и посмотрел на солдат пехоты, подбежавших к землянке. И сказал громко, чтобы все слышали: – К немцам не подходить! Никого не трогать! Для солдат пехоты, это был приказ в бою. И если солдат стрелок попал во время атаки вместе с разведчиками в одну компанию, то делай, как приказано и с разведчиками не шути.
Сделай не так – они тебя потом из могилы достанут.
Пока мы разбирались с немцами в передней траншее, немцы в тылу поставили дальнобойную пушку и стали из глубины одиночные снаряды пускать. Снаряды летели издалека. Выстрелов пушки не было слышно.
Мы собрали пленных и отправились в расположение полка. Немцы стояли кучкой около землянки командира полка. Я спустился вниз доложить обстановку. Когда я вышел из землянки наверх, рядом стоящие реактивные установки "Катюши" дали залп по немецким тылам. Установки стояли рядом, метрах в двадцати от нас. Страшный скрежет, разрывая душу, заревел поверх земли. Немцы мгновенно упали и ползали на животах по земле, не зная куда деться и где укрыться от этого скрежета. Я и разведчики остались стоять на ногах. Но невольно пригнулись. Казалось, что тело разрывает стальными крюками, что кости разваливаются и с них сползают мягкие ткани. Невыносимо было терпеть.
Реактивщики, когда запускают снаряды со своих установок, залезают под землю, прячутся в блиндажи или растягивают провод запуска подальше и лежатся на землю. Мы же остались стоять перед немцами. Неудобно вместе с ними валяться на землю нам, разведчикам. Я до сих пор не могу забыть этот пронизывающий все жилы и кости скрежет.
Командир полка нам велел идти вперед. Мы должны были с вечера где-то готовить разведку. Передав немцев охране полка, мы вернулись назад. По дороге, когда мы шли снова к немецкой траншее, немецкая пушка пускала снаряды на всем нашем пути. Пехота ушла вперед. Мы её не догнали.
За передней немецкой траншеей располагалось сухое болото, поросшее кустами и небольшими деревьями. Когда мы шли вперед, немцы наше передвижение не видели. Но на всем нашем пути периодически рвались одиночные снаряды.
В душе неприятно, когда ожидаешь разрыва очередного снаряда. Взрывы не частые, но нервы напряжены. Чорошо, если снаряд перелетит тебя и рванет где сзади. Все осколки при взрыве у снаряда идут вперед. Если сказать по совести – подмывает кишки, когда его ждешь перед собой, метрах в пяти. К передней немецкой траншее мы двигаемся гуськом друг за другом. Идем змейкой. И она извивается. Кое-где сквозь землю проглядывает хлюпкое болото. Место относительно высокое. Где-то здесь начинаются истоки Днепра. Высота над уровнем моря приличная. А под ногами то и дело хлюпает жижа и вода.
Вначале мы долго петляли, выбирая посуше дорогу. Раскатистые удары одиночных снарядов через каждые две минуты ложились на нашем пути.
Кустарник кончился. Дальше была сухая и открытая равнина. За кустами мы неожиданно наткнулись на немецкие артиллерийские позиции. Несколько расчищенных и утрамбованных площадок и глубоких блиндажей располагались на возвышении.
Вначале, мы решили, что немцы успели увезти от сюда свои орудия. Но следов поспешного бегства на позициях и вокруг мы не обнаружили. Вокруг ни обычного мусора, ни стреляных гильз, ни воронок от наших снарядов. Рядом, с артпозициями – площадками, два блиндажа в четыре наката, с дощатыми полами, с двухэтажными нарами из струганных досок. Дверь нараспашку. Спускайся по деревянным ступенькам и заходи.
Спускаюсь в блиндаж, принюхиваюсь – специфического немецкого свежего запаха нет. В любом месте, где жили немцы, можно по запаху определить, когда его покинули немцы. Запах не зрение. Немец ушел, а запах остался.
Помню в одной деревне, когда я еще был командиром роты, зашли мы в избу напиться.
– Бабка! Дай водицы попить! – обратился я к старушке шустрого вида.
– Испей сынок! Испей! Чай воды не жалко! – и она, зачерпнув из ведра, поднесла мне железный черпак. Черпак в виде кастрюли с железной длинной ручкой. Пью глотками воду и смотрю на старуху.
– Скажи-ка бабка, давно от тебя немцы ушли!
– Что ты сынок! Что ты родимый! Они у меня не жили. Это соседи набрехали тебе.
– Я к тебе бабка, к первой зашел! – передал черпак солдату и еще раз повел ноздрей.
– Зачем же ты врешь, старая! Полы у тебя начисто выскоблены. Помыты, засланы половиками. Немецкие солдаты ходят с грязными ногами. Половики и чистые полы им вроде и не к чему. Жили у тебя, старая карга, немецкие офицеры! Брились каждый день. Эрзац одеколоном брызгались! А ушли они от тебя сегодня утром.
Теперь ты скажешь мне как долго они у тебя стояли?
– Ох, виновата я! Ту, шешка рогатый попутал! Целый месяц стояли! Сегодня утром ушли! Прости ты меня сынок, батюшка!
– Никакой я тебе не сынок и не батюшка! По законам военного времени расстрелять тебя, старая карга, полагается за обман своих же русских солдат. Они жизни своей не жалеют. А у тебя видно душа к немцам лежит.
Старуха запричитала, сморщилась, сделала жалостливую физиономию, заморгала глазами и, крестясь, забила поклоны в сторону иконы.
Пока я спрашивал старуху и выяснял, сколько немцев и в какую сторону они пошли, солдаты по очереди напились и направились к выходу. Молодой паренек, солдат пивший последним, бросил железный черпак в ведро. Черпак с лязгом ударился в ведро. Удар получился резкий, громкий и неожиданный, как выстрел из винтовки. Старуха громко вскрикнула и упала ниц под дружный хохот выходящих из избы солдат.
Но вернемся к немецким блиндажам, которые мы осматривали. Первая мысль – не заминированы ли они? Осмотрев пол и стены, нары, скамью вдоль стены и стол, мы не нашли ничего подозрительного. Все было покрыто тонким слоем пыли. Все было покрыто тонким слоем старой пыли и нового землистого налета после нашей артподготовки. К блиндажам не была подведена проводная связь, как обычно она остается на недавно брошенных позициях. Впопыхах немцы не могли смотать провода и забрать аппараты. При поспешном отступлении немцы бросают все. Специфический запах их присутствия был не резкий. Очевидно, позиции были оставлены давно или были резервными. Строительством артиллерийских позиций и блиндажей у них занимались специальные инженерные части. Это у нас пришел куда, хочешь, зарывайся в землю, хочешь, лежи на брюхе.
Я вышел на поверхность, где меня ждали разведчики. Рязанцев с группой ушел вперед догонять пехоту. Со мной был ординарец и трое солдат. Одного из солдат я послал в штаб полка доложить, что для них есть подходящее укрытие. В мои обязанности не входило искать блиндажи для командира полка. Я просто наткнулся на них случайно и решил, что лучше занять их для штаба, чем отдавать артиллеристам и прочий братии, которая сидела у нас за спиной. Не знаю, оценил командир полка мою услугу, но вскоре он со всей свитой прибыл сюда.
Командир полка спустился в блиндаж, ему подали карту. Он расстелил ее на столе, уселся на лавку и задумался. В блиндаже и в проходе толкался разный народ. Одни куда-то бежали, а другие наоборот приходили и тут же прятались под накаты. Дело в том, что немец продолжал в нашу сторону пускать шальные снаряды.
Через некоторое время командный пункт оброс телефонными проводами. Провода уходили в разные стороны. Блиндаж постепенно наполнялся народом. Здесь офицер связи из дивизии, политработники полка, артиллеристы.
Телефонисты, ощупывая провода, кричали в телефонные трубки. А те, кому нужно было только быть на глазах у командира полка, стояли, сидели и курили. Они молча посматривали на накаты потолка. Там наверху, на поверхности земли раза два остервенело, рванули немецкие снаряды.
В блиндаже находились и такие бездельники, вроде меня, которые забрались на нары и сидели ничем не занятые. Я сидел на нарах и болтал ногами. Я смотрю на тех молчаливых, которые задумавшись, рассматривают накаты на потолке. Они пытались определить надежность перекрытий.
– А что, если в блиндаж попадет снаряд, может пробить потолок? – спросил кто-то. Взглянув на потолок и покачивая носком сапога, я поясняю вслух:
– Здесь бомба в полсотни килограмм ничего не сделает!
Любопытный взирают на бревна и на меня. Они довольны, а я ухмыляюсь и моргаю своему ординарцу, сидящему рядом на нарах. Он смотрит понимающе на меня, фыркает и отворачивается к стене, расплываясь в улыбке.
– Ну, уж и так? – сомневается один.
– Раз разведчик сказал, можешь не сомневаться! – говорит другой, ему в ответ.
Задание на разведку я от командира полка еще не получил, потому сижу и бездельничаю. Сейчас ему не до меня. Ему нужно срочно разобраться в боевой обстановке. Он должен связаться с батальонами и доложить положение дел в дивизию. У меня пока свободное время.
Наша пехота находиться не далеко, на расстоянии километра. Оружейной стрельбы не слышно. Пехота как обычно залегла и не собирается двигаться вперед.
О своем деле я заранее позаботился. Вперед с группой поиска ушел Рязанцев. Я велел ему поползать, понюхать, разобраться, что к чему, но в перестрелку не вмешиваться. К вечеру, когда стемнеет, он должен попытаться в немецкой обороне найти лазейку. Немцы из резерва еще не успели подвести свои войска. Сейчас, из остатка солдат, немцы хотят на нашем пути поставить пулеметные заслоны. Они кое-где окопались и огнем пулеметов прижали нашу пехоту к земле. Одно орудие из-за высот ведет огонь по подходам к этим временным позициям.
Артиллерии сопровождения в передней цепи ни у нашей пехоты нет. Наши солдатики напоролись на пулеметы, взяли и залегли. Теперь они требуют артиллерией выбить немецкие пулеметы. А полковые артиллеристы на прямую наводку бояться идти. Они всякое говорят, что лошадей побьет, что на руках по кочкам не выкатишь, что нужно ударить по немцам из артиллерии, стоящей на закрытых позиций, что потеряем людей и пушки, и что пулеметы меняют свои позиции.
Пехота требует в передовые цепи установить полковые пушки! Вот до какой наглости окопные славяне нынче дошли! В наше время прежде такого не было!
Я вышел из блиндажа и стоял наверху у входа. В воздухе периодически шуршали немецкие снаряды. Они летели то выше, то ниже и рвались беспорядочно кругом. Когда немцы ведут прицельный огонь, то разрывы лежаться по определенной системе. А эти рвутся, где попало. Немцы вели стрельбу наугад. Если снаряды летят вразброс, то такой обстрел меня мало пугает. На войне всякое успеешь повидать. Хотя случайный снаряд может прилететь и разорваться у самых ног.
От этого не уйдешь! Снаряд может ударить тебя в любом месте. Люди, сидящие в блиндаже под накатами в два обхвата тоже были не застрахованы от прямого попадания. Перекрытие из толстых бревен снаряд не возьмет. А в открытую дверь залететь может вполне случайно. Потому как дверь блиндажа смотрела в немецкую сторону. Вот почему, когда я подморгнул ординарцу, он заулыбался и отвернулся к стене.
Я стоял и курил, посматривая в сторону передовой. Где-то там лежали солдаты нашей пехоты.
Было еще светло, но день заметно клонился к вечеру. Вдруг по всей линии фронта, где окапались немцы, в небо взметнулись сигнальные ракеты.
Возможно немцам дали команду обозначить ракетами свой передний край. Для чего иначе им при дневном свете пускать осветительные ракеты? Не перешли же немцы в контр атаку на нас? Ракеты могли обозначать, что русские ни на одном участке не обошли выставленные заслоны и не просочились сквозь них.
Перед блиндажом был мелкий кустарник. За кустарником открывалась равнина. За равниной находились небольшие бугры, на которых закрепились немцы. Видно было, как иногда там поблескивали трассирующие немецкие пули.
Решив подняться повыше, чтобы лучше рассмотреть немецкий передний край, я велел ординарцу достать из заплечного мешка трофейный бинокль и забрался на насыпь блиндажа. Десятикратный немецкий бинокль тяжелый. Вот так ударить в горячке, кого по голове – череп пополам и мозгами брызнет наружу, подумал я. Таскать его на шее, на ремешке, тяжело и неудобно. Его таскает ординарец за спиной в вещмешке.
Вскинув бинокль к глазам, я обвел край равнины и осмотрел бугры, где засели немцы. Кое-где я останавливал дольше свой взгляд и рассматривал характерные складки местности. На буграх видны были проблески трассирующих. Немцы периодически вели интенсивный огонь, как будто на них наседала наша пехота. Но наши славяне давно залегли. Они требуют артиллерию, танки или самоходки.
Из пушек по пулеметам бить одно удовольствие. Чего там наши артиллеристы в кустах жмутся? Ждут пока немцы сами уйдут с этих бугров? А немцы стреляют со страха и перепуга. Они стараются создать видимость огня. Славяне на пулеметы в открытую не пойдут. Это мы в сорок первом и в сорок втором ходили. Полковая артиллерия боится попасть под пулеметный огонь. Они видно и не подцепили до сих пор к пушкам конную тягу.
С закрытых позиций по пулеметам надо бить батареями не жалея снарядов. Да и попасть в них, они всё равно не попадут. Пока артиллеристы отбрехиваются, пехота на занятом рубеже пролежит до утра. Докладывать о немецких пулеметах и выдвижении пушек на прямую позицию командиру полка я не стал. У него есть комбаты. Они ему докладывают. Пусть он с ними решает эти вопросы.
Я стою, смотрю и думаю, что там, на буграх, проще простого ночью взять языка. Стабильная, сплошная оборона у немцев отсутствует. Здесь можно в любом месте зайти к ним в тыл.
Я хотел посмотреть в другую сторону, но в это время меня вызвали к командиру полка.
– Продвижение наших стрелковых рот остановлено! – начал он сразу.
– Немцы сумели поставить заслоны! Пулеметным огнем остановили наших солдат! Пойдешь во второй батальон! Установи точно, где залегла наша пехота и через батальонную связь мне доложи! Комбат "Второй" докладывает, что он находиться на подступах к церкви Никольское. Командир первого батальона с двумя стрелковыми ротами на противоположном берегу оврага. С наступлением темноты силами разведвзвода организуй ночной поиск! Дивизия требует взять контрольного пленного! Обрати внимание на границы нашей полосы наступления. Язык с участка соседнего полка, мне не нужен! Смотри сюда! – и командир полка показал мне по карте положение наших двух батальонов,
– Товарищ гвардии капитан! Вас требуют на выход! – крикнул из прохода дежурный по КП полка. Я знал, что кроме связных от Рязанцева меня никто не должен спрашивать.
– Скажи сейчас выйду!
Закончив работу над картой, я встал из-за стола и обратился к майору.
– Я могу идти?
– Иди, иди! У тебя сегодня будет много работы!
Во время войны было обычным, когда комбаты сидели не там, как об этом докладывали они. По телефону они докладывают уверенно. А придешь на место, обнаруживаешь ошибку в пятьсот метров и больше.
Впереди у нас наступало два батальона. Третий батальон был в резерве.
Я вышел из блиндажа. Наверху было темно, Недалеко маячили две темные неясные фигуры. Разведчики не любили тереть и мозолить глаза полковым. Они когда приходили, держались от них на расстоянии.
Двое ребят были одеты в летние маскхалаты. Летние от зимних отличались пятнистой зеленоватой окраской. А так, та же рубаха навыпуск и те же штаны. По знакомой форме одежды я сразу узнал своих ребят. Остальным в полку летние маскхалаты были не положены. Две фигуры шагнули мне навстречу, и в тот же момент пропали из поля зрения. Через секунду, другую – я их увидел на фоне черного куста.
Во время ночного поиска разводчик ищет немца не по запаху, как я обнюхивал немецкий блиндаж. А по характерному очертанию каски и особенностям немецкой униформы. Немецкий камзол с темным воротничком даже ночью бросается в глаза, если ты даже в этот момент на него не смотришь. Выходя на ночной поиск, разведчик во всех деталях и позах заранее представляет нужный ему образ. Сидит ли немец на корточках или привалился к стенке окопа, опытный глаз разведчика моментально выхватит его из окружающей среды и темноты.
Вспоминаю, как было в начале войны. Тогда мы пытались себе представить, как могут выглядеть немцы. Мы стояли в обороне друг против друга, но не знали, какие они из себя. Многие солдаты и офицеры провоевали в пехоте неделю другую, но так и не знали, как выглядят немцы.
Недаром, когда разведчики ведут в тыл языка, со всех сторон сбегаются тыловые вояки посмотреть на пленного "Интересно! Какой он?". А нужно бы было иметь к началу войны фотографии и киноленты с изображением немецких солдат и офицеров.
Ко мне подошли разведчики. Они сообщили, что группа поиска нащупала проход в обороне немцев.
– А где Федор Федорыч?
– Рязанцев с ребятами сидит в боковой балке оврага на той стороне вместе с пехотой.
Летом ночное время короткое. Сейчас нужно быстро дойти до передовой. Уточнить где эта лазейка. Составить план поиска. Пройти нейтральную полосу. Обойти немецкие посты. Зайти к ним в тыл. Найти и взять языка и вернуться обратно. На обратный путь может уйти не меньше времени. На все раздумья и дела – несколько минут! Сейчас надо торопиться, обдумать все на ходу. Времени нет. Обстановка требует быстрых действий. По дороге нужно настроиться. На авось, идти нельзя. Жаль, нет запаса продуктов. Можно было махнуть подальше к ним в тыл. Выбрать место, сделать засаду. И громить всех, кто приблизиться на расстояние выстрела.
Выслушав разведчиков, я отправился вместе с ними на передовую. Где и как мы шли, я ночью к дороге не присматривался. Я шел за разведчиками и думал о предстоящих делах и торопился к Рязанцеву, чувствуя, что нам на этот раз легко удастся взять языка. Фронт не стабильный. Немцы сами не знают, кто у них справа, а кто слева.
Где-то в конце пути мы пересекли крутые скаты глубокого оврага, перебежали участок открытого поля и оказались в неглубокой балке, где сидела наша пехота.
Мы, как темные тени, соскользнули к ним вниз. Солдаты стрелки нас не окликнули. Они издали почуяли, что пришли свои, разведчики?
Над оврагом изредка посвистывали трассирующие. Где-то правее, на участке соседнего полка рвались мины. А в остальном на переднем крае было тихо.
Мы спустились на дно неглубокой балки, сети и закурили. Здесь проходил передний край. Рязанцев подробно рассказал, где и как им удалось обнаружить проход в обороне немцев.
– Немцы, от сюда недалеко! – сказал он.
– Глубокий центральный овраг идет в сторону немцев. Он рассекает их оборону как бы на две части. По дну оврага течет небольшой ручей. Вода после дождей поднялась. Середина оврага залита водой. Но земля под ногами каменистая и твердая.
– А как глубина?
– Глубина небольшая. Где покален, а где не больше четверти. По всей воде лежит сплошная трава.
– А вы где шли?
– По воде, правой стороной. Немцы думают, что здесь непроходимое болото. В овраг лезть боятся и по оврагу не стреляют. По той стороне оврага, по краю крутого склона проходит узкая и твердая дорога. Немцы боятся, что наши этой дорогой пойдут. Ночью дорогу освещают ракетами и простреливают пулеметным огнем. Наши славяне на стрельбу не отвечают. Сам знаешь, солдаты не любят стрелять и портить патроны.
Днём немцы стреляли непрерывно. К ночи успокоились. Сейчас почти не стреляют. Изредка светят ракетами.
– Может, поищем чего в другом месте?
– Ладно! Дальше давай докладай!
– Если пойдем по воде, – продолжал Федор Федорыч, – и попадем под пули, укрыться будет негде. Здесь кроме воды – ни кочки, ни бугорка!
– А как же вы прошли?
– Мы прошли по воде правой стороной спокойно, без выстрела. Думаю и в этот раз пройдем, если при захвате языка он нас не обнаружит.
Рязанцев помедлил, хотел что-то добавить, задумался и совсем замолчал.
– У тебя Федя всё?
– Кажись все! – ответил Рязанцев и глубоко вздохнул.
– Ты мне самого главного не сказал. Где вы по бугру поднимались? Как немцев обошли?
– Я скажу тебе, где мы нашли проход. А ты слушай и сам решай! Идти нам туда за языком или готовить новое место?
– Давай по порядку! Рассказывай! Я слушаю тебя!
– По воде мы ушли дальше обрыва, где немцы сидят. В темноте не разглядишь. Особо не видно. Когда немцы пустили ракету, я увидел, что мы мимо прошли метров на пятьдесят.
Я не мог понять. Как это случилось. Но потом обрадовался, когда при свете ракеты увидел, что мы оказались у немцев в тылу. Назад смотреть они не будут. Мы перешли на их сторону, подошли под обрыв и наткнулись на дорогу, которую они охраняли. Я постоял немного, подумал. И мы повернули назад. Мы пошли по дороге под самым обрывом. Они сидели наверху, а мы внизу прошли у них под самым носом. Склон оврага крутой, в этом месте делает уступ. В углу уступа – расщелина, размытая после дождей. По ней везде кусты и деревья. Если немцам с обрыва бросить камень, то он попал бы по голове кому из ребят. Мы шли, прижимаясь к самой стенке обрыва. Расщелиной мы поднялись наверх. Там наверху ровная и твердая земля. Недалеко от края расщелины проходит грунтовая дорога.
Если мы сейчас пойдем туда, думаю, что к рассвету со всеми делами управимся и обернемся. Сделаем засаду около дороги. Глядишь по ней кто и пойдет. Должны же они своим подносить еду и патроны. Нам все равно кого схватить. Лишь бы попался. Другого подходящего места нет.
– Ну, вот что Федя! Отбери людей. Шесть человек. Группа должна быть маленькая, незаметная. Троих на захват. Остальных в прикрытие возьмем с собой. Я с вами иду!
– А чего ты? Мы сами справимся! Без тебя обойдемся!
– Знаешь Федя! Мне тоже надо поддерживать спортивную форму!
Мы прошли вдоль боковой балки, где сидели стрелки солдаты, спустились на дно глубокого оврага, зашли в воду, повернули направо и по воде тихо двинулись вперед. Впереди группа прикрытия, за ней мы с Рязанцевым и группа захвата. Мы идем гуськом, один за другим в пределах прямой видимости. Сбиваться в кучу нельзя. Растягиваться и отставать тоже не положено. Во время движения мы должны поддерживать локтевую связь, видеть друг друга, понимать сигналы. Открывать огонь без моей команды запрещено. Главное сейчас, скрытность и выдержка! Когда дойдем до места, группы сделают перестановку. Вперед уйдет группа захвата. А сейчас мы собой прикрываем ее.
Слева над оврагом взлетела ракета. Овраг осветился бледным мерцающим огнем. Яркий горящий огонь ракеты взметнулся вверх и повис, замер на какое-то время, как будто зацепился за макушки деревьев. Но вот он снова вздрогнул и стремительно понесся вниз, оставляя за собой полосу белого дыма. Отблески света стремительно побежали по земле. Мерцающий свет ракеты выхватил из темноты рваные края оврага, отдельные кусты и небольшие деревья. Длинные дрожащие тени колыхнулись и побежали по земле. Свет ракеты погас, оставив за собой непроглядную темноту. После яркого света в трех шагах ничего не видно. Мы идем по воде.
Темноту разрезала чуть горбатая линия летящих навстречу трассирующих. Немцы пустили вдоль оврага несколько очередей. Пули летят в нескольких метрах левее. Передние на миг замирают, все останавливаются, ждут новой очереди со стороны немцев. Стрельба немецкого пулемета прекращается. Передние трогаются с места, мы за ними и все опять снова медленно идут вперед.
Сгибаться и приседать под пулями бесполезно. По горящим штрихам трассирующих, видны темные промежутки, заполненные невидимыми пулями. Мы видим, что немцы стреляют наугад. Но когда пули идут в тебя, приходится стоять неподвижно, считать доли секунды и каждой жилкой ощущать, что вот она ткнется в тебя. Каждый переживает в этот момент, но держит себя в руках, неподвижно стоит и ждет, чем это кончится.
Наши, ракет не бросают и трассирующие не пускают. Не освещают передний край и не отвечают стрельбой на стрельбу. Нашим славянам вполне хватает немецкого освещения. Зачем тратить попусту припасы, когда можно с вечера завалиться и выспаться до утра. Утром, небось, опять в наступление пойдем!
Немцы стреляют и светят от страха. Они бояться сидеть в темноте. Наша сторона темна и непроглядна как ночь. Где эти русские? Что они делают? Не замышляют чего? Русская сторона мертва, темна и неподвижна! В ней ничего нельзя разглядеть. Жутко становиться, когда смотришь в ту сторону.
А наши солдаты в это время спят. Солдата тряси за плечо, за ноги тащи, всё равно не разбудишь! Побрякивание черпака и стук котелка может оживить в любой момент лежащее в овраге войско.
Мы идем по воде. Уровень воды по лодыжку на голени, не выше. Повсюду в воде поверху пряди травы, они лежат в одну сторону, вдоль по течению. Перед нами открытый участок во всю ширину оврага. Если немец ударит, от пулемета деваться будет некуда. Где-то внутри что-то сжимается и тянет за душу. Делаешь шаг и ждешь встречной пули в живот.
Но вот мы поворачиваем влево, выходим из воды и ступаем на твёрдую дорогу, прижимаемся к стене высокого обрыва и идем в обратном направлении, Теперь легче дышать! Осталось дойти до угла обрыва, повернуть за уступ и войдя в расщелину, подняться наверх.
Немцы сидят наверху и бросают ракеты. Мы каждый раз припадаем к земле и сидим неподвижно. На нас, на всех летние маскхалаты с капюшоном. Если даже сверху падает свет то, привалившись к земле ты сливаешься с окружающим покровом. Вряд ли разведчика можно отличить от травы, от кочек, кустов и неровностей земли. Главное, чтобы от тебя в этот момент не падала резкая тень и ты не был захвачен светом ракеты в движении. Вот мы и в глубокой расщелине, поросшей кустами. Нам осталось подняться вверх.
Я поднял руку, растопырил ладонь и показываю пять пальцев. Другой рукой показываю место, где носят обычно ручные часы. Разведчики поняли меня. Я даю пять минут на отдых.
В ночном поиске все делается без слов. Команды подаются условно движением рук, головы и плеч. Чуть пригнулся идущий впереди, пригнул голову, вытянул шею – все настороже. Все знают, что там впереди что-то есть. И тоже пригнулись. Разогнулся передний, сделал шаг вперед – все пошли за ним. Информация передается друг другу позами, жестами и движениями тела.
Мы поднимаемся вверх по расщелине. Под ногами сползает песок. Сейчас главное не скинуть ногой камень. На краю обрыва опять остановка.
Мы с Рязанцевым подаемся вперед, выглядываем из-за края, смотрим что там. Разведчики тут же рядом.
Я прислушиваюсь к дыханию разведчиков. Случайный хрип, чех и кашель, задетый ногой и сброшенный вниз камень, сломанный сучек – обойдется нам дорого! За каждую случайность нам приходиться расплачиваться кровью и жизнью.
Командир полка! Тот своих солдат стрелков не считает. Ему их дают сотнями каждый день. А из новобранца разведчика сразу не сделаешь. Командир на разведчиков смотрит как на солдат пехоты. У него одно желание, куда бы их в оборону посадить или в наступление пихнуть вместе с пехотой. Ему успех нужно развить в наступлении. А приказ штаба армии запрещает использовать разведчиков, как солдат стрелковой роты.
Наше дело ночной поиск. Днем мы не вояжи. Мы полуночники. При дневном свете мы обычно спим.
Мы поднимаемся вверх по обрыву. Вот проселочная дорога. Кругом темно. Я на ощупь проверяю ее рукой. Группа захвата выходит вперед и располагается у дороги. Мы отходим в сторону и ложимся под кустом. Когда возьмут языка, первой к обрыву отойдет группа захвата. За ней последуем мы. Последней будет отходить группа прикрытия. Таков план расстановки людей в ночном поиске.
Если немцы обнаружат нас и откроют стрельбу, огонь на себя возьмет группа прикрытия. Остальные в это время отходят в овраг. Убитых и раненых мы не оставляем. Ни один человек не должен быть брошен в расположении противника. Таков неписаный закон войны у разведчиков.
Я лежу под кустом и думаю. После нашей артподготовки немцы не успели опомниться. Они разбиты, подавлены и перед нами мелкие группы. Возможно, им приказано продержаться здесь до утра, а потом отойти.
Если мы не возьмем сейчас на дороге языка, то они к утру отойдут на новый рубеж и нам придется начинать все заново на новом месте.
Время летит быстро!
Пока у немцев не прошел первый испуг и страх, нам нужно действовать настойчиво и решительно.
Рязанцев сидит рядом на корточках и внимательно смотрит по сторонам. Разведчики чуть дальше, привалившись на локоть, лежат у дороги.
Вот на дороге показались неясные тени. Я делаю знак рукой. Рязанцев беззвучно встает. На дороге показались два немца. Разведчики захват группы тут же метнулись к ним. Короткая возня, захват группа торопливо подалась к краю оврага. Дело сделано! Ни звука, ни шороха в ночной тишине!
Разведчики потом рассказали. Немцы шли по дороге со стороны из кустов. Возможно, там была едва заметная тропинка.
– Мы ее не заметили! Их было двое! Один шел и опирался на плечо другому! Шли медленно. Один видно был ранен. Слышно было, как он тяжело дышал.
– Откуда они взялись?
– Понятия не имеем!
– Командир группы захвата ткнул нас рукой. Будем, мол, брать фрицев. Будьте внимательны! Все замерли и приготовились к броску. Немцы подошли к нам близко, почти вплотную, ничего не подозревая. Мне показалось, что один смотрит мне в глаза, но не видит меня. Ну, думаю, сейчас заорет! Бросится бежать! Но все это мне показалось. Мы заткнули им сразу рты. Они пикнуть не успели. Подняли руки и вместе с нами подались к краю обрыва. Один дошел ничего. А другой засопел и замычал носом. Видно рана болела. А может, дышать через нос было тяжело. Я вынул у него тряпку изо рта и ткнул автоматом. Он сразу все понял и не издал больше ни звука. Мы, не останавливаясь, ушли сразу вперед.
В общем тот, что ниже ростом и толстенький – видать санитар. А второй солдат стрелок имеет ранение в живот. Спускаясь по скату оврага, он еще был на ногах. А по воде ребята несли его на руках всю дорогу.
– Вот и всё, товарищ гвардии капитан.
– Дело без шума сделано!
Только куда раненого будем девать? Он видно не протянет до утра. Мы его растрясли и сильно помяли. Осколок в животе. Может еще и до утра не дотянет.
– Ну почему до утра? Наши славяне с пробитыми животами по неделе лежат в медсанбате.
– То наши! Наши живучи! А это изнеженный и дохлый народ! Сплошная цивилизация! Наших с фурункулами на заднице больными не считают. А немец от прыщика концы отдает!
Когда мы вернулись в овраг, где в обороне сидела наша пехота, я обратил внимание, что солдаты стрелки лежат вповалку и спят. Развалились кто, где на земле и спят себе, как на сеновале.
Штаб полка был в курсе дела, что я ушел с разведчиками в ночной поиск. Сам я перед выходом не успел доложиться, провод был перебит.
В овражке я оставил двух разведчиков, чтобы они понаблюдали за немцем. А вся группа, которая была в ночной работе, вместе со мной отправились на отдых в тыл.
Пока мы ночью лазали за немцами, старшина позаботился, нашел для разведчиков подходящую землянку, выставил часовых и приготовил для нас харчи.
Некоторое время мы шли поверху, а потом спустились в глубокий овраг. По оврагу мы вышли к себе в тыл. Связной, которого прислал за нами старшина, свернул в сторону и показал нам рукой в темноту. В глубоком овраге было сумрачно и сыро. Наконец тропа шаг за шагом начинает подниматься к верху. Овраг остался сзади, мы перешли через канаву и впереди открытое поле. Где-то метрах в ста от края оврага едва заметная землянка выглядывает из-под земли.
Я осматриваюсь кругом. Ровное поле, и ни каких славян в округе.
– Молодец старшина! – я вслух оценил его выбор. С головой наш кормилец! Если завтра начнется бомбежка, здесь на пустом безлюдном открытом поле ни одна немецкая бомба не упадет. Немцам сверху видно, где пусто, а где густо! Они нанесут удар по оврагу и по закрытым растительностью местам. Где-где! А там будут прятаться славяне! А здесь, на открытом поле днем ни одной живой души!
Немца раненого в живот мы оставили в овражке, где сидит наша пехота. А этого, вроде санитара привели с собой. Мы подталкиваем его вперед, спускаемся по ступенькам в землянку. Я протискиваюсь в узкий и тесный проход, здороваюсь со старшиной, снимаю с себя маскхалат и кидаю его на руки своему ординарцу. Делаю глоток воды, отказываюсь от еды, выбираю место в углу на нарах, забираюсь туда и под негромкие голоса разведчиков, дребезг котелков, басистый голос старшины, свернувшись калачиком, я быстро засыпаю.
– Товарищ гвардии капитан! – слышу я знакомый голос ординарца.
– Вас вызывают! Посыльные со штаба полка пришли! Ординарец трясет меня за плечо. Я открываю глаза. Мысленно хочу подняться. А двигать руками и ногами нет охоты.
Землянка тускло освещена. Где-то в углу на столе стоит и горит картонная немецкая чашечка, наполненная стеарином. В середине ее торчит короткий и узкий лепесток. Это фитиль. Он тоже сделан из картона.
В углу перед коптилкой сидят двое дневальных. Тени от их фигур шатаются на стене.
– Кто там пришел? – спрашиваю я.
– Кто их послал? Сходи, узнай! По какому срочному делу? Если что срочно, зови их сюда! Пришлых и посланных из штаба, даже офицеров часовые в землянку не пустят ни за что. Хоть ты умри! Пока не получат на это разрешение!
Ординарец поднимается с нар. Ему тоже не охота вставать. Он морщится, нехотя поднимается, разминает ноги, неуклюже переставляет их, подвигаясь к проходу. Я лежу, смотрю на него и соображаю. Почему он стал ходить как старик? Или он ноги потер? Или опять в хромовых сапогах, которые ему на два номера меньше? Опять стервец сапоги гармошкой напялил. А если куда послать? Бежать надо? Надо сказать старшине, чтобы больше их ему не давал. Сказать Кузьме прямо в глава вроде нельзя. Парень молодой, может обидеться. Будет потом ходить молча. А заигрывать мне с ним и быть добреньким нельзя. Старшина снимет с него сапоги и больше не даст. Так и сделаем! Это будет лучше!
– Связные из штаба полка! – показавшись в проходе, докладывает ординарец. Начальник штаба, майор их послал.
– Тащи их сюда!
– Вы чего? – спрашиваю я, их.
– Майор нас с картой прислал. Просил вас нанести на карту обстановку. Нам приказано вернуться утром обратно.
– Когда вас майор послал с картой сюда? – спросил я, связных не поднимая головы от лежанки.
– Часа два назад! Мы долго искали!
– Располагайтесь в углу! На нарах все места заняты. Можете комара придавить до утра! Утром мне сюда подадут телефонную связь. Я сам переговорю с майором и нарисую вам карту.
Связные устраиваются на полу. Я поворачиваюсь на бок и снова засыпаю.
Через какое-то время я просыпаюсь. Поднимаюсь на ноги. Иду к проходу. К двери подвигаюсь медленно. Приходиться перешагивать через тела спящих. Ударяюсь головой о низкую притолоку, чертыхаюсь. В глазах искры. Совсем забыл о низком потолке и поперечине над выходом.
Отдернув палатку, выхожу на воздух. Около землянки две сутулые фигуры часовых. Часовые замечают меня – распрямляются. На каждом из них плащ-палатка углом, за шеей рулон материи, как у испанских королей, до самой макушки. Прохладная ночь с непроглядной темнотой просветлела. Темнота медленно и нехотя уползла на запад. На востоке светлая полоса над лесом, а на западе серая без просвета линия горизонта.
Впереди над оврагом взметнулась ракета. Свет её выхватил контуры кустов и деревьев. Вот они дрогнули и поползли куда-то в сторону. Длинные тени, и светлые полосы стремительно понеслись по краю оврага.
Иногда пустит немец ракету. Стоишь в окопе и смотришь перед собой, видишь, как будто стоит кто-то. Кажется, что человек стоит во весь рост и не шевелится. Вот голова, вот плечи, руки и ноги. Но только стоит неподвижно, как истукан. Нет! Это куст! – говорю я сам себе. Если бы был человек, то обязательно шевельнулся! Вскинется еще ракета с другой стороны. Смотришь в то место, а там действительно куст и никакого человека. Человек не может стоять или сидеть и быть при этом совершенно неподвижным. Человек должен обязательно шевельнуться. Разведчиков специально тренируют, чтобы он, не шевелясь, мог надолго занять любую позу.
– Свети! Свети! – подумал я, затягиваясь сигаретой. Утром наши подтянут пушки и дадут вам прикурить!
Для наступления одной нашей полковой артиллерии совершенно недостаточно! -прикинул я. Да и батарейцы наши привыкли тереться сзади пехоты в тылу. То нет у них осколочных снарядов, то конные упряжки не могут болото преодолеть. Ночью их вполне можно было вытащить на огневой рубеж пехоты и на рассвете ударить по немецким пулеметам прямой наводкой. А они сидят где-то сзади в кустах, откуда и прицельного огня нельзя вести. Каждая тыловая букашка норовит уползти подальше в тыл, забраться в щель, спрятаться у других за спиной.
Командир полка тоже странно действует. Вместо того, чтобы выгнать полковую артиллерию на переднюю линий пехоты. Он стрелков и разведчиков гонит вперед. Артиллерию бережет на всякий случай. Конечно, пушки нужно иметь всегда под рукой. Их тебе не пришлют десятками вагонов, как пополнение в пехоту. Но и другое, ни в какую дугу не лезет. Полковые пушки и даны на то, чтобы вести прицельный огонь по немецкой пехоте. Под бомбежкой, что на передке, что в тылу при прямом попадании бомбы от пушки и расчета не останется ничего. А выкати её против пулемётов на прямую наводку, бабушка определённо надвое не скажет.
Выкати пушку на сотню метров от немцев. Ударь в упор по глазам, пулемётчикам. Они бросят все и побегут в Духовщину. Поди, узнай, из чего русские бьют в упор. Может там танки, глотая воздух, выплевывают смерть прямой наводкой. А что! С расстояния в сотню метров немцев можно срезать вместе с пулеметами с лица земли. Нам бы сейчас пару штук и приказ расстрел на месте за неподчинение или трусость орудийного расчета. Мы бы их вывели ночью на огневой рубеж на двадцать метров в упор.
Но у нас другая задача – брать языков! Штабам нужны показания пленных немцев, чтобы провести красную стрелу в направлении главного удара. Всегда так бывает! Чужую беду руками разведу! А на свои дела время не хватает!
И все же я возвращаюсь к мысли о наступлении. Вспоминаю, сорок первый. Вот когда нас немец учил воевать. Тогда он нам наглядно показал, как нужно прорывать оборону противника. Налетит с воздуха, пробьет полосу на всю глубину обороны. Обрушиться артиллерией и, не снижая огня, пустит танки вперед. Пехота пойдет вперед, когда с нашей стороны никто не стреляет. Стоит им, где поперек дороги встать, они не лезут вперед одной пехотой. Не подставляют под пули своих солдат. Они вызывают авиацию, подтягивают вперед артиллерию и начинают все живое с землей мешать. Пехота ждет пока впереди все кончиться. Вот это война!
А здесь что? Не война, а хреновина одна! После такого огня пехоте нужно выдать пролетки. Пусть с колокольчиком под дугой катят к чертовой матери прямо к Смоленску!
По началу наступления по передней немецкой траншее наши выпустили раз в десять больше снарядов, чем надо бы было. Все это было обставлено и рассчитано по военной науке как следует. А теперь пехота топчится на месте из-за каких-то трех, четырех, несчастных немецких пулеметов.
Командиру полка сыплют приказы, всю шею проели. Из дивизии жмут и грозят, что давят сверху. А что он может сделать?
Дальнобойные на тягачах в тыл уволокли. Катюши плюнули и по быстрому смотались куда-то. Грохоту было много. А в результате десятка два, три пленных, километров пять в глубину отвоеванной у немца земли. И основная линия обороны немцев на том берегу реки Царевич!
Рассвет не предвещал ничего хорошего!
Напрасно майор сутулился и суетился над своей картой. Обстановка может в любой момент измениться не в нашу пользу. Возьмут немцы и полоснут из полсотни орудий, пропашут авиацией весь участок нашего наступления, бросят в прорыв танковый десант и полетит всё к чертовой матери. Совсем недавно в сорок втором, как скажет старшина – Летось было! до батальона танков и рота немецкой пехоты при поддержке десятка пикировщиков разгромили под Белым целую нашу дивизию. Что было когда-то, может повториться в любой момент. Жизнь она вечна и в прошлом и в бесконечном будущем!
Над головой не высоко посвистывают пули. Небо становится, светлее немцы постепенно усиливают пулеметный огонь. Вот и редкие снаряды запорхали над землей. Тупым ударом они вскидывают землю и с надрывом раскатисто рвутся то там, то здесь. Пока по характеру стрельбы можно сделать заключение, что у немцев ничего не изменилось.
От того места, где мы сидим, вперед уходит широкий овраг. Сначала он мелкий, а потом становиться все глубже. Он пересекает позиции немцев. В конце его склоны превращаются в кручи и обрывы. По дну оврага бежит, петляя не глубокий ручей. Его можно перейти, глубина покален. Дно оврага сильно изрезано, покрыто осыпями, песком и местами галькой. Ложе оврага слева сухое и твердое. По левой стороне оврага внизу проходит проселочная дорога. Правая сторона дна оврага залита водой. От крутых и обрывистых берегов в сторону отходят небольшие овражки и балки, узкие расщелины, размытые дождями.
Один стрелковый батальон продвигался слева по краю оврага, другой закрепился справа в небольшой поперечной балке. Овраг для батальонов линия раздела.
Если пройти весь овраг, то в конце слева над крутым выступом находится отмеченная на карте церковным крестом высота. Она прилегает к самому краю оврага. На ней окопались немцы. Они простреливают пулеметным огнем всю долину оврага и подступы к нему.
Наша полковая артиллерия с лошадьми и упряжками, передками и лафетами спустилась в овраг, и по дну его решила двигаться вперед.
Зачем они туда полезли? Побоялись пулеметного обстрела? Всё это случилось ночью, в темноте. Они нащупали твердую дорогу и покатили по ней. По открытой местности они не пошли. Немец держал под пулеметным огнем подступы слева к высоте Крестовой.
А когда рассвело, в небе со стороны Духовщины послышался гул самолетов. В сторону оврага низко змейкой шли немецкие пикировщики Ю-87.
Четко обозначенные края оврага сразу исчезли в шквале огня, летящей земли и дыма. Пикировщики один за другим камнем срывались вниз и бросали бомбы. После каждого броска они, завывая включенной сиреной, взмывали вверх для очередного захода.
За пикировщиками вторым этажом расположились бомбовозы. Они завывали уже на подходе к оврагу. Пикировщики отбомбились, построились и ушли. Бомбардировщики принимаются за свое дело.
На земле мелькают бегущие люди. Все кто оказался на дне оврага, лезут наверх в расщелины и поперечные балки, бросив лошадей, раненых солдат. Никому, под вой и грохот бомб, дела нет до других.
И вот от фюзеляжей самолетов отрываются черные бомбы. Они стремительно, набирая скорость, несутся к земле. Как только сверху посыпались бомбы, на земле мгновенно все спряталось, укрылось и затаилось в ожидании смерти.
Мы с Рязанцевым стояли в проходе землянки смотрели то вверх, то вниз. Старались угадать, куда ударят бомбы. А снизу, когда смотришь на них, кажется, что они летят на тебя и только в последнюю секунду их как бы отворачивает и относит в сторону невидимая рука. Видно, как они промелькнули за край крутого обрыва.
В овраге твориться что-то невероятное. Кажется, что все живое и мертвое перемешалось с землей и полетело в разные стороны. С лошадьми и упряжками на крутые берега оврага не вспорхнешь и прыжками не выскочишь. Я видел, как из оврага стали выпрыгивать люди. Они разбежались по полю и ложились на живот кто, где мог.
Вой и грохот стояли над землей. Телефонная связь с батальонами и ротами оборвалась.
Смотрю в ту сторону, где блиндажи штаба полка. Вижу, припадая к земле, в нашу сторону бегут два солдата. Это за мной, связные командира полка. Это он послал их по мою душу.
Тяжело дыша, они припадают к земле и ложатся на животы у самого входа. От такого грохота и лязга головой воткнешься в землю, хотя мы стоим во весь рост и смотрим на них.
Глотая слова, один из них обращается ко мне.
– Командир полка приказал вам немедленно бежать в батальон!
– Связь с батальоном прервана! Немцы могут в любую минуту перейти в контратаку! Вот вам записка! Мы возвращаемся немедля назад!
КП батальона на самом краю оврага. Вход в землянку расположен со стороны обрыва. На дне оврага мечутся люди, на дыбы встают лошади, рвут постромки и уздечки. От взрывов шарахаются обезумевшие солдаты, брошенные раненые кричат о помощи. От мощных взрывов батальонную землянку бросает и кидает вместе с бревнами из стороны в сторону. Сверху летят обрубки деревьев, куски земли и части каких-то предметов. Рассмотреть детально все, что делается там, на дне оврага не возможно. В воздухе кверху встали брызги воды, тучи песка. И все это снова и снова взметается и с новой силой взлетает высоко вверх, потом ухает, раздается в стороны и обваливается вниз.
Через некоторое время бомбежка утихает. Немцы считают, что с нами покончено, раз и навсегда. Мы напряжённо вслушиваемся, не гудят ли на подходе немецкие танки. Появись они над оврагом, пехоту не удержишь на рубежах. Каково же было наше удивление, к полудню, часа через три после окончания бомбежки, мы обнаружили, что среди наших солдат всего с десяток раненых и двое убитых. Погибли три лошади оставленные в артиллерийских упряжках. В овраге стояли не задетые, ни одним осколком дрожащие всем телом около десятка половых лошадей.
Но случилось другое.
От грохота и воя, от криков людей и ржания лошадей, от воплей раненых, наше доблестное войско фигурально сказать наложило в штаны. Пехота, сидевшая в отрогах и извилинах боковых балок, под бомбежку не попала. Бежать назад под грохот и рев бомб было бессмысленно. Какой дурак побежит?
Повозочные и артиллеристы бегали по дну оврага, вытаскивали на дорогу свои телеги, передки и орудия. Пока они приводили себя в порядок, день подошел к концу.
Удивительно, как быстро летит время на войне. Вторые сутки бессмысленно топчемся и торчим около оврага.
Бомбежка авиации ещё на сутки задержала нас. Им нужно было выйграть время. На высотах за Царевичем окапывались немцы. Бомбежка и суматоха, во время неё, перепутали все карты у наших стратегов. Как они не пыжились и не силились. К вечеру пришлось отдать приказ о переходе к временной обороне.
Я должен был сидеть на командном пункте батальона до особого распоряжения командира полка.
Землянка у комбата была жиденькая, маленькая и тесная. Землянку рыли наспех. Бревна во время бомбежки прыгали на потолке. Сыпалась земля, дышать было нечем. Комбат со своим замом сидели накрывшись палаткой в углу. Комбат вероятно думал, что я уполномочен выставить их от сюда и приказать бежать на передовую.
– Сколько отсюда напрямую до роты, пролезая в узкий проход, осведомился я. Он не знал, что я успел побывать на передовой в его роте, он был уверен, что я хочу определить, знает ли он где точно сидят его роты. Расстегнув планшет, я достал свою карту и положил на нары перед ним.
– Ты доложил командиру полка, что одна твоя рота находится у подножья Крестовой. Для того, чтобы ты убедился сам, нам придется пройтись до Крестовой. Но учти, что Крестовую занимают немцы. А чтобы дойти нам с тобой до подножья, нужно немцев обойти оврагом с тыла. Мы, к твоему сведению вчера ночью там брали языка.
Звони командиру полка, пока работает связь и признавай свою ошибку! Или тебе с разведчиками придется пройтись до Крестовой!
Когда по телефону закончил свой доклад комбат, я рассказал командиру полка о результатах немецкой бомбежки. Уточнив положение стрелковых рот батальона, я получил разрешение покинуть батальон и вернуться к себе. Потом комбат опять стал докладывать что-то о делах батальона. Выходя из землянки, я слышал голос его. Он просил командира полка поддержать его огнем артиллерии.
Я при разговоре никаких советов командиру полка не давал. Это не мое служебное дело. Пусть сами во всем и как следует, разберутся.
У меня свои дела. Нужно пойти поспать, а то с рассвета снова заваруха начнётся.
* * *

– курсивом выделен зачеркнутый текст
25.09.1983 (правка)
Август 1943

У нас на переднем крае сумрачно, темно и непроглядно. Славяне свой передний край ракетами не освещают. У них их просто нет, чтобы светить целую ночь. Иногда, если под руку немецкие попадутся, так для пробы, для баловства постреляют их подряд в сторону немцев. Вот, мол, смотрите! Мы тоже не лыком шитые! Светить могём! Ракеты кончились, ракетницу бросили, вот собственно и все!

Первые годы войны осветительных ракет нам в пехоту вообще не давали. Нахватало оружия, недоставало боеприпасов. Сигнальные ракеты у командира полка и комбатов были. А осветительные? Для чего они собственно нужны? Освещать передний край, чтобы немцы не подползли? Немцы сами с вечера, до утра не переставая, светили. А наши русские ещё с мирных пор привыкли экономить на керосине. Спать ложились засветло, на работу поднимались затемно. Зимой спали и жили, как могли. Привычка сызмальства осталась и на потом. Она осталась на всю последующую жизнь и на войну, как въедливый запах у некоторых людей изо рта. На фронте он пропадал у них иногда, когда жрать дня по три, по четыре было нечего.
Немцы темноты почему-то боялись. Они трусливо озирались и переносить её не могли. Возможно и электричество они у себя в Германии раньше нашего завели. А здесь на передовой, каждый раз с наступлением темноты немцы включали освещение осветительными ракетами. Привычка, и образ жизни остались у них и здесь.
А нашим что? Наши дармовым освещением пользовались! Если немцы светят всю ночь через равные промежутки времени, бросают ракеты по всей линии фронта, то волноваться, надо думать не стоит. Немцы спокойно сидят на месте, славяне могут вполне до рассвета выспаться. Солдаты с вечера приседают на корточки, надвигают каски на лоб, прикрывая глаза, чтобы светом в глаза не било, и сидят, так, скорчившись, до утра. Можешь ходить, их толкать, они неподвижны.
Но случись, если немцы сбились вдруг с ритма или совсем прекратили ракеты бросать, то тут жди от них какой-нибудь гадости или подвоха. Тут кто-нибудь из солдатиков каску на затылок и глядит в оба, поверх земли. Не то, чтобы немец в атаку собирается. Это для нашего брата, русского солдата, как говориться: "муде ферштей!" Ерунда! Самое страшное, это когда немец возьмет и незаметно оставит свои позиции, отойдет незаметно и тихо вглубь на новый, заранее приготовленный рубеж. А ты в это время спал на посту. Отход немца вовремя не усек. Вот тут и начинается самый страшный скандал. Ротный получит от полкового начальства такой втык и выговор, что запомнит его на всю последующую жизнь, если его в скором времени не убьёт и он на некоторое время останется жить. Когда нужно будет давать ему медаль, ему припомнят этот стервозный случай. Скажи спасибо, что тебя под трибунал не отдали! Успех и всю тяжесть боя возьмет на себя командир полка.
Одно дело, когда командир роты в наступлении продвинуться вперед не может. Говорит, что несёт большие потери. Другое дело – когда немец взял и сам убежал. Кто из штабных полезет вперед под огонь проверять, почему не выдвигается рота. Может и в самом деле головы нельзя поднять. А когда немец сбежал, и рота осталась лежать на месте, тут уж извини! Получай! Втык и потом не говори: "Воевал, воевал, и ни какой медали нет!"
Интересно получается! Если вот так подумать. Один на смерть идет, вместе с солдатами с немцами сражается и ни каких наград. Другой сидит в тылу, из блиндажа по телефону покрикивает и увешан весь. Один за землю свою жизнь отдает, воюет. Другой только думает как бы уберечь себя и для потомства сохранить.
Солдаты войны! Сколько вас безызвестных жизнь свою за землю нашу отдали!
Идешь иногда по переднему краю, глядишь, сидит скорчившись солдат, привалившись к земле. Остановишься, глянешь на него, то ли спит, то ли убит?
Солдат, он сквозь сон улавливает, звук пустого котелка, разрывы снарядов, посвисты пуль и шипение немецких ракет. Другого солдат во сне не разбирает и не слышит. Если немец светит ракетами, да постреливает из пулеметов, стало быть, на переднем крае все тихо и спокойно.
Подойдешь к солдату, тронешь его слега рукой за плечо, а он сидит, молчит и не шевелится. Может и правда убит? Подергаешь еще. Смотришь, шевельнулся. Кулаком глаза протер. Смотрит на тебя.
– Спишь, что ли?
– Об жизни задумался!
Идешь дальше, пожмешь плечами.
– Ишь ты, задумчивый какой!
О какой жизни? Разве у солдата жизнь есть?
Идешь вдоль переднего края, выглянешь поверх земли. А там, в свете белых ракет размытые тени бегут по земле. Деревья и кусты кругом черные. Скоро рассвет. Самый подходящий момент для немцев смыться на новый рубеж.
Через некоторое время стрельба на переднем крае почти прекратилась и стихла. Солдат, дремавший в овраге, зашевелился, поднялся на ноги, выглянул за кромку оврага – кругом ни света ракет, ни выстрела из пулемета. Бывалый солдат такие фокусы знает. Прозевать отход немцев никак нельзя. Ладно сидим и не двигаем вперед! А тут другое дело. Немцы драпанули. Нужно срочно сообщать! В полку будет истерика. Что там в полку!
Тут в дивизии все взбеленятся. Сам Капустин заорет по телефону.
– А, кто такой Капустин?
– Капустин?!
– Капустин, это кличка командира дивизии Квашнина. Квашнин по кличке "Капустин" будет требовать, держа в одной руке телефонную трубку, а другой свою Клавку за сиську. А закончится война и станет Клавка, так сказать, генеральшей Клавдией Григорьевной. Распутство на глазах у солдат. А что на глазах? Ни солдат, ни младших офицеров до конца войны не останется, всех дай бог перебьет. А те, что повыше чином, сделают вид, что так, мол и надо. Любовь! Куды ты свой нос в их дело суёшь?
По телефонной связи запрещено называть – начальник штаба, командир полка. Командир дивизии приказал и тем более фамилию Квашнин. Капустин распутством на глазах у солдат занимается! Запомнил это? Командира полка мы звали – «Первый». Начальника штаба – «Второй». А командира дивизии просто – Капустин.
Дремавший солдат забеспокоился и встрепенулся, крикнул чего-то своим спавшим дружкам. Солдаты поднялись на ноги, разбудили сержанта.
– Иди, мол, ротного надо растолкать!
Кругом стоит необычная тишина. Немцы исчезли, как будто вымерли и испарились. Ни стрельбы, ни ракет, крутом темнота. На войне тоже моменты бывают, когда ни стрельбы, ни пулеметной трескотни, завались и спи. За тихий спокойный сон можно и на медаль махнуть, которой всё равно пока живой не получишь. А солдату что? Солдату всё одно. Солдату нужно поесть, развалиться, вытянуть ноги, раскинуть руки, передохнуть и забыться. А то спишь урывками, на посту, во время дежурства, согнувшись, скорчившись. Разве это жизнь? Только и жди от ротного тырчка в бок или пинка под задницу. А ругаться что? Кричи не кричи! Тут разговаривать громко нельзя. Немец подумает что русские кричат, поднимая солдат в атаку. Ну, пхнет, пырнет. Не чужой, какой. Свой же ротный, за дело. А свои, те не шибко. Так для острастки, чтоб почувствовал солдат. Свои что? Свои ничего! Все помаленьку на передовой спят вповалку.
Лежишь себе на боку, а кругом покой и тишина. Пока сержант к ротному сбегает, туды и сюды обернется. Слышно, как звенят комарики, надрываясь, стараются кузнечики, как по дну оврага меж камней журчит ручей. Не к добру это внезапное затишье! Оно как божий знак перед новой кровавой бойней.
Разбуженный ротный командир, запыхавшись, бежит вдоль оврага. Бежит, озирается, оглядывается, по сторонам. Вот он высунул голову над оврагом, посопел, повертел головой, пошмыгал носом, чего-то соображая, поддернул съехавшие вниз штаны и побежал звонить по телефону. Нужно срочно доложить комбату на счет немцев и необычной тишины. После нескольких вздохов и брошенных в телефонную трубку фраз, он повернулся к сержанту, своему заместителю, и велел подымать солдат.
– Поднимай всех на ноги! – сказал он, вылезая на край оврага. Солдаты стали подниматься и подались вслед за ним.
– Пошли! – сказал он, когда увидел, что рота вытянулась в цепь вдоль всего оврага. Солдаты тронулись, шагнули вперед и исчезли в ночной темноте за краем оврага.
Полковая связь ожила. Телефонисты спросоня, хриплыми голосами орут, вызывая друг друга. По проводам идут команды, вопросы и ответы. Полковые тылы зашевелились, зафыркали лошади, забегали ездовые, по каменистым россыпям заскрипели телеги и передки полковых пушек. Они все это время прятались в лесу и в кустах, на открытых пространствах их нигде не было видно. Теперь они в темноте осторожно подвигались вперед за ушедшей куда-то пехотой. Полковые пушки нащупали дорогу и по ней скатились в овраг. По открытой местности они не пошли. Открытой местности они всегда боялись. Ночь. Впереди ничего не видно. Нарвешься на немцев – расхлебывай потом.
Разведчики после ночного поиска были на отдыхе. За каждого взятого пленного им законный отдых был положен. Пехота в предрассветных сумерках обошла обрыв и бугор и по дну широкого оврага спустилась к берегу реки Царевич. В кустах около брода пехота стала окапываться.
Наши на левом берегу. А на той стороне, на всех скатах высот в готовых окопах сидели немцы. Наша пехота подошла к Царевичу в темноте и не имела потерь. До рассвета оставалось немного. Утром все встанет, все займут свои места и война снова начнется. Немцы по ту сторону. По эту сторону наши. Между ними нейтральная полоса.
В темноте кто-то из солдат решил закурить, чиркнул спичкой, спички и махорку теперь нам давали. Немцы увидели огонь. Вдоль всей полосы немецкой обороны, со всех высот в нашу сторону полетели осветительные ракеты и полоснули пулеметы. Передний край немцев весь сразу ожил. Смотри и любуйся он весь, как на ладони.
Вот это способ вскрывать оборону противника! Вместо проведения разведки боем, вышел напрямую, сел на бугорок поудобней, свернул и закурил. Немцы открыли огонь с перепугу, смотри и засекай их огневые точки.
На войне бывает как? Один открыл огонь с перепугу, другие подумали, что противник идет в атаку. Все бросаются к оружию, открывают стрельбу, надсаживаются, бросают ракеты, стараются рассмотреть с чего бы весь этот переполох.
Я доложил командиру полка, по кличке "Первый", где у немцев проходит новый рубеж, где находятся наши и отправился спать. Пока они во всех делах и вопросах обстановки разберутся я успею выспаться.
Разведчики, для отдыха облюбовали просторный блиндаж. Немецкий блиндаж был в открытом поле. Нары в два яруса. Лежанка на каждого с углублением заслана соломой. В блиндаже дверь нараспашку. Окно вынули, чтобы воздуха было больше. Внутри ветерок продувает. На соломе лежать удобно и мягко. Те, кто в ночной поиск не ходили, стоят на посту снаружи и дежурят внутри.
Я только прилег. Прошло часа два не больше. Часовой вызывает дежурного. Дежурный трясет меня за плечо. Я, не открывая глаз и не поднимая головы, спрашиваю:
– Ну, чего там?
– Связной от командира полка! Майор требует вас к себе на КП.
Я поднял голову, открыл глаза и уставился на дежурного невидящим взглядом. Что он спятил!- подумал я. Третьи сутки не сплю!
Поднявшись на локтях, я сел. Свесил ноги с нар и замотал головою. Вот проклятие! Только прилег! Опять давай иди!
Стряхнув немного сон и уяснив, что меня вызывают, что надо подаваться. Я потянулся, зевнул и нехотя спрыгнул на пол. Зачем я ему понадобился? Знает прекрасно, что несколько суток и все на ногах! Нужно же человеку и отдых. Сам наверно за ночь выспался! А-а! На меня ему наплевать.
Я вышел наружу. Посмотрел на небо. Рассвет уже висел над лесом с восточной стороны.
Ординарец уехал со старшиной за продуктами. Идти одному? Может взять кого из дежурной смены? Я стоял, зевал и решал этот вопрос, поглядывая то на небо, то на присланного связного. Пойду один, решил я. Одного далеко не пошлют.
– Что там случилось? Убило кого? – спросил я связного.
– Не знаю! Он требует лично вас!
Я посмотрел недовольно на связного из-под приподнятых бровей. Как будто он был виноват, что меня вызывают.
– Ну что? – спросил я его. Он молча пожал плечами.
Я присел на край прохода, уходящего вниз, посмотрел на деревянные ступеньки и на толстую дверь, висевшую у входа. Двери у них массивные, толстые. Осколок снаряда или мины не пробьет. Двери подвешены на стальных петлях, смазаны пушечным маслом, чтобы не скрипели. Сделано все мощно, сработано на совесть. Все у них, ни как у людей. А вот отступают, драпают и бегут. Ночью сбежали на новые позиции. Чуть не оставили командира полка в дураках. Что-то тут не то! На чем-то немцы просчитались?
Я достал кисет и вспомнил, что у меня в нагрудном кармане лежит пачка немецких сигарет. Кто-то из ребят сунул мне ее в руку. Достав сигарету, я понюхал ее, сунул в рот, чиркнул спичкой и затянулся легким дымком. Когда мы переходим в наступление, у нас появляются немецкие сигареты, консервы и шнапс.
– На закури! – угощаю, я солдата сигаретами, протягивая ему пачку.
– Садись, посиди! Давай покурим! А то потом и покурить не дадут!
Мы посидели, покурили. Я поднялся и мы тронулись в путь. Одиночные снаряды, завывая, пролетали у нас над головой. Немец кидает их куда попало. Это не опасно, на нервы не действует. Оглядываясь по сторонам, не торопясь, мы подвигаемся вперед.
Командный пункт командира полка на переднем склоне высоты Крестовой. В том самом месте, где мы ночью на дороге взяли пленных. На командном пункте блиндаж пока не построен. Для укрытия от бомбежки и обстрела саперы отрыли зигзагообразную щель.
– Вот и отлично! – сказал он, когда я спрыгнул к нему в эту узкую щель.
– Во второй батальон я послал капитана Васильева. Ты отправишься в наступающие роты первого батальона. Роты должны выйти на правый берег реки Царевич! Командир батальона имеет на этот счет приказ. Но из рот сообщили, что противник ведет сильный огонь. Комбат говорит, что роты не могут поднять головы. Связь с батальоном и ротами прервана. Роты должны, во что бы то не стало форсировать реку и закрепиться на том берегу!
– Тебе все понятно?
– Мне всё понятно. – сказал я и улыбнулся.
– А чего ты улыбаешься?
– За выполнение приказа отвечают командиры рот, комбат и ты!
– Вот мне и смешно!
– Чего тут смешного?
– За стрелковые роты отвечает комбат и командир полка.
– А я то тут причем? Я не комбат и не ваш заместитель. Мое дело разведка. А стрелковые роты не волнуют меня. Я в сорок первом году все это проходил, когда был Ванькой ротным. А сейчас я разведчик. И стрелковые роты мне до фонаря! Ни за какие приказы я отвечать не буду.
Командир полка молчал. Он наверно подумал, что я, не возражая побегу в роту, форсирую с ротой Царевич, выбью немцев с высоты, и он доложит в дивизию, что полк выполнил боевую задачу. Я то знал что, значит поднять пехоту, без огневого прикрытия форсировать реку, и пойти под огнем противника на высоту. Солдаты сейчас зарылись в землю, их дубиной не выковырнуть из земли. Солдат теперь пошел не тот, что был в сорок первом году. Огневую подготовочку давай, из ста стволов орудий.
Допустим, я пойду. Соберу и подниму солдат. Сделает рота вперед не более двадцати метров, выйдет из укрытий, окажется поверх земли и всех солдат, на двадцать первом метре, разорвет на куски. Потому, как немец бьет сейчас, от укрывшейся в щелях роты, дай бог, осталось в живых половина солдат.
Я посмотрел назад вдоль зигзагообразной щели. В ней стояли, пригнувшись человек десять разных званий лиц. Тут ординарец командира полка, по два связных от каждого батальона, начальник артиллерии с командиром взвода, который собирался подавать команды на полковую батарею, один из штабных офицеров и политработники полка.
– Что это? – подумал я. Артиллерист хочет отсюда корректировать огонь полковой артиллерии? Тут, кроме куска проселочной дороги ничего не видно. Все они здесь в щели стоят на виду друг у друга. Потом ведь скажут прохвосты, что были в самых передовых цепях.
– Ты чем-то недоволен? – спросил меня командир полка.
Я повернул голову, но не успел ему ответить. Десятка два снарядов взревели и вскинулись вблизи. Всех, кто был в окопе, оглушило ударами и засыпало землей. Не то, чтобы совсем по шею зарыло, но по голове и спине шарахнуло крепко. Головы и спины, у стоящих в щели, к дну окопа пригнулись. За первым залпом последовал второй и третий. Земля стала кидаться в разные стороны. Внизу, вдоль берега реки била тяжелая немецкая артиллерия. Там находились две наши роты. Туда в первую роту у брода предстояло мне сейчас пойти.
Но вот взрывы стихли, мы стряхнули с себя землю. Я посмотрел на майора и сказал, глядя ему в упор.
– Я могу сказать, чем я собственно не доволен.
– Давай говори!
– По приказу штаба армии разведчики не обязаны ходить с пехотой в атаку. У нас есть свои, так сказать, задачи и дела. И почему я должен идти на смерть вместо комбата?
– В бою нет времени заниматься выяснением должностных обязанностей!
– Обстановка требует! Надо в роту идти!
Я оглянулся назад, давая ему понять, что тут кроме меня с десяток бездельников.
– Хорошо! – сказал я.
– В роту я схожу! Ваш приказ командиру роты передам! Но собирать солдат и погонять их на ту сторону не буду. Это дело комбата!
Я еще раз посмотрел на свиту стоящую в щели, отвернулся и ничего не сказал. Командир полка что-то хотел мне добавить. Он набрал воздух, открыл рот, но в это время воздух задрожал от воя снарядов. Вой снарядов на какой-то миг утих и вокруг траншеи загремели взрывы. Грохот и рев, летящая земля закрыли всё кругом. Залпы следовали один за другим. Телефонная связь с дивизией оборвалась. Телефонист приподнялся, протянул руку вдоль провода над окопом, потянул за провод и в этот момент одним из разрывов, ему оторвало кисть руки. Двое других, приподнялись, оттащили его от края окопа и стали делать ему перевязку. Вот человек, подумал я, не воевал, сидел всё время в тылу, а остался без руки.
Несколько минут передышки – снова страшный вой, грохот и разрывы. Каждый раз по самому краю щели – несколько хлестких ударов и разрывов.
Связи с передними ротами и батальоном не было. Нужно было идти. Пошли посыльного солдата в роту под такой обстрел, командир роты голову не поднимет. Тут нужен личный представитель командира полка или он сам впереди, который мог заставить командира роты и комбата поднять в атаку солдат.
Я стоял, привалившись к переднему брустверу щели и иногда даже, выглядывал за него на поверхность земли. Я следил, где и как падают снаряды и по каким участкам немец бьет из артиллерии. Все остальные, согнувшись пополам, дрыгались где-то на дне. Стоя в окопе, поглядывая и прислушиваясь к разрывам, я рассчитал, что за короткую паузу в обстреле я сумею проскочить быстро вниз по дороге.
Немцы вели сосредоточенный огонь по отдельным участкам, перенося огонь то туда, то сюда. У них не хватало артиллерии накрыть огнем большие площади сразу. Как только наступит короткая пауза, я должен броситься по дороге вниз. За несколько секунд, я сумею преодолеть крутой скат и оторваться от границы зоны обстрела. А там внизу, я спокойно доберусь до первой стрелковой роты. Я предполагал, что у немцев не хватит орудий, чтобы там и тут рыть снарядами землю.
Я наклоняюсь над майором и кричу ему:
– Я пошел в первую роту!
Майор кивает мне головой и снова пригибается. Я стою, смотрю, слушаю и жду. Вокруг щели по-прежнему рвутся снаряды. Те, что рвутся сзади, перелетев на пару метров меня, мне не страшны. Осколки от снарядов уйдут назад дальше. Для меня опасен не долетевший снаряд. Я весь напрягся, сжался, приготовился к прыжку. Я жду момент, когда разрывы снарядов вдруг оборвутся. Мне что-то говорит, сидящий сзади на корточках, майор. Но у меня все внимание вперед, я его не слышу.
Мне показалось, что в гуле снарядов проклюнулся пробел. Поднявшись рывком на руках, я прыжком выскочил из окопа, вскочил на ноги и рванулся вперед. Я не побежал, а полетел вниз по склону. Не успел я сделать и десятка шагов, как неистовый шквал налетевших снарядов перекрыл всю дорогу взрывами. Я не мог остановиться и броситься на землю. Набрав скорость, я по инерции бежал под уклон. Мимо мелькали кусты и всплески снарядных взрывов. Я успевал только делать зигзаги.
Передо мной вдруг вставал огненный сноп разрыва. Я бросался в сторону, меня обдавало огнем, дымом и землей. Я бежал от одного огненного всполоха и нарывался на другой. Визга осколков за ревом и грохотом я не слышал. Видел, как передо мной кусками взлетала земля, как шлепками падали камни и ворохи дерна, обрывки кустов и потоки земли, летящей вверх и вниз. Дорога мелькала у меня под ногами. Удары, удары и ещё удары, всё стремительней подгоняли меня под уклон. Я летел как одержимый в самую пасть свой собственной смерти. Взрывы следовали впереди, сбоку и сзади.
Чем всё быстрее и быстрее я стремился сбежать со склона вниз, где я думал обстрела вовсе не будет, тем казалось мне, что взрывы становились всё глуше и во много раз сильней. Земля под ногами металась, уходила в стороны и прыгала и билась. Она то опускалась куда-то вниз, то резко вскидывалась и рывком поднималась вверх под ногами. Я себя чувствовал, как бегущий по волнам.
Когда я выскочил из окопа, меня заволокло огнем и дымом взрывов. Командир полка выглянул из окопа и посмотрел в ту сторону, куда я побежал.
– Всё! Убило капитана! – воскликнул он. Другие тоже приподнялись и посмотрели в ту сторону на дорогу.
– Зря разведчика погубили! – приседая, сказал он вслух.
Эти слова передал мне потом его замполит, вручая орден Красной Звезды, как награду.
Я продолжал бежать по дороге, приближаясь к бровке кустов. Здесь внизу по моим расчетам на берегу Царевича у брода должна была окопаться первая стрелковая рота.
Я уже был метрах в пяти от кустов, и в этот момент меня обдало и лизнуло в лицо пламенем взрыва. Звука разрыва и удара я не почувствовал и не слышал. Ударная волна подхватила меня, приподняла, пронесла над землей и бросила грудью на что-то мягкое, вроде бруствера свежего солдатского окопа. Перед моими глазами заколебался небольшой солдатский окоп. В нем торчала спина и железная зеленая каска.
– Подвинься! – успел крикнуть я и потерял сознание.
Сколько времени я пролежал на рыхлом бруствере солдатского окопа, я не знаю. Солдат решил, что меня убило. Он отполз от меня, от мертвого, в другой угол окопа. Видно боялся покойников и мертвых.
Вокруг окопа метались взрывы тяжелых фугасных снарядов.
– Чем они бьют по пехоте? – сказал я сам себе, когда открыл глаза.
Я приподнял голову и попытался вспомнить, где я собственно нахожусь? Левая рука, как плеть, свисала вниз в солдатский окоп. Я лежал без пилотки, запрокинув голову на бок. На лице и на шее было что-то густое, липкое и влажное.
– Ты что, изверг не видишь? Помоги человеку! – прохрипел я и сплюнул сгустком крови ему на плечо. Солдат привстал на корточки, поднял голову, посмотрел себе на плечо, увидел сгусток крови и заморгал глазами. Я подумал, что он сейчас заплачет.
– Ты что? Мертвый? Или в штаны наложил? Может, ты задумался? Мать твою в душу! Чего сидишь? Помоги! Затащи меня в окоп!
Солдат виновато улыбнулся, встал на ноги и помог мне свалиться в окоп.
– Ты чего здесь делаешь?
Солдат сдвинул каску рукой на голове. Подвинул её на затылок и внимательно посмотрел мне в лицо. Я смотрел на него, а он рассматривал мои капитанские погоны и кровь на сдавленных губах.
– Вы ранены, товарищ гвардии капитан! У вас вся нижняя челюсть и шея в крови!
– Достань у меня из кармана индивидуальный пакет, оботри кровь и сделай перевязку! Откуда у меня кровь? Боли нет никакой!
Солдат проворно достал у меня из нагрудного кармана перевязочный пакет, зубами сорвал упаковку, отстегнул от ремня флягу с водой, намочил марлю, обмыл мне лицо. Была рассечена немного бровь. Другой раны на лице не было никакой. Свежая кровь сочилась между губ и тонкой струйкой сбегала из носа.
– У вас, как в драке. Всё лицо разбито. А раны нет никакой!
Он смочил водой перевязочную салфетку и приложил мне на переносицу.
– Держите ее рукой! Кровь скоро пройдет!
Действительно. Мокрая прохладная салфетка сделала свое дело. Во рту соленый привкус. А из носа перестало лить.
Я сплюнул сгустком крови. Солдат протянул мне свою фляжку с водой. Я сделал несколько глотков. Во рту тоже, кажется, все очистилось. Фляжка была немецкая, обшитая толстым сукном. Пленные говорили, что такие фляжки летом выдают солдатам в Африканском корпусе, чтобы в них не перегревалась вода. Если увлажнить чехол, то вода внутри будет и в жару прохладная. Говорят всякое. Может, это тоже брехня?
В носу у меня, кажется, подсохло. В рот из глотки чуть-чуть еще поступала и сочилась свежая кровь. Я сплевывал ее периодически. Я отбросил влажный бинт с переносицы и достал сигареты.
– На, закури! – предложил я солдату.
Я сел на корточки в солдатском окопе и мы закурили. Я курил и смотрел на солдата. Он пускал дым и смотрел на меня.
Через некоторое время я окончательно пришел в себя.
– Ты чего один здесь сидишь? Где твоя рота? – спросил я посматривая на него.
– Почему не в роте?
– Я линейный телефонист. Сижу на связи.
– На какой ты связи сидишь? Если с ротой связи нет никакой?
В это время близко ударили с десяток снарядов. Мы оба пригнулись.
– Рота здесь недалеко. Мне из батальона провод дают. Я его до роты тяну. Прибежит сюда напарник из батальона. Он останется здесь, а я дальше пойду. У каждого свой участок.
– Понятно, понятно! – прервал я его.
– Скажи-ка мне вот что. Где командир роты сидит?
– Командир роты? Он там, в роте сидит.
– Я знаю, что в роте. Где его окоп?
– Прям по дороге и влево метров двадцать на самом берегу.
В окопчике, где я сидел с солдатом, было тесно. Солдат связист отрыл его из расчета на одного. Окоп был не глубокий. Если встать в нем во весь рост, то будет по пояс. Все правильно! – оценил я. Окоп рыть глубже нельзя. При близком ударе окоп может засыпать землей. В неглубоком окопе из земли можно встать, разогнув колени. А при взрывах кругом, голову приходилось подгибать, сидя на корточках, к коленям. Здесь внизу мелкие снаряды не рвались. Здесь немцы вели обстрел тяжелыми, фугасными. Взрывы следовали реже, чем наверху, не перекрывали залпами друг друга, но от их ударов земля кидалась в стороны с огромной силой.
На солдате была надета каска. После каждого тяжелого взрыва земля вскидывалась высоко вверх. Окоп вместе с землей раскачивался из стороны в сторону. Сверху в окоп летела земля, падали камни, куски земли и дерна. Каска у солдата иногда позвякивала от ударов. А у меня на голове не было даже пилотки. Ее во время удара сорвало у меня с головы и куда-то отбросило.
Я прикрыл голову ладонью. Лучше раздробленная кисть руки, чем удар по черепу упавшего с неба камушка.
Почему разведчики не носят каски, подумал я и тут же сам себе ответил. Под такими обстрелами мы практически не бываем, а в работе они мешают нам, когда торчат на голове.
Волосы, спина и плечи у меня были покрыты слоем земли. Немец бил тяжелыми фугасными снарядами, поднимая в воздух огромные тучи земли.
Дорога, у которой я сейчас сидел, и которая спускалась вниз с бугра, шла к броду через реку Царевич. Только здесь могли пройти и переправиться на ту сторону наши танки. Брод имел каменистое ложе и по нему могли пройти танки, пушки на гусеничной и конной тяге. Вот почему немцы вдоль дороги всаживали именно тяжелые фугасные снаряды. Переправу они будут все время держать под огнем. Нужно уходить от сюда, пока не накрыло прямым попаданием.
Но именно теперь тяжелые снаряды неудержимо неслись к земле, так что перевести дух, не было времени.
Земля металась и билась. Колебания её не успевали затухать, как новые удары и толчки подбрасывали её снова с невиданной силой. Огромный столб земли и дыма стремительно поднимался вверх. Яркое солнечное небо стало меркнуть. Я выглянул несколько раз поверх земли, когда время между взрывами стало чуть больше. Но каждый новый могучий удар заставлял меня пригибаться, а иногда просто кидал меня на дно окопа. В промежутках между взрывами я слышал впереди то крики, то какие-то голоса. В глаза и в нос лезла земля, пыль и отвратительная химическая гарь взрывчатки. Сколько времени просидел я так под обстрелом, трудно сказать. Да и кому в голову придет следить по часам, когда того и гляди, тебя разорвет на куски любым взрывом. Мы упирались в стенки окопа руками. Прислоняться к стенке окопа спиной во время обстрела нельзя. При близком ударе через стенку окопа можно получить в спину сильнейший удар. Перебьет дыхание, засипит землей, сдавит грудную клетку – ни вздохнешь, ни поднимешься на ноги. Заживо засыплет, и останешься в земле. В первое мгновение перед взрывом стараешься набрать воздуха в лёгкие и задержать дыхание. Внутри надутая грудь спружинит удар. Но, иногда на один вдох приходиться по несколько ударов.
Но вот обстрел кончился. Наступила внезапная тишина. Я не стал ждать, когда пауза оборвется. Я тут же выскочил из окопа и побежал по дороге вперед. Пробежав кусты, я метнулся вправо и увидел командира роты. Он сидел в неглубоком окопе и выглядывал из него. Он глазами искал своих солдат, которые, пригнувшись, сидели в небольших окопчиках. Они были тоже неглубоко зарыты в земле.
Я передал ему приказ командира полка и спросил:
– Где комбат? Приходил ли он в роту? И какие потери в роте?
– Где потери? – ответил он мне невпопад. Его видно тоже слегка тряхнуло и контузило, потому, что он не уловил даже моих вопросов.
В это время сзади нас на дороге появились закопченные танки. Это были тридцатьчетверки. Их было штук шесть или семь. Они шли колонной друг за другом. Развернувшись на ходу на крутом повороте дороги передний танк, не снижая скорости, пошел прямо на наш окоп. Кричать было поздно и бесполезно. Махать руками напрасно, было не к чему. В дыму и пыли, сидящего в окопе человека, все равно не разглядишь.
Командир роты сидел в окопе ближе к дороге. Передний танк гусеницей прошел у него над головой и чиркнул по каске. Окоп был не глубокий. Пригнуться ниже было просто некуда. Танк всей своей тяжестью придавил рыхлую землю, вдавил на четверть борозду и забросал окоп землей. Потом он дал нам дыхнуть отработавшими газами. Ротный скорчился, замер и не шевелился. Танк прошел. Я потрогал командира роты за плечо.
– Ты жив, лейтенант?
Он разогнулся, посмотрел на меня, глубоко вздохнул и ничего не ответил.
Второй танк шел правой стороной дороги. Под ним тоже гудела земля. От окопа он был на некотором расстоянии. Я вскочил на ноги и замахал ему растопыренной ладонью. Танк лязгнул гусеницами, качнулся вперед и замер на месте. Стукнула крышка верхнего люка и над башней в отверстии появилась голова в черном танковом шлеме.
– Задавишь солдат! – крикнул я и показал рукой на след гусеницы первого танка. Танкист помахал мне рукой и понимающе закачал головой. Танк, заурчав, дернулся и рванулся с места. Остальные машины последовали вслед за ним.
Я обернулся к лейтенанту и сказал ему:
– Тебе пора поднимать своих солдат!
Танки теперь дымили у брода.
Немецкая пехота, увидев наши танки, побросала окопы и побежала на высоты. Я выпрыгнул из окопа и крикнул лейтенанту:
– Подымай быстрей своих солдат! Бегом на тот берег! Пока немцы обстрел прекратили! Чем ближе подойдешь к немецкой пехоте, тем потерь меньше будет! В этом спасение твое!
– Давай вперед! – закричал лейтенант.
Солдаты видя, что какой-то капитан прибежал в роту и тоже кричит, поднялись на ноги, повылезали из своих укрытий и небольшими группками побежали к воде.
– Действуй лейтенант! Я во вторую роту должен идти!
Я повернулся и побежал назад по краю кустов, огибая болото. Где-то впереди, делая крюк по заболоченной низине, протекала река Царевич. Перебегая по твердой земле и огибая топкие промоины, я торопился. Сидя в окопе под обстрелом я потерял много времени. Здесь в низине немецкие снаряды и мины не рвались. Раза два я попадал под пулеметный огонь. Пока я бежал, между кустов и тонких белых березок меня не было видно. Но стоило мне показаться в небольшом открытом пространстве, как тут же в мою сторону следовала длинная пулеметная очередь.
По мере того, как я приближался к реке, пулеметный огонь прекратился. Теперь я не перебегал от куста к кусту, а просто шел, мне нужно было передохнуть на всякий случай.
Через некоторое время, я подошел к крутому берегу Царевича. Обрыв к воде был не высокий, всего метра два. Здесь река текла между обрывистыми берегами. Ни танкам, ни артиллерии здесь не пройти. Я осмотрел оба берега подмытые водой. Я искал спуск, где бы удобней было спуститься к воде. Речная вода спокойно текла между двумя высокими берегами.
Если взяться за куст, наклонить его вниз, то можно не прыгая спуститься на руках к воде. Нужно только в последний момент упереться ногами в корягу, что торчит у самой воды. Раздеваться, что ли? – подумал я. Не полезу же я в воду в полной амуниции? Кругом тихо, ни разрывов снарядов, ни пулеметной стрельбы! Я же не под огнем пойду через речку! Можно и раздеться, раз тихо кругом!
Я собрался уже снять сапоги, но услышал сзади едва уловимый шорох. Повернул голову назад, и увидел в траве двух лежащих солдат и голубоватый дымок махорки. Я поднялся на ноги и направился к ним.
– Вы чего тут делаете? Почему не в роте?
– Мы санитары, товарищ гвардии капитан! Нас оставили здесь для переправы через речку раненых.
Солдаты были без сапог. Сапоги и портянки лежали рядом за кочкой.
– А как вы их перетаскиваете?
– Глубина здесь большая?
– По грудь! Больше не будет! В этом месте мы не раз ногами щупали дно.
– Дно местами илистое, но под ногами твердо. Мы веревку натягиваем, когда нужно носилки на эту сторону нести. Ночью тоже по веревке удобно будет идти. Носилки на руках над головой поднимаем.
– А где сейчас ваша рота? Далеко от берега на той стороне?
– Не, не далеко! В конце этой низины лежат. У самого края, где начинается к лесу подъем.
– С полкилометра будет?
– Вроде бы и так!
– У нас здесь телефонный провод проложен. Вы идите по проводу. Я встал, подошел к реке и только сейчас, когда мне сказали на счет провода, я его сразу заметил. Он был перекинут поперек реки.
Я присел на мягкую кочку, стянул с себя сапоги, разделся до гола и сложив всё в гимнастерку, завязал её рукава. В кальсонах в воду не полезешь, потом сушить нужно будет их. А трусы, как сейчас, тогда солдаты и офицеры не носили. Они вообще у мужчин были не моде. В армии все носили исподние с завязочками на поясе и на ногах. В купальнях и на пляжах имущие мужчины, кто был побогаче, носили в ту пору купальные костюмы трико в полоску, как зебры. У спортсменов были трусы и плавки. А простой, не имущий народ мылись, купались и ловили рыбу в реке бреднем и руками в белых кальсонах с завязочками. Мужики боялись, что за срамное место может схватить зубами водяная крыса или сам водянкой.
Я разделся наголо и в воду спустился "по-царски". В одной руке я держал пистолет, а другой поддерживал узел с вещами на голове.
Левее по берегу, солдаты прорыли ступеньки к воде. Я спустился по ним и медленно вошел в воду. Вода прохладной струей обдала меня. Подойду к противоположному берегу, решил я, брошу на берег узел с барахлом и искупаюсь. Времени только мало!
Русло реки и обвисшие берега противником не просматриваются. У поверхности воды тихо. Как в мирное время. Две, три минуты ничего не решат. А обмыться водой от слоя земли, пожалуй, надо.
Может неудобно перед солдатами? Скажут, по делу в роту идет, а сам как на курорте ныряет и плавает! А что собственно неудобно? Неудобно штаны через голову одеть! На войне все удобно!
Дойдя до противоположного берега, я остановился, швырнул на вытянутой руке за край обрыва свое барахло, положил в траву на самый край пистолет и освободившись от ноши шагнул обратно в воду.
Плавать было некогда. Я присел в воду и окунулся с головой. Сидя под водой, я промыл волосы, смыл землю и пыль и поднялся на ноги. Я передохнул, набрал в легкие воздуха и опустился еще раз. Не открывая глаза, я набрал в рот воды. Вынырнул и пустил изо рта длинную струю. Открыл глаза, решив взглянуть, куда и как далеко она долетела. И тут, неожиданно увидел перед собой медленно подплывающие на меня солдатские трупы. Лиц убитых не было видно. Лица их были опущены в воду. На поверхности воды их поддерживали надутые воздухом гимнастерки. Я попятился к берегу, пропуская их мимо. Окунаться больше не хотелось, пригладив рукой мокрые волосы, я поднялся наверх по крутым ступенькам.
Вылезая наверх, я испачкал коленки. Обтер их пучком сорванной травы, быстро оделся, взял пистолет и посмотрел на поверхность воды.
Смерть за нами ходит и спереди и сзади!
Мы каждый раз удивляемся смерти других. Когда-то и другие будут с удивлением смотреть на нас, когда мы отбросим свои копыта.
Я ещё раз посмотрел на поверхность реки, трупы солдат, тихо покачиваясь, заходили за поворот. Кому охота возиться с убитыми и трупами? Их нужно вылавливать, вытаскивать из воды, рыть яму, а у санитаров наверно и лопат больших саперных с собой нет. Ступеньки рыли телефонисты, как выяснил я потом.
У солдат санитаров должны быть чистые руки, чтобы трупным ядом не заразить с кровавыми ранами других. Лопат они с собой не берут. Лежат оба между кочек и в случае обстрела, самим деваться будет некуда. В воду под берег полезут.
Я не стал их принуждать возиться с трупами. Мертвому теперь все равно. Где гнить и где лежать. Это живые представление с похоронами устраивают.
Мне нужно было спешить и я, посматривая по сторонам, и не упуская из вида телефонный провод, заторопился в роту. Я пригнулся на всякий случай, местность была открытая и незаметно повышалась. До того места, где лежала вторая стрелковая рота, оставалось метров сто. Кочек и кустов не было. Под ногами была густая трава. Слева от телефонного провода тянется по земле, примятая ногами, стежка в траве.
Впереди над землей показались солдатские зеленые каски. Они торчат из травы и изредка шевелятся и вертятся. Командир роты, увидев меня, поднялся из-под куста и стал махать мне рукой из своего неглубокого окопчика.
– Связь работает? – спросил я его.
– Со связью всё в порядке! Только что звонили из батальона! Комбат потери запрашивает!
– А где он сидит? По дороге сюда я его не видел. На той стороне Царевича лежат два санитара. Это твои? Или санвзводовские?
– Где они лежат? На этом или на том берегу?
– На том, конечно! А ты, где бы хотел, чтобы они лежали?
– Они опять на тот берег ушли!
– Ладно! Это не важно! На том или на этом! На том даже удобней? Подойдешь, спросишь. Где вторая рота лежит? Они тут же покажут.
– Ты вот что лейтенант! Покажи мне лучше, где немцы окопались?
– Немцы? Они на высотах сидят!
Перед нами метрах в двухстах пролегала опушка леса. Вдоль опушки вправо шла полевая дорога, которая упиралась в обрыв, сворачивала влево и огибала угол леса. Над обрывом в несколько этажей поверхность земли постепенно повышалась и упиралась в подножье большой высоты. Впереди у подножья высоты были видны немецкие окопы и свежие выбросы земли.
Слева к высотам углом примыкал лес. А там, за Кулагинскими высотами в десятке километрах находилась Духовщина.
– А чего ты сидишь и не подвигаешься к немцам? Командир полка требует решительных действий, а у тебя тут полная тишь, гладь и благодать!
– А у меня приказа нет! Я получил от комбата боевой приказ форсировать Царевич, занять плацдарм и удерживать его.
– Кто же, так держит?
– Мы! Лежим и держим его!
* * *

– курсивом выделен зачеркнутый текст
26.09.1983 (правка)
Август 1943

Я смотрю на высоты и спрашиваю лейтенанта:

– Так ты говоришь! Связь с батальоном есть?
– Есть! Вон за кустом в окопе телефонист сидит.
Я перебираюсь из окопа лейтенанта в окоп телефониста.
– Линия работает? – спрашиваю я.
– Так точно! Связь с батальоном есть!
– Звони в батальон! Пусть поставят перемычку на полковую связь.
– Я капитан из разведки! Пусть вызовут "Первого"!
– Соедините меня с "Первым" – прикрыв рот ладонью, закричал в трубку телефонист. Гвардии капитан из полковой разведки будет говорить!
Ячейка у телефониста не глубокая. Я сижу на краю, и свесив ноги достаю до дна окопа. Окликнув лейтенанта, велю ему подать мне бинокль. Надо осмотреть опушку леса, решаю я. До опушки недалеко. Она тянется параллельно Царевичу. Вглядываюсь внимательно. Осматриваю каждый ствол дерева и каждый куст. На опушке леса немцев не видно. Близость наших солдат давно бы вызвала с их стороны стрельбу. Лес уходит к обрыву, и несколько поднимается вверх. У самого обрыва угол леса.
Открываю карту, смотрю что там. От угла леса опушка поворачивает на юго-запад. Между лесом и оврагом обозначена деревня Кулагино, с церковью по середине. За оврагом, который тянется к реке Царевич, господствующие высоты 220 и 235. Смотрю по карте, верхняя кромка обрыва перед оврагом проходит по горизонтали с отметкой 200.
Мы находимся метров на десять, двадцать ниже её. За обрывом ровное поле, поросшее мелким кустарником. Поле постепенно понижается к поперечному глубокому оврагу. За оврагом на высоте 220 видна немецкая траншея. Еще дальше господствующая высота. На её склонах видны окопы, траншея и хода сообщения.
Сам обрыв и поле за обрывом немцами незаняты. Видно на все обрывы и бугры у немцев просто не хватило солдат. Если бы у немцев их было достаточно, они создали бы сплошную линию обороны. Они оседлали бы опушку леса и наша рота болотистую пойму реки, без больших потерь, не перешла.
Пулемет, который бил по мне, когда я шел сюда, находился на господствующей высоте. А здесь,
по-прежнему пока спокойно и тихо. Лес старый, деревья большие. Перед лесом болотистая низина. Позиция для немецкой пехоты исключительно выгодная. Берега у реки обрывистые. Здесь танкам и артиллерии не пройти.
Выше по течению, на участке первой роты имеется брод. Глубина небольшая, дно каменистое. Вот почему немцы сосредоточили все свои силы именно там. Здесь на высоте 220 для прикрытия оставлена только пехота. Там главные силы прикрывают дорогу на Духовшину.
Здесь на участке второй стрелковой роты стрельба не ведется, стоит тишина. Я имею в виду стрельбу со стороны немцев, потому что наши славяне редко когда стреляют. Какой прок стрелять, когда знаешь заранее, что не попадёшь. В это время меня соединили с «Первым», телефонист подал трубку.
– Где ты сейчас находишься? – спрашивает он.
– Посмотри по карте и дай мне свои координаты!
– Ты говоришь, что рота без потерь может продвинуться вперед и занять обрыв?
– Да, да! – подтверждаю я.
– Я сам, с ротой пойду на обрыв. Доведу их до места! Покажу где окопаться! И вернусь к себе! Я третьи сутки считай на ногах, без сна и без отдыха.
– После занятия обрыва разрешаю тебе вернутся обратно! – дал своё согласие «Первый».
– Сколько вам времени нужно, чтобы дойти до обрыва?
– Думаю, что через час солдаты начнут окапываться.
– Давай, действуй капитан! Передай мой приказ командиру роты. С комбатом, я сам поговорю. Жду твоего доклада по телефону через час.
– Связь со мной не отключать! – распорядился «Первый» по линии.
Я передал приказ командира полка ротному и велел поднимать солдат.
– Небольшими группами пусть перебираются к опушке леса! Дойдут до обрыва, кверху не вылезать! Действуй лейтенант! Я иду сзади за ротой.
– А ты! – сказал я телефонисту
– Связь будешь тянуть непосредственно за мной! Под бугром немедленно соединишься и доложишь! На проводе должен быть аппарат «Первого»!
Войдя в опушку леса, мы повернули вправо, и пошли в направлении обрыва. Минут через сорок солдаты подошли к обрыву и сосредоточились под обрывом в кустах. Мы с лейтенантом поднялись на край обрыва, я осмотрелся по сторонам.
– Вот здесь по самому краю будешь траншею копать! Думаю, что в край обрыва снарядами точно не попадешь. Сейчас выведем сюда солдат, пусть окопаются у кромки. А с вечера, когда будет темно, начнешь копать ротную траншею! Копать нужно тихо, без шума! Лопатами над головой не махать. За край обрыва не высовываться. Всех предупреди. Выстави двух наблюдателей, пусть сидят не шевелятся и наблюдают до ночи. Наблюдение вести скрытно. Наблюдателей к работе не привлекать. Наблюдателей менять нельзя. Человеку нужно привыкнуть к местности. Это я тебе из опыта говорю.
Я оглянулся назад и посмотрел вниз к подножью. Там в кустах сидели и лежали солдаты. Они, кто на корточках, кто растянувшись в траве, в прохладной тени кустов дымили махоркой. Сизый дым струился над ними.
– Трех километров не прошли, а уже отдыхают. Устроили перекур с дремотой! Что-то мне твое войско, лейтенант, не нравится!
– Давай подымай своих славян и разводи вдоль обрыва! А сейчас, пока они все вместе сидят в кустах, объяви им боевой приказ и предупреди, чтобы немедля закопались в землю. Действуй лейтенант, а я пока понаблюдаю за немцами!
Солдаты второй стрелковой роты вылезли из кустов и небольшими группами стали подниматься на край обрыва. Влезли на обрыв и приступили к земляным работам.
Я сбежал вниз под обрыв, телефонист соединился со штабом полка и я доложил «Первому». Он был доволен.
– Даю тебе двое суток для отдыха! – великодушно сказал он мне.
– Отправляйся к себе! Когда ты будешь мне нужен, я за тобой связного пришлю!
Я попрощался с лейтенантом, пожелал ему успехов и пошел вдоль опушки леса назад. Я торопился назад. Хотелось поскорей добраться до места, упасть и заснуть, отоспаться за всё это время.
– Командир полка дал мне двое суток отдыха! – объявил я, вваливаясь в блиндаж, где жили разведчики.
– Меня не будить! Рязанцев остается за меня! Передайте ему мой приказ, пусть готовит участок для ночного поиска!
Я уже собирался, не снимая сапог завалиться на нары и сразу заснуть. Но в это время в проходе появился старшина и потребовал меня на выход.
Его повозочный, рядовой разведки Валеев, стоял с котелком холодной воды и полотенцем. Старшина взял у повозочного из рук котелок и подал мне кусок туалетного мыла. Я понюхал, повертел его в руках и посмотрел вопросительно на старшину. А он молча, не слова не говоря, пустил мне на руки струю из котелка.
– Нехорошо товарищ гвардии капитан сопротивляться на виду у подчиненных! – говорил его молчаливый с укором взгляд. Я солдат приучаю к чистоте и порядку. Какой пример подаете им вы?
– Ничего не поделаешь! – подумал я. Придется умыться! Я пожал плечами и стал намыливать руки.
Человек он был собранный и в делах решительный. Он знал, что если мне сейчас не вымыть голову, то я так и буду ходить с куском глины в волосах. Он потрепал мне, своей шершавой ладонью, волосы и я стал расстегивать стоячий ворот у гимнастерки.
– Гимнастерку снимите! Товарищ гвардии капитан у вас грязная шея, не мыта!
Я посмотрел на него недовольным взглядом, улыбнулся и нехотя, стянул гимнастерку и нательную рубаху.
Повернувшись к нему, я послушно растопырил ноги и вытянул шею. Намылив голову, я поскрёб её ногтями, а старшина лил мне на голову подогретую воду из котелка. Прежде чем поливать мне на голову старшина опустил два пальца, не горячая ли она. Протянув мне полотенце, он сказал что-то Валееву и направился в блиндаж.
Когда я вошел туда, старшина извлек из мешка новую пилотку и протянул, мне её. Повозочный, как тень проскользнул в проходе приблизился к столу и извлек из за пазухи бутылку немецкого шнапса. Откупорив бутылку, он поставил рядом железную кружку и пустил из горла бутылки в кружку струю. Когда уровень шнапса достиг половины кружки, я движением руки остановил его.
– Генух! (Хватит!)
На закуску была открыта банка консервы. Я выпил залпом и стал закусывать. Повозочный ополоснул кружку водой, бросил в неё несколько кусков колотого сахара, всыпал щепоть заварки и налил кипятка. Он размешал ложкой чай и пододвинул ко мне кружку. За всеми его проворными движениями наблюдал старшина. Он видел всё, замечал каждую мелочь и как бы мысленно руководил Валеевым. Валеев поглядывал на старшину и глазами спрашивал, разьве, что не так. Старшина выпускал струю дыма изо рта, это означало, что все так, делаешь с пониманием.
Видя, что я пришел усталый и измученный и готов был упасть и заснуть, старшина организовал умывание, еду и кружку сладкого чая на запивку. У него был пом. и зам. в одном лице и он заставил его поворачиваться и торопиться. И Валеев понимал своего старшину с полувзгляда и с полуслова.
Раздачу спиртного старшина солдатам не доверял. Норму спиртного разведчикам он выдавал всегда сам. У него было правило – лучше перелить, чем недолить. Из-за малой малости можно вызвать недоверие, у человека. Мелочность при выдаче продуктов допускать нельзя. У старшины всегда были резервы. А когда кончались запасы, старшина брал валявшуюся ржавую каску и объявлял сбор податей, кто сколько даст. Собирать трофейные часы и разные там штучки он поручал кому-нибудь из разведчиков. Уполномоченный подходил к старшине и молча ставил наполненную каску перед ним. Собранные трофеи старшина передавал кладовщикам. Те в свою очередь выделяли ему дополнительно съестное.
Разведчики голодом, как пехота, не бедствовали. После удачного ночного поиска старшина для разведчиков ничего не жалел. Он знал, что спиртное, выданное за неделю, разойдется за два, три дня. Разведчикам за неделю перед выходом в ночной поиск спиртного вообще не выдавали. Оно накапливалось у старшины.
Выпив кружку чаю, я лег и тут же заснул. Во сне я слышал раскаты грома, шипение дождя и завывание ветра.
Когда я проснулся и вышел из блиндажа, присел на пустой снарядный ящик и закурил, ко мне подсел старшина и рассказал, что произошло, пока я спал, на нарах.
– Командир дивизии отдал приказ и два полных батальона, стоящих в резерве перешли в наступление.
– Это наш третий батальон и соседнего полка из второго эшелона?
– Вроде так!
– Ну, а дальше что?
– Он приказал им днем, схода, пройти болотистую низину, форсировать Царевич и сбить немцев с Кулагинских высот. После короткой артподготовки, около двенадцати часов дня пехота во весь рост спустилась с бугра Крестовой и вошла в болото. Никто не ожидал, что именно в этот момент, на подходе к Царевичу шли самолеты противника.
Самолеты эшелонами, группа за группой появились над поймой реки. Солдаты не успели дойти до реки, а на них уже посыпались бомбы. Два полнокровных батальона, это около тысячи, активных штыков, не считая штабов и полковой артиллерии. Все они остались в болоте. Наступление захлебнулось.
– Все не могли погибнуть, старшина!
– Говорят, небольшие группы наших стрелков успели перейти Царевич, вышли к подножью высот и спаслись от бомбежки.
Немецкие самолеты бомбили не только пойму Царевича. Бомбы сыпались кругом и на бугор Крестовой, где находился наблюдательный пункт командира полка. Бомбежка продолжалась до вечера. Сизый дым и темные облака поднятой в воздух пыли стояли над землею. В горло першило. Нечем было дышать.
К вечеру появились первые раненые. Как обычно те, кто мог самостоятельно двигаться. Сколько убитых и сколько живых осталось в болоте, никто толком не знал. Там наверно были и тяжело раненые.
Рязанцева, с группой разведчиков, накануне отправили в первую роту.
– С каким заданием пошёл он туда? – спросил я старшину. Старшина не мог ничего ответить.
К вечеру от Рязанцева пришел разведчик раненый в руку. Он зашел к старшине, чтобы забрать свои вещи. Старшина всё аккуратно сложил и надел вещмешок ему за спину. Солдат думал, что его с рукой могут, отправить в глубокий тыл на лечение.
– Танки наши сгорели! – сказал солдат.
– Они вышли на равнину, и попали под бомбежку. Пикировщики на них налетели.
– В первой роте потери не большие! С десяток солдат. Наши все живы, кроме двоих. Меня в руку осколком ранило. Двоих наших ребят убило. Вороткову осколком попало в живот. А Лагутину обе ноги оторвало. Рязанцев с ребятами до утра в первой роте будет сидеть. Так сказали в штабе полка. Рязанцев со мной послал в штаб связного. Связь не работает. В болоте много убитых лежит. Утром в первую роту капитана Павленко хотят послать. Вот тогда и отпустят наших ребят.
– Старшина! – сказал я. Дай солдату пару банок консервы. Мало ли, как там, в пути у него может с харчами случиться.
– Спасибо за службу! Больше мне нечем тебя отблагодарить!
Я знал, что капитан Павленко в наш полк прибыл сравнительно недавно. До этого он служил в заградотряде. За короткое время он от лейтенанта успел дослужиться до капитана. Претендовал на майорскую должность – как сам говорил. А потом вдруг попал на передовую. За что его отправили на убой, об этом он помалкивал и наши штабные темнили. В боях участия не принимал, хотя числился в действующей армии. В выслуге лет он раньше имел привилегию. Срок службы, для присвоения очередного звания у него был гораздо меньше, чем у нашего брата, вояк. Не воюя и находясь постоянно в тылу, он имел боевые награды. "Как же это так?" – спрашивали мы себя. "А что? Каждому – своё!" Мы же ловили ваших дезертиров!
Я как-то спрашивал нашего ПНШ-1 капитана Пискарева. За что он попал сюда? Пискарев улыбался, таращил глаза от удивления, мотал головой и говорил:
– Не знаю! Не знаю!
В штабе полка Павленко был некоторое время без дел. Должности не имел. Определенных занятий у него не было. Он был, так сказать, на поручениях у командира полка. Пошлют туда – он и идет. Пошлют сюда, он не отказывается.
– Володя! – представился он мне однажды, когда я зашел к начальнику штаба, по каким-то делам. Володя мне показался, каким-то уж очень бойким и даже вертлявым. Не задумываясь, он давал другим свои советы, как воевать.
На следующий день, утром он сменил Рязанцева в первой роте. Пока Рязанцев не спеша, топал с передовой, а ходил он, всегда не торопясь, в развалку, капитана Павленко убило в первой роте. Командир полка хотел его представить к награде, а он не дождался её. Вот так оборвалась жизнь ещё одного прифронтового "фронтовика".
Докурив сигарету, я вернулся в блиндаж и снова заснул. Я знал, что меня вот-вот поднимут на ноги. Утром командир полка меня снова потребовал к себе.
Когда я, оставив ординарца у входа, спустился к командиру полка в блиндаж, он сказал мне угрюмо:
– Возьми взвод разведчиков и отправляйся во вторую роту! Займете траншею, изготовитесь к обороне, а ты лично займись расследованием ЧП. Сегодня ночью немцы вырезали больше половины роты! Комбату верить нельзя. Он заинтересованное лицо. Он постарается вывернуться и замести следы. В общем, ночью погибло двадцать с лишним. Как это случилось, никто не может сказать. Отправляйся туда и выясни обстоятельства этого дела. По телефону об этом не говори. Доложишь мне лично, когда вернешься. Постарайся, чтобы поменьше людей об этом знали. Особенно при телефонистах на эту тему не стоит говорить. Они холеры, как инфекционная зараза, сразу растрезвонят по всей дивизии. Среди них стукачи и осведомители каждый первый. В полку кроме меня, тебя, комбата и командира роты никто ничего не должен знать. Начальник штаба и тот не в курсе дела. Осмотри всё на месте. В траншею посади взвод разведчиков. Пусть на время возьмут на себя оборону левого фланга полковой полосы. Кстати, вам там понаблюдать за противником весьма полезно. Завтра мы начнем получать пополнение. В первую очередь дам людей во вторую роту. С полсотни придет – своих людей уберешь!
– Ты, наверное, думаешь, что я все время дергаю тебя. Посылаю то туда, то сюда. С меня командир дивизии дерет три шкуры! Квашнин всё время грозит. Я не приказываю. Я прошу тебя по-человечески! Ты понял меня?
– Ну и дела! – подумал я, покачав головой. Командир полка со мной разговаривает, как человек и вполне прилично. Когда это было?
Все инстанции требуют продвижения вперед, грозят, предупреждают и делают выводы. А вперед идет стрелковая рота. Солдаты захлёбываются кровью. А их, солдат, угрозами и не пробьешь. Им огня артиллерии подавай, самолетов с полсотни, чтобы выкурить с высот огневые точки немцев. Слова, это трепотня. Это не пришей кобыле хвост! Это не пойми меня, как я сказал!
Солдаты, на счет угроз, народ не пугливый. Они не будут перед комбатом навытяжку стоять. Валяй, надрывайся, кричи на ротного по телефону. Ротный быдло. Он все вытерпит и вынесет, деваться не куда! Он крайний. Мажешь свою глотку до хрипоты надрывать. Солдату, этот ор, до фонаря, если немецкая артиллерия бьёт по окопам. Это не сорок первый и не сорок второй год. Солдат нынче совсем другой пошёл. Я встану и пойду на немцев? Ты сперва давай подави его огневые точки!
Артиллеристы всех мастей предусмотрительно остались на буграх, в овраге перед болотом. Они утверждают, что им издали лучше стрелять. Большой сектор обстрела! Словом, в болото нельзя с пушками лезть, и через болото они не могут переправить даже полковые пушки. Они напрягали мозги, находили нужные слова и аргументы, чтобы остаться сзади.
Вероятно, у командира полка, не было ни желания, ни воли отправить пару полковых пушек непосредственно в стрелковую роту и поставить их там, на прямую наводку. Любой немецкий пулемет можно с первого выстрела уничтожить. Под огнем пулемёта, когда ты вылез из-за укрытия, не сделаешь и десятка шагов по земле. А стрельба из пушек по немецкой траншее издалека, это утеха для дураков. Одного пулемета в полосе наступления стрелковой роты достаточно, чтобы рота захлебнулась кровью. Полковые пушки бьют с дистанции трех километров. Куда они бьют? Попробуй в пулемет попади!
Артиллеристы начинают доказывать, с пеной у рта, что командир роты врет, что командир роты трус, что немецкие пулеметы тут не при чем. У командира полка мысли растопырились. Пойди, разберись! Почему рота лежит? Почему пехота несет потери? Конечно, командир роты виноват! Проводная связь давно оборвана. В роты посланы связные. Но никто из них не вернулся назад. У командира полка не хватило ума и духа выгнать полковую братию, артиллерию с пушками на прямую позицию к солдатам в окопы. Стрельба из пушек прямой наводкой дает исключительный эффект. Через час немецкая траншея была бы забита трупами немецких солдат. Артиллеристы бояться за свои собственные шкуры. Как Царевич форсировать? Мы, мол, можем все пушки потерять!
Прикрытия с воздуха стрелковые роты тоже не имели. Зенитные пушки (257-го ЗАДа) прикрывают штаб дивизии. За целый день бомбежки они не сбили ни одного немецкого самолета. Каждому – своё! У них тоже удача не сыплется манной с неба.
Из прохода блиндажа докладывают:
– Прибыл связной из первой роты!
– Давай его немедленно сюда! – отдает команду командир полка.
В проходе появляется покрытый пылью солдат.
– Ну что там у вас в роте?
– Бомбят! Товарищ гвардии майор!
– Ну и что? Сам вижу, что бомбят! На то и самолеты! Чтобы бомбить!
– Где находится рота?
– Рота на том берегу под бровкой лежит!
– Так-так! – говорит командир полка и обращается к начальнику штаба.
– На солдата нужно заполнить наградной листок! – и поворачиваясь к солдату, добавляет:
– Ты будешь представлен к правительственной награде! Пойдешь сейчас обратно в роту и передашь мой категорический приказ. Командиру роты немедленно поднять роту и двигаться на высоту!
– Понял?
– Так точно, понял!
– Иди!
– Тебе, капитан, тоже нужно идти!
Я повернулся и вышел из блиндажа. Мы под бомбежкой должны были пройти низину, спустится с бугра, войти в болото и перебежками уйти в сторону реки. Впереди и справа рвались немецкие бомбы. Самолеты входили в пике, включали сирены и под раздирающий душу вой сыпали бомбы.
Облака вздыбленной земли, дыма и пыли застилали всю низину кругом. В одном месте мы залегли. Удары сыпались так близко – казалось, что мы вместе с землей куда-то летим. Мы не надеялись остаться в живых.
Кругом огромные черные всплески земли и облака сизого дыма. Удары следуют сплошной чередой. С визгом и грохотом вокруг рвутся тяжелые бомбы. Удары чередуются с неистовой силой и ревом. Дышать нечем. Делаешь вздох, ударной волной бьет в нутро так, что выдоха сделать не можешь.
Но вот наступила пауза. Самолеты отвернули в сторону. Мы вскочили на ноги и не разбирая дороги, бегом подались вперед. У реки, мы ещё раз попали под бомбы.
Часа через два бомбежка несколько спала. Мы переправились на тот берег реки и издёрганные бомбежкой, добрались до роты.
Свежая, выброшенная из траншеи земля не успела слежаться. Бруствер траншеи был рыхлый. Дерном его прикрыть не успели. Все эти дни солдаты работали без сна и отдыха. Командир полка отдал категорический приказ второй стрелковой роте немедленно зарыться в землю в полный профиль. Солдаты за два дня успели отрыть около ста метров сплошной траншеи. С правого фланга над обрывом были построены две землянки для отдыха солдат.
На кануне вечером в роте были закончены все основные работы, и командир роты решил дать отдых своим солдатам. На ночь он выставил смену часовых, а остальные тут же завалились спать. В землянках все не уместились. Десятка два солдат остались спать в открытой траншее. Рота получила приказ перейти к обороне. Она занимала ответственный участок обороны, прикрывала левый фланг наступления полка и дивизии.
Я прошел в землянку, где находился командир роты. Разведчики остались в траншее.
– Ну что у тебя? – спросил я его.
– Комбат грозился под суд отдать! Кричал, что я во всем виноват! А я трое суток не спал! Оставил за себя помкомвзвода.
Мы прошли с командиром роты вдоль траншеи. В ней в разных позах сидели и лежали убитые солдаты. Кого смерть застала лежа на боку, кого настигла сидя на корточках. Все они перед смертью спали и остались с закрытыми глазами. Один видимо успел открыть глаза и принял смерть стоя. Он лежал ничком на дне прохода и смотрел невидящим взором куда-то в небо. Винтовки солдат остались на месте.
Я понимал, что командир роты все это время маялся без сна и отдыха на ногах. У него минуты не было, чтобы прилечь на короткое время. Комбат вечером каждый раз вызывал его к телефону. Связь работала. Командира роты через каждые два часа вызывали к телефону и требовали отчета. А с кого еще можно три шкуры снять? Ясно дело с Ваньки ротного! Приказы те по всем инстанциям друг другу передаются, а выполняет их всегда одно лицо.
Комбат получил приказ по инстанции сверху, передал его командиру роты и требует исполнения. А Ванька ротный из офицеров в роте один. Это солдаты. А это их командир. Солдаты свою линию гнут, у них смекалка для этова. Ротный, кровь из носа, должен выполнить данный ему приказ. Вот и крутись и решай, что вперед, а что потом. С солдата полковое начальство не спросит. У нас на войне исполнитель один. С него и дерут три шкуры все кому не лень. Войну ведут стрелковые роты. Ванька ротный и делает войну. Вот он за всё и отвечает.
Когда траншея была готова, ротный доложил комбату и лёг спать. Лейтенант понадеялся на солдат, пошел в землянку и решил выспаться, чтобы к утру, на рассвете, быть на ногах. Примеру ротного последовала свободная смена. Солдаты тоже завалились в землянку. А на кого там места не осталось, расположились в траншее. Часовые, видя, что все спят, присели на корточки и заклевали носами.
Нужно было принять какие-то меры. Но никто не подумал об этом. Немцы тоже в ночное время спят.
Солдаты были убиты ножом. По этому вопросу особых доказательств не требовалось. И так всё было видно. Но кто были эти люди? И сколько их было тут? Потом постепенно выяснилось, что ножом работал один. Если здесь вдоль траншеи прошел один, то видимо решительный был человек, ничего не скажешь! Но кто он был? Наш или немец?
Если он был наш и сидел среди своих, ждал только случая, чтобы все легли и уснули! Кто он? И откуда он? Если он был среди солдат и затаился на время? То отпечатки его ног на свежей и рыхлой земле бруствера будут только на выходе.
– Пойдем в левый край траншеи, посмотрим там! – сказал я командиру роты и спросил,
– Когда это произошло?
– Чуть светать стало, я вышел из землянки. Решил проверить часовых. Прошел шагов пять, вижу, один поперек траншеи лежит. Потряс его за плечо. Он не шевелится. Вижу под ним кровь на дне траншеи. Иду дальше, второй и третий тоже мертвы. Кричу своего помкомвзвода – никто не отвечает. Прошел еще вперед, смотрю опять мертвые. Вернулся в землянку, велел соединить меня с комбатом. Доложил что в роте ЧП, погибли двадцать человек. Вот собственно и всё.
Мы прошли до конца траншеи влево, здесь часовых ночью не было и на дне траншеи я увидел четкие отпечатки немецких сапог. На рыхлом отвале земли переднего бруствера были видны глубокие следы тех же ног. Вот след ног на бруствере, вот отпечаток сапог спрыгнувшего. Вот отпечаток руки, когда он держался за край траншеи. По следам и по убитым было видно, что в траншее с ножом действовал один человек. Он не дошел до конца траншеи вправо, Там были землянки и он побоялся, напороться на часового.
В том месте траншеи, где он вылез наверх и поднялся на бруствер, были видны отпечатки его коленок и рук, а затем два широких шага в сторону нейтральной полосы. Вот собственно и вся картина гибели наших солдат.
Два отделения разведчиков я распределил по всей траншеи. Командиру роты велел, собрать всех убитых солдат, спустить их под обрыв, вырыть в кустах общую могилу и без всякого шума засыпать погибших.
– Разведчики останутся здесь! – сказал я командиру роты. А я должен вернуться немедленно в полк. Своих солдат разобьешь на две смены! Поставишь в траншею вместе с моими ребятами! Мои, тоже половина будет стоять, половина спать. Без отдыха, люди нести службу не могут. Со мной пойдет мой ординарец. Думаю, что к вечеру сюда вернусь! У меня за старшего останется Серафим Сенько. Вот вы с ним по очереди и отдыхайте! Мои разведчики твоим солдатам спать не дадут. На счет этого можешь быть абсолютно спокоен. Так, через каждый часик пройдешь по траншее, поговоришь с ребятами о том, о сём.
Особенно не горюй! Твоя вина конечно есть. Но не такая, чтобы тебя отдавать под суд. Карьеру ты себе испортил! Комбатом тебе не бывать! По собственному опыту знаю. С роты тебя не снимут. Так в роте и останешься воевать. Попрекать тебя до самой смерти будут. Такие у них на этот счет языки. Я тоже года два в "рыжих" ходил. Не отчаивайся лейтенант! Может, ранит и избавишься от них.
Мы спустились с ординарцем под бугор, вышли на тропинку и побежали вдоль опушки леса, пока под ногами была твердая земля. По болоту мы шли не торопясь. Немец болото обстреливал минами, торопиться было не куда. и не за чем. Через речку переправились быстро. До командного пункта полка то бежали, то шли медленным шагом приглядываясь к разрывом. В общем, добрались мы до блиндажа без особой нервотрёпки и труда.
Когда я спустился в блиндаж, командира полка на месте не оказалось.
– Что-то случилось? – подумал я. За его столом сидел начальник штаба нашего полка Денисов. Он оторвался от телефона и показал мне рукой – садись мол. Закончив разговор, он повернулся ко мне. Я сказал ему, что меня вызвал лично “Первый”. Начальник штаба пропустил мои слова мимо ушей.
– Значит “Первый”! – произнес задумчиво он.
– Командира полка больше нет!
– Его, что убило?
– Убило, не убило! А в полку его больше нет!
– Докладывай мне! Что у тебя там?
Я подробно доложил о происшествии во второй стрелковой роте. В заключение я сказал, что командир роты в этом не виноват. Его заставили без отдыха и без сна рыть траншею в полный профиль. Комбат накануне вечером в роте не был. Комбат грозит ротного отдать под суд. Думаю, что он просто перестраховывается, хочет подставить ротного вместо себя под шишки. Потом я спросил Денисова, есть ли возможность пополнить роту солдатами, чтобы освободить разведчиков от несения службы в обороне.
– В ближайшие три, четыре дня пополнения не будет. Обещаю прислать замену, как только полк получит маршевую роту. Тебе самому придется пойти в роту и это время побыть с разведчиками там.
– Учти, что это не только наш левый фланг, это фланг всей дивизии. Он должен быть надежно прикрыт. А мы, как видишь, ничего не можем сделать. Немцы могут нас обойти со стороны Кулагинских высот.
– В таком случае, – сказал я, – снимите Рязанцева из первой роты. Я пошлю его в Кулагинский лес, пусть разведает обстановку на нашем левом фланге. Может и языка, где по дороге возьмет.
– Я согласен! – ответил Денисов.
– Можешь Рязанцева из первой роты снять! Я доложу об этом в дивизию. Держи меня в курсе дел! В случае изменения обстановки и обрыва связи донесения будешь слать связными.
– Ты свободен! - Можешь идти!
Я вышел из полкового блиндажа, зашел в землянку к связистам и велел соединить меня со старшиной разведки.
– У меня к тебе Тимофеич срочное дело! Слушай и запоминай! Пошлешь связного к Рязанцеву в первую роту, пусть тот немедля снимает разведчиков и отправляется к тебе. Скажешь приказ полка, лично майора Денисова. Накорми ребят и передай Рязанцеву, что сегодня ночью он должен выйти со своей группой ко мне в расположение второй стрелковой роты. Пусть подготовит снаряжение для поиска. Хватит ему в окопах с пехотой валяться.
– Слушай дальше, это задание тебе! Немедленно отправляйся в тылы полка, достань два ротных миномета и по паре ящиков мин, катушки провода и четыре аппарата. Ночью, когда Рязанцев пойдет ко мне, отправь всё с ребятами и не забудь послать мне стереотрубу. У меня к тебе все!
Отдав старшине необходимые распоряжения, я вышел наверх и позвал ординарца.
– Обратно, во вторую роту пойдем! – сказал я ему. Давай посидим, перекурим, приведем мысли в порядок. Через некоторое время мы встали, спустились с бугра и вошли в болото, под раскаты взрывов немецких мин и снарядов. За время моего отсутствия в роте ничего существенного не произошло. Мы с Кузьмой поднялись по обрыву, и зашли в траншею.
– Как дела? – спросил я разведчиков.
– Все спокойно и тихо, товарищ гвардии капитан! Немцы ходят у себя по траншее. Иногда постреливают из пулеметов в нашу сторону.
– Это хорошо, что они стреляют. Завтра мы им всыпем по первое число! В нашей траншее сидела смена разведчиков и смена солдат стрелков.
– Передайте по цепи! Гвардии старшего сержанта Сенько ко мне!
– Вот, что Серафим! Метрах в пятидесяти перед нашей траншеей сегодня ночью отроешь две щели для наблюдения и две огневые позиции для ротных минометов. Щели для наблюдателей расположим на флангах.
– Смотри! Показываю место! На правом НП поставим стереотрубу. Для неё там сделаешь приступку. Минометные ячейки отроешь в кустах, вот здесь и здесь. Минометные ячейки и наблюдательные пункты соединить телефонной связью. Минометы, мины, телефонные аппараты и стереотрубу принесут сегодня ночью ребята. Рязанцев с группой поиска ночью придёт сюда. Он будет вести разведку в лесу, а мы с тобой займемся немцами здесь. Я пойду, отдохну до прихода Рязанцева. Мое место в землянке у ротного. С наступлением темноты приступай к работе.
– Возьмешь с собой отдохнувшую смену!
К утру ячейки и щели были отрыты, телефонная связь налажена, минометы и стереотруба стояли на месте. Ночью ко мне в землянку явился Рязанцев. Мы обсудили с ним задачу на поиск и он, не дожидаясь рассвета с группой ребят отправился в лес.
Перед рассветом я с ординарцем и шесть разведчиков, по два на каждый окоп, вышли вперед. Командир роты и его солдаты были предупреждены. На случай массированного обстрела нашей траншеи все были отправлены в землянки. В траншее остались редкие наблюдатели. С рассветом мы начнем обстрел немецкой траншеи.
Высота 220 перед нами. Немецкая траншея опоясывает ее горизонтальной дугой. В стереотрубу её видно отлично. Два наблюдателя с биноклем на левом фланге. Мы с ординарцем справа, со стереотрубой. Минометы стоят посередине. Расстояние между нами небольшое, в случае обрыва провода, будем поддерживать связь голосом. У минометов сидят по два разведчика. Они не специалисты, артиллерийских курсов не кончали. Это и хорошо. Они в любом тонком деле непревзойденные мастера. Им сейчас самоходки дай, они и из них расстреляют немецкую траншею. У них душа ноет и руки чешутся, им только дай попробовать новое дело.
Определив дальность и угол превышения, я подаю команду и в сторону немецкой траншеи летит первая пристрелочная мина. Минометные ячейки отрыты в кустах, вспышки огня и выброса дыма со стороны немцев не видно.
– Отлично! – сказал я глядя в трубу, когда первая мина ударила сзади немецкой траншеи.
– Огонь веди не торопясь! Прицел доверни на одно деление ближе! Доложи готовность!
– Готов! Давай вторую мину!
Миномет снова чихнул. Звук выстрела такой, как будто кто-то деревянной палкой ударил по пустой железной банной шайке. Хорошо знакомый звук, если по пятницам ходишь в общественную баню. Вон у нас в Москве на Банном, мужики в бане, до сих пор гремят железными шайками.
Смотрю в стереотрубу. Небольшой дымок вскинулся перед немецкой траншеей.
– Доведи на пол деления обратно! И давай еще одну осторожно, с любовью!
Левый наблюдатель подтвердил попадание в траншею. Когда мина влетает в траншею, всплеска дыма при взрыве не было видно.
– Первый замри! У тебя прямое попадание в траншею!
– Второму приготовить одну мину для пристрелки! Готов? Внимание! Огонь!
Второй после пяти, шести выстрелов тоже попал в середину.
– Теперь самое главное! Слышите меня оба? Первый два деления вправо! Второй два деления влево! Угол превышения не трогать! По одной мине! Приготовились! Огонь!
Теперь колотушкой ударила два раза подряд в банный таз, а я припав к трубе стал искать всполохи дыма на поверхности земли около немецкой траншеи. Левый наблюдатель доложил:
– Попадание прямое!
– Прицел менять по горизонту после каждых пяти выстрелов! Приготовились! Пошел!
– Ну, братцы! Давай шуруй! Чтобы фрицам стало жарко! – крикнул я в телефонную трубку.
– Поддайте им жару! За нашу поруганную честь!
Мины одна за другой вскинулись в небо и ушли к намеченной цели. Нам не было видно, сколько из них рвались в самой траншее, но мы представили, что делалось там, когда увидели, как немцы забегали и заметались в траншее.
Разведчик это вам не миномётчик! Минометчику наплевать попал он или нет, пустил мину и сидит пригнувшись. У него задача одна, чтобы его самого не засекли. А разведчик сел за миномет, тут секи не секи, а два ящика мин он по немцу выпустит. В одиночную ячейку из миномета трудно попасть, а у немцев траншея. Тут, кто кого! У кого нервы и дух крепче тот и выдержит.
Мы посылали мину за миной, корректируя огонь. Недолеты и перелеты тоже были. Но по тому, как немцы метались в траншее, мы знали, что часть мин попадало в траншею.
Инструментальная разведка у немцев работала отлично. Они могли засечь любую огневую точку, с которой велся огонь. Но в данном случае бил самый малый миномет. Вспышек они не видели. Глухие звуки выстрелов им были слышны. Но им в голову не пришло, что мы сидим у них под самым носом. По звукам выстрелов можно засечь направление только. От нашего обстрела немцам стало тошно.
По нашей траншее из-за высоты стала бить немецкая артиллерия. Немцы с каждой минутой наращивали огонь. Но мы тоже не лыком шитые. Мы под общий грохот мину за миной пускали. Главное нужно было показать, что мы их артиллерии не боимся. За какое-то время, выпустив все мины, мы прекратили огонь. Наша траншея и всё пространство вокруг было затянуто облаком дыма и пыли. К вечеру обстрел совсем прекратился. В темноте хорошо видны вспышки при выстрелах.
Приятно было сознавать, что мы всыпали немцам. У разведчиков всегда чешутся руки. Они охотники до всяких таких необычных дел. Спрашивается! Чем занимаются наши минометчики, которые сидят где-то сзади? Немцы до пояса в рост по своим траншеям ходят.
Надо ходить, уговаривать, просить, убеждать:
– Дайте огня!
Разведчики привыкли такие дела делать с налета. Идут где-нибудь мимо огневых позиций минометчиков, часового в сторону, пол-ящика мин пустят в сторону немцев и пошли своей дорогой. Им конечно в спину шлют угрозы, мол, жаловаться будем. "Вам, что лодыри! Подносить мины лень?"
Минометчики стали ящики с минами закапывать в землю. Что они могли сделать? Подойдет, оттолкнет, не будешь стрелять. А потом с этими разведчиками справься. Подойдут и свяжут, если будешь шибко орать. Да ещё клип в рот поглубже засунут. Это не люди, а какая-то сатана!
Ночью старшина принес еще несколько ящиков мин и на следующий день мы возобновили обстрел, немецкой траншеи. Потерь в роте не было. Землянки были врыты под откосом обрыва, снарядами их не возьмешь. Мы обстреливали немцев и ждали, когда дадут пополнение в стрелковую роту, чтобы сдать оборону и заняться своими делами.
Рязанцев с группой разведчиков находился в лесу. Прошло около суток с момента его выхода, к вечеру он прислал связного.
– Как там у вас дела? – спросил я разведчика, который явился ко мне.
– В лесу немцев нет. В глубине леса, от этой опушки метров семьсот, проходит дорога. По ту сторону дороги пустые немецкие окопы и пулеметные гнезда. Они разбросаны друг от друга на прямую видимость. Обойти их или просочиться между ними ночью можно. Мы ведём наблюдение, подбираем себе подходящий объект.
– Ваша задача разведать лес до дороги и пройти его в северо-западном направлении. Нужно лесом выйти с той стороны к подножью высот. Я понимаю, Рязанцев хочет язычка взять. Вот смотри, здесь по карте обозначена деревня Кулагино. Нужно уточнить, есть ли она на местности. И ещё одно нужно, как следует знать, может ли лесом к подножью высот подойти наша пехота. Завтра у командира полка появиться такая идея в голове, мы должны доложить обстановку на этом участке. Но самое главное опять не в том. Здесь проходит левый фланг нашей дивизии, важно знать, не нанесет ли он нам здесь удар в спину. При взятии языка могут быть потери. Сейчас не время заниматься этим. Я Рязанцеву об этом говорил. Повторяю! Сейчас только разведка и наблюдение! Передай ему мой приказ и пусть он с языком до меня подождет. Через пару дней сюда должны прислать пополнение. Разведчиков из обороны выведут, вот тогда и займемся ловлей блох и языков. Вернешься к Рязанцеву и всё, что я сказал, доложи ему. Завтра к вечеру жду от вас связного.
– Вот смотри сюда! У Рязанцева такая карта есть. Вот высота 220 и 222. При выходе на северо-западную опушку леса по компасу возьмете азимут её вершины. На карте от вершины с обратным отсчетом величины угла проведете прямую линию, это будет ваша точка стояния. Ошибка может быть не больше десятка метров. Я пошлю с тобой к Рязанцеву Сенченкова, он в расчетах и на счет взятия азимута вам поможет. Координаты места стоянки передадите мне через связного. Контрольный срок выхода связного завтра до наступления ночи. Наблюдение за немцами и за местностью установите сразу. Наблюдение вести скрытно. На открытые места не выходить. Предупреди Рязанцева, главное не обнаружить себя.
– Да, вот еще что! Скажи Рязанцеву пусть, просмотрит лес по краю дороги. Нельзя ли его заминировать. Я доложу начальству. Может, пришлют полковых саперов. А то, нас заставят вдоль дороги немцев стеречь.
– Кузьма! – Дай водицы глотнуть! А то от долгой говорильни в горле пересохло!
Я хлебнул из поданной фляги прохладной чайной заварки и, вставая, добавил:
– Вот собственно и всё! Тебе пора идти!
Связной кивнул головой, встал молча, поправил автомат, нагнулся в проходе и вышел наружу. Я тоже вышел из землянки. У меня была привычка взглядом их проводить. Вот они мелькнули в створе кустов и исчезали в зелени кроны. До вечера еще было время. Мы вернулись с ординарцем в землянку и на всякий случай завалились спать. Сон для разведчика, как запас снарядов для артиллериста. Лежат несколько ящиков, прикрытые крышками, есть не просят, а пустить их в дело, можно в любой момент. Разведчика тоже можно в любой момент разбудить и поставить на нож.
Стрельбы со стороны немцев особой не было, мы завалились на нары и тут же заснули.
* * *

– курсивом выделен зачеркнутый текст
26.09.1983 (правка)
Август 1943


Пока Рязанцев с группой разведчиков вел разведку Кулагинского леса, мы сидели в расположении второй стрелковой роты и постреливали в немцев из минометов. Старшина помаленьку нас ими снабжал. С наступлением темноты мы покидали свои ячейки и щели, забирались в землянку и отдыхали всю ночь.
Минометные щели были небольшие. На ночь мы их прикрывали деревянными щитами от снарядных ящиков. Доски из-под снарядных ящиков были прочные, под весом человека не прогибались. Сверху в стороне у нас лежали пласты срезанного дёрна, уходя в землянку, мы их затаскивали на эти щиты. По углам ячеек и узких щелей стояли стояки, на которые опирались щиты. Все было сделано, чтобы ночью, когда мы покидали свои ячейки, немцы не могли их обнаружить и поставить нам мины сюрпризы.
Этот день с утра был особенно жарким и душным. Август – последний месяц лета, а солнце, как будто свалилось с небес. Оно палило и жарило беспощадно. Не Духовщина, а Африка пышет зноем кругом!
По склону высот со стороны низины и поймы, где петляет река, ползет удушливый залах разложившихся трупов. Вместе с ним над землей стелится чад немецкой взрывчатки. Тем, кто сидит в укрытиях особенно тяжко и не выносимо. Прошлые дни был всё же тихий ветерок и всю эту вонь и гарь сносило куда-то в овраг. А сегодня полное безветрие. Сизый дым неподвижно и остолбенело, висит вокруг.
Как-то так случилось, что я не проверил наличие мин и у нас кончились выстрелы. Я забыл сказать старшине. А он посчитал, что мин у нас на следующий день хватит.
На рассвете мы засели в свои ячейки, выпустили с десяток мин и прекратили стрельбу. До наступления темноты мы не могли покинуть свои укрытия. Мин не было. Мы прекратили стрельбу. Все облегченно вздохнули. До темноты оставалось пол дня. И вот тут-то и пополз этот отвратительный запах. Я устал от напряжения последних нескольких дней. Мне хотелось сбросить накопившуюся тяжесть и усталость. Пока было светло, я решил понаблюдать за немцами. Пот, как в парной бане “по черному”, струился по лицу застилая глаза. Я сидел и рукавом гимнастерки вытирал мокрые брови и лоб.
При хорошем увеличении в окуляры трубы немецкие окопы и немцы видны в натуральную величину. Даже выражение лица, выглянувшего немца, можно рассмотреть пока его голова торчит над бруствером. Выставит, какой немец свою рожу и немигающим взглядом уставиться в упор на тебя. Такое впечатление, протяни сейчас руку вперед, схвати его двумя согнутымм пальцами за нос и он заорет, загнусавит от боли.
Во время наших обстрелов немцы прятались по блиндажам. Теперь, когда обстрел с нашей стороны прекратился, они вылезли в траншею погреться на солнышке и кости размять. В траншее на время обстрела у них оставались наблюдатели и дежурные стрелки и пулемётчики. Вот у кого поджилки тряслись. Траншея не божий храм. Сколько в ней не крестись, сколько не кланяйся, не отбивай поклоны всевышнему, сколько не гни свой хребет, на тебя не опуститься небесная благодать. Скорей схватишь мину. После обстрела каждый хочет размяться. Пройдет немного времени, кто-то уже и выглянул, посмотрел в нашу сторону. У одного макушка каски маячит над траншеей, другой торопливо бежит куда-то, выглядывая на ходу.
Нейтральная полоса неподвижна и мертва. Погляди в неё и у тебя с лица сползет любопытство и страх. Улыбнешься, покачаешь головой и опять пойдешь толкаться локтями в земляные бока глубокой траншеи. В общем, у солдата после хорошего обстрела обязательно появляются неотложные заботы и важные дела. Что у наших, что и у немцев!
Видно, как вдоль хода сообщения пошатываясь, протискиваются санитары с носилками. Они бестолковый народ. С носилками лезут везде напролом. У них на уме одно, поскорей разделаться с ранеными и уйти подальше. В окуляры трубы видно, как они боками трутся о траншею. Санитары – везде санитары! У немцев они старательны. У нас откровенно ленивы. Одни перевязывают раненых, другие помогают раненым идти. У немцев в обязанность санитаров входит подбирать не только раненых, но и убитых. Их выносят на носилках, как лежачих больных.
Не все солдаты фюрера во время обстрела прячутся в блиндажах. В траншее остаются наблюдатели. Их нужно только засечь и обложить с двух сторон огнем. Немцу некуда станет деваться.
Вот сейчас, самый подходящий момент. Всыпать им с полсотни мин, все как мыши разбегутся. Но, к сожалению мины закончились.
А вообще ребята устали и мне откровенно нет никакой охоты заниматься этим делом. Сколько вот так можно торчать на передке? Надоело всё! Как только солдаты пехоты смиренно сидят, как мыши в траншее? У нас есть отдушина. Мы, можем уйти. А им, до смерти предписано безвылазно сидеть в земле.
Немцам сегодня повезло. Бегают как муравьи перед дождем, а грома с неба не слышно.
И вот, наконец, дождавшись темноты, мы вылезаем на поверхность земли приваливаем щиты, забрасываем их дерном, и не торопясь ступая, уходим в сторону своей траншеи.
Чуть ещё стало темней, немцы начали светить ракетами. А раз немцы стали светить ракетами, ночь пройдет спокойно, без всяких происшествий.
Так прошел ещё один фронтовой день, жаркий, томительный и бесконечно длинный.
С наступлением ночи немцы прекратили стрельбу. Идти под визгливый голос немецких пуль, когда они летят в спину, не очень приятно. Полоснет свинцовым хлыстом по спине, ткнешься руками в землю, подогнув колени и считай, что это для тебя последний день. На земле ты больше не жилец! Твоя песенка спета! При каждом выстреле вдогонку ждешь сзади удара, печенкой чувствуешь, как они летят и догоняют тебя. И так, каждый раз. Пули, осколки и взрывы по много раз в день приходится переживать. Сколько нужно иметь душевных сил, чтобы перенести, перетерпеть за многие годы все это?
Но вот открытое место пройдено. Впереди чернеет наша траншея. Никого не волнует, что ты ходишь, каждый день под пулями и можешь получить их в спину или затылок. Это твоя работа. У комиссара полка давно бы боевой орден висел за то, что он один раз под пулями хребет свой пригнул. А то бери ещё и выше!
В передней траншее безвылазно сидят простые солдаты, под огнем, под бомбами, под пулями, за это им медали не дают. Это не геройство, какое! Это они обязаны! А тыловик пригнулся разок от разрыва, это геройство первой статьи. Да ещё, если он в чине! Уж он растрезвонит, что был под огнем!
В передней траншее, пригнувшись, солдаты сидят. Мы прыгаем сверху на дно. Никто нас не окликает, не останавливает. Кто мы, чужие или свои? Мы идем вдоль хода сообщения. Солдаты, пригнувшись, сидят в разных позах. Один, обняв колени и упершись каской в стену окопа, дремлет и посапывает в усы. Другой поперек хода сообщения вывалил свое гузно и лежит на боку. Тот, притулившись за спиной соседа, уперся каской в затвор винтовки и скребет его. Этот, что откровенно развалился вдоль прохода, лежит, открыл рот и пускает пузыри.
Солдат стрелков в траншее не так уж много. Там пригнулась и замерла кучка, здесь спят по двое, по трое. Некоторые сидят спиной к немцам, им на всё давно наплевать. Разве они не знают, что им уготовила судьба. Вот они и смирились, утратили нюх солдатский. Неделя ещё не прошла. Здесь же, в этой злополучной траншее, их друзья и товарищи поплатились жизнью за сон на посту. А им хоть бы что! Поесть и поспать! Вот главное что осталось.
Мы идем по траншее, где толкаем сидящих солдат, где перешагиваем через них. Одному прошлись по ногам – в темноте не видно. У нас на душе тоже кошки скребут. Солдат не поднял головы. Он подобрал ноги с прохода и лежыт в свою дудку сопит. Другой спит сидя, раскинув руки и растопырив колени. Пройти мимо, не задев его нельзя. Разведчик, идущий впереди подталкивает его с дороги. Он, не просыпаясь, переворачивается на бок, и ничего не сказав, захрапел возмущённо. Солдаты не брыкаются и не огрызаются, когда мы их толкаем и задеваем на ходу. Они просто отползают в сторону, прижимаются к стенке окопа и каждый делает дело свое. Мы идем, поддеваем их и наступаем им на ноги. Они чутко реагируют, быстро убирают ноги, зная, что мы можем и по головам им пройти. Свой брат, пехотинец, тот пройдет, не задев никого. Он идет по траншее мягко и осторожно. Он, как кошка в высокой траве ступает. А эти, из полковой разведки идут и раздают пинки и тырчки. Им солдат нипочем. Им сказать ничего нельзя. Им ничего не стоит сапогом заехать тебе в рыло, дать пинка промеж ног, под зад. Это на их языке – "Дай пройти!", "Маленько подвинься!". Попробуй, не уберись – в карман носком сапога тебе подденут.
Славянам в траншее спокойно, пока разведчики работают в нейтральной полосе. Командир стрелковой роты тоже отдыхает. Разведчики вернулись. Надо идти и будить своих солдат.
Через некоторое время харчи принесут. Запах ржаного хлеба сразу поднимет всех на ноги. Все ждут момента, когда забрякают котелки.
Подхожу к землянке. На ступеньках сидит часовой.
– Давай буди ротного! – бросаю я часовому.
– Я здесь! Я не сплю! – слышу я, голос лейтенанта из-за занавески прохода. Палатка в проходе откидывается и на фоне коптящего сального света появляется силуэт лейтенанта.
– Часовых поставишь по всей траншее! – говорю я ему.
– Разведчиков на постах ночью не будет! Пополнение ты получил.
Я отправляю своих в тыл. Мы с ординарцем ляжем спать в твоей землянке. А ты ночью будешь проверять свои посты. Приказываю смотреть в оба! Принесут харчи, налей нам с ординарцем из вашего ротного котла. Поставь котелок в землянке. Нас не буди. Мы хлебать будем после, когда сами проснемся. Других распоряжений к тебе нет. Думаю, что до утра у тебя в траншее будет порядок. В случае чего, не стесняйся, буди!
Мы спустились в землянку и повалились на нары. Я закрыл глаза. Было слышно, как лейтенант с кем-то разговаривал. Потом голос его умолк и я вскоре заснул.
Среди ночи меня разбудили. Ещё сквозь сон, я услышал голос своего ординарца. Он о чем-то говорил с командиром роты и легонько тряс меня за плечо.
На звонки дежурных из штаба он, лениво позевывая, обычно отвечал:
– Капитана здесь нет! Что передать?
Невозмутимо и спокойно он штабным дает понять, что меня на месте нет и разговор окончен. Передовая телефонисту трубку, он добавляет:
– Меня тоже здесь нет! Больше не буди! В таких делах, когда из штаба звонят без особой важности, ординарец не приклонен и не пробиваем.
– Сказал нет! Значит – нет! И поменьше болтай! Твое дело телячье! Обтелефорился и сиди!
Но на этот раз, я слышал сквозь сон, ординарец мой с кем-то толковал. Сидя на нарах, он уставился сонным взглядом на лейтенанта, а тот напирал – "Давай! Буди капитана".
– Товарищ гвардии капитан! – слегка потянув за рукав, настойчиво теребит меня ординарец.
– Ну! Что там еще? – не отрывая глаза, спрашиваю я.
Если он одумается или не ответит, не потянет ещё раз за рукав, то считай, что это мне приснилось. Я тут же отключусь и засну.
– Товарищ гвардии капитан! Впереди перед нашей траншеей немцы кричат. Слышно, как стонут!
– Какие ещё немцы? – недовольно говорю я, не поднимая головы.
– Какие там ещё голоса? Сходи, послушай! Вернешься, тогда разбудишь!
– А я, что тебе говорил? – выговаривает он деловито лейтенанту.
– Ты сам слышал?
– Нет! Солдаты говорят!
– Нужно сначала самому сходить и послушать! Пошли!
Я лежу и соображаю. Что могло там случиться? Сейчас ординарец пойдет, и всё выяснит. Я повернулся на бок, устраиваясь поудобней. О чем они меж собой говорили, выходя из землянки, я уже не слышал.
Для разведчика сон дороже всего. Дороже водки и любой медали. Можно быть несколько суток голодным, не иметь табаку, в жару воды глотка не хлебнуть, но голова должна быть свежа, способна соображать и думать. А, если сутки или двое не спал, какая может быть острота и тонкость соображения.
Через некоторое время лейтенант и ординарец вернулись в землянку.
– Товарищ гвардии капитан! Стоны слышны! Метров двести, триста впереди. – Слышно хорошо! Даже слабые слыхать!
Я приподнял голову от кучи хвои, лежавшей в головах, обвел взглядом лейтенанта стоявшего рядом и попросил закурить. Серьезное дело всегда начинается с перекура.
– Ну что там? Докладай обстоятельно и подробно!
– С левого фланга, не доходя до конца траншеи, есть поворот. За поворотом стрелковая ячейка. В ней сидит пожилой, такой солдат. Солдат показал мне направление, откуда слышны эти стоны. Минуты через две слышу. Действительно! Один стонет, а другой ему что-то лопочет. Говорит не по нашему, не по-русски. Ни одного матерного слова не слыхать. Я поднялся на бруствер, встал во весь рост, приложил ладони к ушам. Метров двести, больше до них не будет! Они где-то перед оврагом на нашей стороне под кустами лежат.
Я поднялся с нар, пригнул голову, чтобы не стукнуться головой о бревна и пошел к выходу, дымя сигаретой. Чуть задержавшись в проходе, я сплюнул на горящую сигарету, притоптал ее ногой по привычке и пошел на левый фланг траншеи. Лейтенант и ординарец следовали за мной.
– Вот сюда! Направо! От солдата слыхать хорошо! – подсказал лейтенант и мы повернули в стрелковую ячейку.
Я пропустил лейтенанта и оглянулся на своего ординарца. Он шел сзади не торопясь, упираясь руками в боковые стенки траншеи. Автомат висел у него поперек груди.
– Гранаты у тебя есть?
– Есть штуки три! Пара немецких и одна наша – лимонка!
– А чего немецкие таскаешь?
– Немецкие, они на много легче наших, товарищ гвардии капитан! От наших, у меня штаны с задницы спадают. Живота совсем нет, ремень на порках держать нечем. От плохой кормежки видать!
– Ты мне еще про кальсоны расскажи. Какого они у тебя на заднице цвета!
– Ну ладно! Пошли!
Мы подошли к солдату, дежурившему в стрелковой ячейке. Солдат показал молча рукой в темноту и я услышал тихие стоны и немецкое лепетание
– Ава! Ава! (Больно!)
Наши солдаты стонали обычно: – Ай! – Ой!
Я стал прислушиваться к звукам из ночной темноты. По стонам и приглушенному голосу можно было сделать заключение что их двое. Порыв слабого ветра уловил я на своем лице, и голоса стали слышны довольно отчетливо и как будто ближе. Ветер утих. От земли снова потянуло трупным смрадом.
Трудно было понять о чём говорили они там. Ни русского: – Мать вашу!… – которым наши сопровождали свои стоны, ни немецкого: – О майн гот! – различить было нельзя.
– Слушай лейтенант! Дай мне пару солдат! Ты знаешь, я своих разведчиков отправил отсюда. Вдвоем нам не справиться. Один из них раненый, видно лежит на земле.
– Берите! Не возражаю, если кто из них с вами пойдет.
– Людей я не знаю. Солдаты все новые. Эти с вами туда не пойдут. Из бывалых, всего два санитара. А у них, как у баб, зады обвисли.
– Ты мне дай двух молодых. Чтоб посмелей, были. По проворней.
– У меня в роте, сам видел, какие солдаты с пополнением пришли.
– Ладно, мы сейчас сами спросим.
Я кивнул ординарцу.
– Прошвырнись по траншее! Переговори с солдатами! Может, кого добровольцем найдешь! Спроси, кто хочет на дело с капитаном пойти. Даю тебе десять минут на все переговоры.
Ординарец метнулся в сторону и исчез за поворотом траншеи.
– Ну что старина! Пойдешь с нами брать языка? – спросил я сидевшего в стрелковой ячейке солдата.
– Староват я для вас! Товарищ капитан. Ноги у меня опухают к вечеру. Разуться не могу. Боюсь вам испортить все дело. Вы уж извеняйте. Как ни будь без меня. Ваше дело молодое. А меня временами бьет кашель. Скрабет, как скребком. Как чуть вспотею – кашель спасу нет.
– Ладно, солдат! Я тебя не неволю! Давай-ка лучше, помолчим и послушаем!
Я поднялся на руках на вверх, на край окопа, сел на бруствер и стал прислушиваться. Слышны были стоны одного и приглушенный голос другого человека. Немцы! – решил я. Их двое. Они медленно отползают к оврагу. Но как они там оказались? Всё вроде естественно, похоже на то. Один тяжело ранен, другой его по земле волочит. Но нет ли здесь хитрой ловушки? И когда я подумал о засаде, мурашки у меня поползли по спине.
– Да-а! – сказал я и глубоко вздохнул. Мысли пошли в стройном порядке. Стонут! Лопочут! Подманивают! Как уток болотных на манок. Перед глазами мгновенно встала картина засады.
Человек двадцать немцев лежат полукругом в кустах, животами припавши к земле. На локтях растянуты ремни автоматов. Затворы взведены. Двое впереди прикинулись ранеными. Ждут когда замелькают наши тени.
Но вот по ветру донесло отчетливо немецкие слова. Говорил прежний голос. Другой, в ответ, только стонал.
– Ну что капитан? – спросил я сам себя. Думай! Решай! Такого случая больше не будет!
В это время в проходе послышались шаги ординарца. Я тихо соскользнул по земле и спустился на дно окопа.
– Ну, что брат! Добровольцев нету!
– Не хотят братья славяне с нами за немцами идти. Говорят, – в петлю лезть! Это, говорят, ваше разведческое дело.
– Ладно, оставим солдат в покое! Ты вот что! Полезай-ка лучше наверх! Посиди! Послушай! Нет ли там других шорохов и голосов? А я пока покурю здесь внизу и подумаю.
– Разрешите мне метров на тридцать вперед пройти?
– Может там будет лучше слышно?
Я кивнул в знак согласия, а на словах добавил:
– Сними мешок! Две минуты даю! Не больше! Нам нельзя ни одной минуты терять!
Ординарец ловко забрался на бруствер, перемахнул через него и исчез в темноте. Через несколько минут он вернулся и изложил свои соображения.
– Они чуть левее. Других шорохов нет.
– Ну, что рискнем пойти на дело вдвоем? Я пойду прямо на них. Ты пойдёшь рядом, чуть правее. Следи за мной и смотри вперед по траве. Я буду смотреть вперед и оглядывать левую сторону. Ты – вперед и вправо. Двигаться не торопясь. Туда пойдем медленно. Резких движений не делать. Мой планшет с картами и свой мешок оставь здесь солдату и лейтенанту на сохранение. Дай мне пару немецких гранат. Себе оставь лимонку. Из карманов все лишнее вытряхни. Поправь амуницию, чтоб ничего не болталось и не брякало. Ночь сегодня исключительно тихая и темная. Так что ни веток, ни кустов и не хрена не видно.
– Лейтенант! Пройди по траншее. Предупреди своих солдат. Пусть ухо держат востро. Разъясни, что впереди работают разведчики. Ни какой стрельбы, чтобы не случилось. Стрелять до нашего возвращения категорически запрещаю! А то найдется дурак, возьмет и подмогнет! Пока мы готовимся тут, ты должен вернуться обратно. И прощу тебя, пожалуйста, побыстрей.
Пока ординарец очищал свои карманы, пока он складывал в мешок свое барахло лейтенант обошел всех солдат и вернулся.
Напарник мой сидит на бруствере, слушает и смотрит в темноту. Я ощупываю у себя карманы, где у меня что лежит. Здесь и здесь по гранате, а здесь перевязочный пакет на всякий случай. Поднимаю голову, смотрю на ординарца, стараюсь угадать, какой у него настрой. Лицо его спокойно, настороженно и сосредоточено. По лицу и по всей фигуре вижу, что он недоспал и хочет вздремнуть. Нам ведь действительно не дали поспать.
Это тоже не плохо, что нервы расслаблены и мысли спокойны. Все должно пройти без лишнего волнения и без сомнения. О чем думает он, морща нос, как будто чихнуть собирается. Этого еще сейчас не хватает. Возможно, это раненые летчики отлеживались где-то в кустах, а теперь ползут к своим? Мысль, что это летчики, окончательно успокоила меня. Я посмотрел на ординарца, лицо его было неподвижно. Он весь как пантера превратился в зрение и слух. Ничего! – подумал я. Он парень смышленый и не из робких. Тронемся вниз, сразу все мысли встанут на место. Немцы до этого светили и постреливали. Услышали стоны и крики, сейчас с их стороны полнейшая тишина. Ни трассирующих, ни ракет! На передовой с двух сторон, как будто все вымерло.
Поджидая возвращения лейтенанта, я вспоминал, как ординарец попал в разведку.
На его счету не числились языки. Он ходил всё время в группе прикрытия и выполнял, так сказать, функции на подхвате. Ползал с группой прикрытия старательно, всё выполнял и не лез на глаза. У русских солдат так заведено. Один подтрунивает над другим и считает это в порядке вещей. Он был не очень разговорчивый. Ехидных словечек не употреблял. Сдачу словами давать не умел. Его поддевали, а он больше молчал.
Однажды старшина привел его ко мне и предложил взять в ординарцы. Я ответил старшине: – Ладно! Пойдет! Пусть будет ординарцем, если сам не возражает! Ты ему наверно говорил, какие обязанности будут у него.
Став, ординарцем он не заважничал. Поглядишь на ординарца командира полка. Простой солдат, рядовой! А вид у него, как у мыльного пузыря, надутый. Мой ординарец – ел, пил, жил, воевал рядом со мной. Он часто бывал вместе со мной в штабах и на глазах у полкового начальства. Звание у него было рядовой, а по должности в полковой разведке, он занимал четвертое место. Но он не изменился, остался прежним. Он частенько, когда выпадало время, отправлялся к своим бывшим дружкам. Посидит, покурит, узнает чего нового. Теперь, когда в полковой разведке он занял четвертое место после меня, Рязанцева и старшины, ребята, те самые, которые измывались и потешались над ним, стали называть его не иначе как по имени и отчеству. Сам он ничего не делал, чтобы к нему обращались так. Теперь, он имел выход на прямую, через голову Рязанцева, сразу на меня. Одного веского слова его достаточно и многое может измениться. Он по-прежнему был приветлив, добродушен и молчалив.
Ординарец в разведке, это не полковой прихлебай и денщик. Это такой же солдат в потертой шинелишке, который много знает и умеет и лазает вместе с капитаном разведки по передовой под пулями и снарядами. Он знал, как рвутся снаряды, мины и бомбы. Он жил вместе с солдатами, сидел в окопах под огнем на передовой, валялся на земле, спал в солдатских землянках, теперь ему предстояло пойти и взять языка.
Ординарец в разведке должность не громкая. Ординарцы в тылах полка или дивизии это денщики, прислуга, телохранители. Ординарец командира стрелковой роты, это больше связной, посыльной, помощник и даже советчик ротному. А ординарец в полковой разведке оставался разведчиком и хозяйственником.
Теперь ему представился случай пойти на рискованное дело, выйти, так сказать, на уровень спеца из захват группы и тем подтвердить свой авторитет, как разведчика. И потому он сидел на бруствере и обдумывал этот свой решительный шаг.
В траншее послышались шаги и в узкий проход стрелковой ячейки, протиснулась фигура лейтенанта.
– Всё в порядке! Всех предупредил!
– Давай ещё разок навостри уши! – сказал я ординарцу.
– Я тоже вылезу наверх, постою, послушаю. Нужно засечь направление и удержать его в голове. В темноте проскочить мимо можно. Мы пойдем, а они возьмут и притихнут. Мы должны выйти на них по прямой.
Я попросил солдата отойти в сторону, поднялся на бруствер, повернул голову на бок, поводил ухом и вытянул шею. Через какое-то мгновение, я услышал снова лепет и тихий стон. Характер звуков нисколько не изменился. Если бы это была ловушка, у немцев не хватило бы терпения издавать одну и ту же ноту.
– Ну, нам пора! – сказал я и, обернувшись, посмотрел на лейтенанта.
– Пошли! сказал я, почему-то шепотом.
Я встал на ноги, перешагнул через насыпь бруствера, перед окопом и подав тело вперед, медленно тронулся вперед под откос. Ординарец шел чуть сзади справа, метрах в пяти, искоса посматривая на меня.
Я пригнул голову. Он сделал тоже самое. Я разогнул спину, он тоже выпятил грудь вперед. На первых шагах я проверял его, как он держит зрительную связь со мной и быстро ли реагирует. Потом будет не до этого.
Земля под ногами твердая, покрытая мягкой травой. Кое-где видны свежие воронки от мин и снарядов. Мы их огибаем. Никаких веток и сучков под ногами. Нога мягко ступает, переваливаясь с каблука на носок. Открытое поле постепенно уходит вниз. Там впереди поперек поля проходит овраг. За оврагом на скатах высоты находится передовая немецкая траншея. Уклон земли стал падать заметно круче. Здесь впереди, слева должны быть кусты. Вот они. В темноте они кажутся неестественно большими. Немцы как будто почуяли, что мы подходим к ним. Они притихли, затаились и слились с землей.
Их нужно искать на земле, мысленно прикидываю я. Еще сотня плавных и бесшумных шагов. Впереди под кустами едва заметное движение. Я замедляю шаг. Мельком оглядываюсь на ординарца. Он тоже приостановился. Вижу на земле, лицом вверх лежит немец. Серебристая кокарда фуражки от прерывистого дыхания колышется. Если бы не кокарда, я бы глазами сразу не выхватил немца из темноты. Офицер! – мелькнуло у меня в голове. Перевел взгляд на его погоны. На погонах обер-лейтенантские квадраты в виде блестящих усеченных пирамид. А, где же второй?
Второй немец – солдат лежал под кустом на боку. Он находился чуть ниже в ногах у офицера. Он сразу вздрогнул, когда я на него посмотрел. Я выхватил его глазами из темноты по этому резкому движению. Его собственно и выдал едва заметный рывок.
Теперь на фоне темной травы и кустов я отчетливо вижу двух лежащих немцев. Не шевельнись они. Не дёрнись чуть заметным движением, я бы мог пройти мимо. Вот, как видит человеческий глаз в темноте. Притаись, замри и лежи неподвижно, через тебя могут переступить и не заметить.
Немцы конечно испугались. С их стороны ни писка, ни малейшего стона. Мы появились над ними как черные ангелы смерти. Мы слетели на землю и при этом ни звука, ни шороха, ни шелеста крыльев они не услышали. Одни лишь наши глаза поблескивали в темноте над ними. Немцы ни пикнули, ни издали, ни единого звука. У них перехватило дыхание, когда мы возникли над ними.
Прошло одно мгновение. Я опустился на колени и наклонился над офицером. Ординарец, едва заметным движением попятился задом, перешагнул через лежащего на боку солдата и зажал его между ног, продолжая смотреть в темноту, в сторону немецкой траншеи. Он готов был в любую минуту открыть встречный огонь из автомата.
Сняв с офицера фуражку, чтобы проверить, нет ли в ней чего, я машинально надел её себе на голову, поверх капюшона. Левой ладонью, прикрыв ему рот, быстро обшарил его. В темноте не было видно, куда он собственно ранен. Да и не было времени разглядывать его подробно. На голове бинтов нет, светлые волосы взлохмачены, оттопыренные уши торчат. Отстегнув пуговицу нагрудного кармана, я извлек документы. Быстрым привычным движением руки сунул их себе за пазуху. Совать их к себе в карман, не было времени. За пазухой у меня лежал пистолет. В ночных поисках зимой и летом я перед выходом кладу его туда, чтобы был тепленький и не забитый грязью.
Переложив документы, я решил ощупать его ладонью сверху вниз. Как только я коснулся кончиками пальцев его живота, он заскрипел зубами и издал грудной гнусавый звук. На губах у него лежала моя рука.
У нас у разведчиков отработанные приемы. Не успеет гнусавый выдох вырваться у немца, как ладонь, прикрывающая рот, мгновенно разведена и немедленно затыкает ему нос. Не успел он вздохнуть, чтобы огласить криком округу, как моя рука перекрыла все дыры и ему нечем стало дышал. Ему осталось одно. Проглотить свое мычание. Я дал ему сделать вздох, позволил передохнуть и, приложив палец себе к губам, показывая:
– Лежать, мол тихо!
В боковых карманах его брюк лежало что-то твердое. Я извлек оттуда зажигалку и портсигар. Важно было, чтобы в карманах у него не осталось оружия в виде мини "Вальтера" или дамского "Браунинга".
Он дышал порывисто, глубоко и больше не кричал, не стонал.
Я снял ладонь со рта, расстегнул ему нараспашку френч и посмотрел на его рану в живете. Большое кровавое пятно было видно на марлевой повязке. Теперь он дышал глубоко и ровно. Он по видимому физически ослаб и потерял много крови. Но больше не стонал. Он боялся, что я его задушу.
Офицер лежал на палатке, которую тянул за собой солдат. Он был без поясного ремня. Ремень и пистолет в черной кобуре лежали на палатке у него между ног. Я, не спеша, взял его, нацепил поверх маскхалата у пояса и, еще раз ощупал его карманы и осмотрел ноги. На нем были блестящие хромовые сапоги с прямыми, как бутылка, голенищами. Это наши майоры, подумал я, любили носить сапоги, по-деревенски гармошкой. Обер-лейтенант успокоился, ровно дышал, а глазами следил за моими движениями.
Я погрозил ему пальцем. Он кивнул головой, что понял меня. Он лежал и слегка беззвучно шевелил обсохшими губами. Мне показалось, что он молился или даже хотел мне что-то сказать. Но я не мог разобрать его едва уловимый шепот.
Для меня, по словам раздельная, немецкая речь и то была не совсем и не полностью понятна. Я понимал, когда сам задавал вопросы и получал на них простые ответы. Я, как бы уже знал слова, которые должен был услышать в ответ. А тут одни неизвестно с чем шипящие.
Оставив офицера, я перешел к солдату, которого зажал ординарец. Ординарец тихо, как тень слез с него и шагнул в сторону. Я легонько коснулся солдата рукой.
Немецкий солдат на удивление был сообразительным парнем. Он приподнялся с земли, сел поудобнее, приставил палец к губам, давая понять, что будет молчать, как могила. Согнув ногу и приподняв ее, он показал рукой, что здесь у него рана. У него был пробит осколком носок сапога. Кровь из пробитого сапога не текла, рана, по-видимому, была небольшая. Он и не пытался снять сапог и сделать себе перевязку. Не дожидаясь моей команды, он сам поднял руки, предлагая себя обыскать. Я похлопал его по плечу, жестом показывая опустить вниз руки. Он потыкал пальцем в разорванный сапог, сморщил рожу и покачал головой. Идти сам, мол, он не может.
Показав, чтобы он обнял меня руками за шею, я легко приподнял его от земли, вытянулся во весь рост и шагнул в обратном направлении.
Он, как ребенок обвил мне шею руками, прижавшись ко мне своей шершавой щекой. Я сделал неуверенный первый шаг, а потом поймав равновесие, зашагал в сторону нашей траншеи.
Ординарец без слов всё понял, что мы здесь оставим офицера. Он попятился задом, посматривая в темноту ночи, в сторону оврага.
Через некоторое время он развернулся и последовал за нами. До траншеи мы дошли быстро, без остановок. При возвращении назад не требуется идти плавным гусиным шагом. Здесь не нужна большая осторожность. Здесь правило другое. Пока тебе в спину не бьют, хватай языка и мотай без оглядки назад.
Одной рукой немец придерживал свою раненую ногу, а другой держался мне за шею. Он потратил все запасы бинтов, на офицерский живот и как выяснилось, перевязать ногу ему 6ыло просто нечем.
На окрик солдата, какой мол пароль, я послал его приветливо матом. Он принял это за отзыв и вылез за бруствер, чтобы помочь нам осторожно спустить немца в траншею. Я шагнул на бруствер и мы подали немца на руки лейтенанту.
Отзыв, на окрик часового, матом всегда действовал безотказно и лучше, чем условный пароль.
– Кто идет? иногда услышишь из ночи. Пустишь ему в ответ пару знакомых слов. Солдат сразу соображает, что имеет дело с разведчиком. И сам же ещё добавит! – Понял! – Понял! Я тоже свой! Разведчики паролей и отзывов не признавали. Считали их детской игрой.
Я спрыгнул в траншею и сказал лейтенанту:
– Неси немца в свою землянку! Я следом иду! Напарник не отставай!
– Угу!
– А раз, угу! – пошевеливайся и топай. Нам еще за офицером нужно сходить!
Я совсем забыл про немецкую фуражку торчавшую у меня на голове. И солдатам стрелкам показалось чудо. Их лейтенант, командир роты нес на руках немецкого солдата, а за лейтенантом шел немецкий офицер в фуражке с серебристой кокардой, в маскхалате и руки в карманы. А сзади шел солдат разведчик, одной рукой придерживая автомат.
– Смотри! Смотри! Один наш полковой разведчик их него немца и офицера прихватил!
– Этот, что на руках у нашего лейтенанта – солдат. А тот в немецкой фуражке, не меньше капитана будет. Смотри, как нахально прёт!
Ординарец поравнялся с говорившим и стукнул ему слегка по затылку.
– Ты чего в траншее шумишь?
– Вот и договорился! – сказал кто-то ехидно.
Лейтенанта с немцем на руках при входе в землянку окружили солдаты.
– То, да сё! Стоят, зубы скалят. Ординарец сразу протискался вперед.
– Ну, куды навстречу лезишь? Не видишь куды прешь? Чего варюжку разинули. Или немца никогда не видал? А ну, давай на свои места в траншею!
Солдаты, что сгрудились у землянки, попятились и повернули назад.
Ординарец вышел вперед и оттеснил их, освобождая проход. – Зеваки криворотые! В разведку их просил, не пошли! А немца смотреть набежали! Там ещё один внизу у оврага остался. Сходили бы, принесли, тогда и пялили глаза!
Услышав, что дело может дойти до вылазки к оврагу, они поспешили вернуться в траншею на свои места. В роту видно успели привезти харчи и варево. Некоторые из солдат опорожнив котелки, жевали хлеб.
– Продохнуть будет нечем! – ворчал ординарец, поравнявшись с часовым.
– Теперь будут стоять и портить воздух!
Накануне, когда в роту пришло новое пополнение, солдаты где-то по дороге нашли и поделили меж собой убитую лошадь. "Свеженькая конинка! На неделю хватит!" – хвастались они.
Если бы не артиллеристы и тыловики со своими клячами, как тут быть сытым, русскому солдату. Во время бомбежки ездовые от своих упряжек бегут по щелям, а солдаты, заметив попавшую под бомбу лошадь, тут же ее делили меж собой. Они и под взрывы бомб пойдут, лишь бы набить животы.
Теперь они в кустах под обрывом по очереди варили мясо. На постах в траншее стояли, приятно позевывая и ковыряя в зубах. Когда это солдат после еды ковырял в зубах? Ковыряло начальство, начиная с полка и выше.
А тут часовой стоит и сам к себе принюхивается, закрывает глаза от удовольствия. А мы со свежего воздуха из нейтральной полосы пришли, в нос ударяет не продохнешь, ноги подгибаются. А ему что? Ему ничего! Ладно, свои. Все мы тут русские. А как быть с пленный немец! В проходе траншеи не продохнешь. Хоть противогаз надевай! А с другой стороны, если на испорченный воздух посмотреть патриотически? Пусть немец думает, что русского солдата на фронте кормят на убой. Немцу невдомек, что русский солдат смотрит, где бы лошаденку убило или так сделать, чтобы она побыстрей копыта отбросила.
Я вошел в землянку, немец сидел на нарах. При слабом освещении коптилки трудно было определить старый он или молодой.
– Ты вот что лейтенант, давай тащи сюда своих санитаров. Ему перевязку нужно сделать. Пусть снимут сапог, перевязку сделают, рану обработают. Скажи, капитан приказал перевязочных средств и лекарств не жалеть! Я после, сам лично проверю! Мы с ординарцем вернемся к оврагу. Нам нужно забрать офицера. Ты лейтенант предупреди своих солдат. И вот ещё что! По телефону о немце не докладывать! Это дело не твое!
– Тебе лейтенант всё предельно ясно?
– Всё!
– Вот и хорошо! Мы мигом обернемся!
Мы вернулись в ячейку к солдату, поднялись на бруствер и пошли по ровному скату вниз, вглядываясь в ночную темноту и вслушиваясь в лежащее впереди пространство. Ни звука, ни шороха!
Вот бровка кустов. Осталось пройти шагов двадцать. Вот то место с примятой травой, а офицера нигде на земле не видно. Я на ощупь по измазанной кровью траве определяю это место точно. Ни офицера, ни палатки, на которой он лежал. Вот же она испачканная липкой кровь трава. Я стою на коленях, поднимаю к глазам свою ладонь, она черная от крови. Я поднимаю ладонь другой руки, эта чистая и белая. Я поднимаюсь, встаю на ноги и оглядываюсь кругом. Офицер к моему удивлению исчез. Как могло это случиться, что он с тяжелой раной в живот вдруг испарился. Я взглянул на ординарца. Он стоял неподвижно у края кустов и тоже таращил глаза, в темное непроглядное пространство. Я понял, что он не меньше меня удивлен.
По моим расчетам человек с проникающей раной в кишечник, собрав последние силы, лежа на спине при помощи локтей может отползти максимально на десяток метров. А этот от потери крови вряд ли мог сдвинуться с места. Не делая особых заключений, я обошел место метров на двадцать вокруг. Ощупывая землю руками и сделав восьмерку, я искал свежий влажный след или брошенную палатку. Но ни следа, ни палатки не было. Если бы он полз на локтях на спине, палатку он бросил бы на прежнем месте. Не потащит же он ее за собой в зубах.
– Вот это номер? – подумал я.
Какая разница была во времени с тех пор, когда мы ушли и вернулись теперь? Не более полчаса.
Поднять раненого на палатке с земли и нести его, не цепляя за траву, могли только четверо, не меньше. Но немцы вчетвером ночью в нейтральную зону никогда не пойдут. Сколько же их здесь было?
Мы не предполагали его нести на себе. Мы собирались волоком дотащить его до нашей траншеи. Да! Мы могли здесь запросто напороться на два десятка немцев под кустами. Вот судьба! – Минутой раньше и мы получили бы хорошую порцию свинца.
Ординарец мой молодец. Он все это время стоял неподвижно, прикрываясь кустами. Он внимательно смотрел в сторону немцев. Кругом было по-прежнему тихо. Немцы ракет не бросали. Стрельбы с их стороны тоже не было.
На нас надеты с разводами маскхалаты, они сливаются с фоном земли. Выхватить взглядом нас из темноты почти невозможно, если мы не будем делать резких движений. Мы могли наткнуться на немцев в упор.
Ординарец стоит на фоне тёмных кустов, медленно поворачивает голову и смотрит на меня. Я трогаю его за плечо рукой, даю понять, что нужно идти и мы, не спеша, медленно поднимаемся в гору. Спешить теперь некуда. Нудно и долго тянется время. До нашей траншеи осталось с десяток шагов. Солдат нас не окликает. Он ждет нашего возвращения и знает, что мы вот-вот вернемся в траншею.
Мы выросли над его ячейкой, он чуть посторонился, прижался к стенке окопа, мы молча спрыгнули и тут же присели. Я достал сигареты и мы закурили втроем. Посидев, покурив, помолчав некоторое время, пожелали солдату всего хорошего, поднялись и лениво пошли по траншее.
Только теперь шагая по узкому проходу траншеи, я почувствовал, что устал и что мне нет никакой охоты ни о чем не думать.
Когда мы ввалились в землянку, немец сидел на нарах, около него хлопатали санитары и стоял лейтенант.
Увидев нас, немец заулыбался. А когда я спросил его:
– Ви гейтес инен? (Как дела?)
Он совсем просиял и быстро что-то залопотал по-немецки.
– Лянгзам! Нихт зо шнель! (Медленно! Не так быстро!) – сказал я ему.
– Заген зи битте кляр! Их ферсштее них аллес! (Говорите пожалуйста четко! Я не все понимаю!)
Разговорную и свободную немецкую речь я понимал с трудом, если не знал о чем собственно идёт речь. Запас немецких слов у меня был не велик. В основном я знал слова военного разговорника. А по привычке со школы с пленным я разговаривал, почему-то на Вы. Так у меня легче лепились вопросы, ответы и отдельные фразы. Немец вероятно думал, что я с ним подчеркнуто вежлив. Но ведь это смешно. Офицер всегда разговаривает с солдатом на "ты".
Я велел ординарцу достать из мешка флягу. Во фляжке на всякий случай хранилось немного спиртного. Он отвернул колпачок и приготовил железную кружку. Железные кружки в наше время, это не те, что эмалированные сейчас. У нас были настоящие железные кружки, ржавые по бокам и на дне. Только ободок блестел с одной стороны. Его постоянно обшаркивали губами.
Отвернув резьбовую пробку, ординарец лизнул край узкого горлышка фляжки. Может, капля осталась где. Не должно пропасть ни капли этой драгоценной влаги.
– Наливай! – сказал я.
Ординарец вопросительно посмотрел на меня. Собственно кому и сколько наливать?
– Грамм пятьдесят, не больше!
Ординарец медленно наклонил фляжку и тоненькая струя полилась на дно кружки. Он пальцем отметил снаружи налитый уровень и протянул мне кружку.
– Разведи водой! – сказал я коротко.
Лейтенант подал котелок с холодной водой, ординарец долил в кружку воды, показал мне пальцем новый уровень и протянул кружку. Он держал в зубах резьбовую пробку и, не моргая, смотрел на меня. Он наверно думал, что содержимое выпью я сам. Что следующая очередь за ним за ординарецем, как только я опрокину и передам ему пустую кружку.
Я взял у него из рук кружку с разбавленным спиртом и передал ее немцу. Качнув головой в сторону немца, я велел ординарцу отрезать сала и хлеба.
– Дай ему закусить!
Ординарец был поражен. У него отвалилась челюсть и отвисла нижняя губа.
Я пояснил немцу, что в кружке шнапс, что ему нужно выпить, чтобы стало легче, и прибавились силы.
Немец взглянул во внутрь кружки, подергал плечами и посмотрел на меня.
– Дум воль! – сказал я. (На здоровье!)
Взвесив рукой, содержимое в кружке, немец покачал головой:
– Цу Филь! – сказал он. (Очень много!)
– Ничего! Давай! – сказал я по-русски.
– Давай! Давай! Пей побыстрей и освобождай посуду!
– Дафай! Дафай? – переспросил он и поднес край кружки к губам.
– Давай! Шнель! – сказал я ему. (Давай! Быстро!)
Пленный стал пить чисто по-немецки, маленькими глотками, как воробей каждый раз запрокидывая голову.
Все, кто находились в землянке, следили за ним. Они были поражены, его умению пить водку вот так.
– Я бы не смог вот так маленькими глотками тянуть через край! – сказал санитар.
– Нашему брату давай все сразу, в один глоток! – сказал второй и громко сплюнул на землю. Лейтенант не выдержал и тронул меня за рукав.
– Это так у немцев пить принято? Или немец такой попался?
– Они пьют помалу и цельный вечер. А мы пьем, как следует и за один раз! – пояснил я.
– Теперь надеюсь всем ясно!
Сделав последний глоток, немец оторвал кружку, раскрыл рот и замахал в него рукой.
– Руссише шнапс! – сказал он, делая глубокий вздох,
– Зер штарк! (Очень крепкий!)
– Кузьма! Ты отрезал ему закусить? Он же подлец голоден!
Я взглянул на ординарца, стоявшего с пробкой во рту, улыбнулся, покачал головой и добавил:
– Заткни ты её наконец! Нам с тобой спиртное все равно сейчас не положено!
– Товарищ гвардии капитан! Сало на немца тратить? У меня осталось всего две порции. Вам и мне!
– Давай, доставай! Вот и отдай мою! Свою, можешь оставить! – сказал я и рассмеялся.
– Он стоит того, чтобы нам сала не жалеть! Мы с тобой выпивать и закусывать будем опосля, когда к старшине в землянку придем. А сейчас, реж сало и хлеб! Ну и жмот ты у меня!
Ординарец больше не сопротивлялся. Он отрезал ломоть черного хлеба, положил тоненький кусочек розового сала и, ухмыляясь, протянул немцу.
– Битте ессен! (Пожалуйста ешьте!) – пояснил ординарец, показав всем присутствующим своё знание немецкого языка. Я потрепал его по плечу.
– Не унывай на счет сала. Мы с тобой большое дело сделали!
Ординарец улыбнулся, махнул рукой, наклонился ко мне и негромко добавил:
– Не о своем благе, о вашем желудке пекусь!
Он спрятал нож, убрал свои тряпицы, в которых были завернуты сало и хлеб, и стал завязывать мешок.
– Видал? – сказал телефонист напарнику, сидевшему у аппарата.
– Немцу водки и сала дали, а сами ни к чему не прикоснулись. Сами, небось, будут солдатскую баланду хлебать.
– Разведчики! У них свои законы и порядки!
Тем временем немец двумя пальцами снял с толстого куска хлеба сало и положил его в рот. Он, от удовольствия покачал головой, двигая языком во рту, сказал:
– Шмект! Зер гут! (Вкусно! Очень хорошо!)
Ординарец свернул из газеты козью ножку, наполнил её махоркой, раскурил и протянул немцу, когда тот управился с салом и хлебом.
– Битте, раухен! – с достоинством предложил он.
– Данке шон! – закивал головой немёц.
Немец пошарил в кармане рукой, достал пачку сигарет и в знак благодарности протянул ее мне. Ординарец, не долго думая, взял из рук немца пачку сигарет и отправил её к себе в карман.
Немец сунул в рот, раскуренную ординарцем, козью ножку и решительно потянул. Он сделал сразу глубокую затяжку и от крепости махорочного дыма задохнулся. Сначала он заморгал быстро глазами, потом у него на глазах выступили крупные слезы. Он громко закашлялся, не мог перевести дыхания. На лбу у него выступил пот.
– Вспомнил свою фрау, – Прослезился! – сделал вслух замечание я.
Все, кто сидел и стоял в землянке, прыснули от смеха. Разное было написано на лицах у наших солдат. Один молча улыбался, другой неожиданно фыркнул. А когда немец затянулся еще раз, и у него внутри что-то екнуло, оборвалось, и он замотал головой, все покатились от хохота. Дружный солдатский смех вырвался из землянки наверх, в траншею и разорвался как мина. Солдаты в траншее вздрогнули. Уж очень неожиданным и дружным был этот смех.
– Просто потеха! Умрешь! Настоящее представление!
Бледное лицо немца ожило. Водка разбежалась по жилам, на лице появился румянец. Немец смотрел на солдат, шарил недоумевая глазами по лицам, пытаясь понять, причину смеха.
– А ну-ка все выходи! – сказал я набившимся в землянку солдатам.
– Я буду допрашивать немца! А то вы ржоте здесь, как лошади, мешать будете мне!
– Ординарец! Наведи-ка в землянке порядок!
Санитаров и телефонистов ординарец проводил до выхода, очистил проход от набившихся туда солдат, крикнув часовому:
– Никого не пускать!
Ординарец уселся поудобней на краю нар у самого входа, чтобы турнуть наружу особо настырных любопытных зевак.
На мои контрольные вопросы немец дал вполне правильные ответы. Контрольный вопрос, это когда я сам знаю на него заранее ответ. Задавая контрольный вопрос, я знал, какой должен последовать ответ и мог достаточно точно определить врет немец или говорит правду. Он может сказать, что этого он не знает, но не дать заведомо ложный ответ. После нескольких таких вопросов я переходил к выяснению интересующих меня и неизвестных мне данных. Немец рассказывал всё, ничего не скрывая. Он видимо сразу понял, что для него война за Фюрера окончена.
Немец рассказал, что пехотные роты за последнее время понесли большие потери. Нового пополнения на фронт не поступает. В ротах осталось по пятнадцать двадцать солдат. Ранены, убиты и пропали без вести многие. В дивизию возвращались легкораненые, которые раньше получили ранения и были отправлены в госпиталя. Они ждали получения отпусков и отправки домой после ранения, но их небольшими группами возвращали обратно на передовые позиции. Солдаты, прибывшие в роты, рассказывали, что по пути их следования из тыла новые войска и техника не прибывает. По дороге из Духовщины на Смоленск везут только раненых. Боеприпасы на исходе, подвоза почти нет. Дивизию поддерживает авиация, которая базируется на аэродромах в Смоленске и Красном. Где расположена артиллерия поддержки немецкой пехоты, он сказать не может, потому что не знает. Основные силы дивизии сосредоточены на высотах 220 и 232. Два усиленных батальона расположены у брода через Царевич. Основное количество стволов артиллерии расположено именно там.
Я спросил его на счет офицера, которого он на плащ-палатке тащил. Пленный посмотрел на меня, о чем-то задумался, потом ответил:
– С обер-лейтенантом было шесть человек солдат саперов. Наша саперная рота входила в состав 389 пехотной дивизии. Группа получила приказ заминировать опушку леса на склонах высоты 220, в районе д.Кулагино. Минирование опушки леса должно было обеспечить, чтобы на этом участке, не просочились русские и не обошли высоту с тыла. При подходе к лесу их неожиданно обстреляли. Случилось невероятное. На спине у одного солдата взорвалась тяжелая мина. Погибло сразу пятеро. Оберлейтенанта ранило в живот, а мне осколком задело по ноге, по пальцам. Наша саперная рота потеряла весь свой состав. Господин офицер был последним, кто остался в живых.
Допрос немца я вел по военному разговорнику. Здесь были даны вопросы и ответы на немецком и русском языках. Иногда мне было лень самому читать вопросы. Тогда я открывал нужную страницу, находил подходящую строчку, показывал её немцу пальцем и требовал от него ответа. Немец читал вопрос и давал ответ. Я ему показывал пальцем, чтобы он, листая немецкую часть разговорника, находил подходящую фразу для ответа. Я уточнял и переспрашивал его, уясняя смысл и записывал. Так часа два я беседовал с ним. В конце допроса я спросил его, не знает ли он, кто неделю назад был у русских в траншее.
– О! Я-я! Их вайсе! (Да! Да! Я знаю!) – ответил немец и рассказал мне следующее.
– Несколько дней назад, не помню точно, когда это было, из штаба армейской группы на машине к нам в дивизию приехали трое. Потом о них все говорили. Было два офицера и один фельдфебель. Вечером они вышли на высоту 220. Два дня и две ночи они наблюдали за позициями противника. На третью ночь офицеры остались в бункере командира батальона, а фельдфебель ушел в сторону русских. Мы думали, что он собирается перейти линию фронта. Мы были удивлены. Он пошел в сторону русских в немецкой форме.
Утром фельдфебель вернулся и принес документы и значки русских. Он принес с собой одни русский автомат.
Здесь же на высоте у всех на виду, офицер из армейской группы надел ему железный крест от имени Фюрера. Говорят, что он сел в машину и уехал вместе с офицерами. Он был не немец. Это был финн. Солдаты потом говорили, что это всё специально подстроено, чтобы в окопах дух поднять.
Эту часть допроса я пересказал лейтенанту.
– Вот так лейтенант!
– Финн у тебя тогда побывал!
Мы вышли с ним из землянки в траншею, сели и закурили. Потом я велел телефонистам соединить меня со штабом полка. Я доложил, что взят язык, и что я направляю его в штаб с двумя солдатами 2-ой стрелковой роты.
Через некоторое время немца отправили и я вышел в траншею встретить рассвет. Перед рассветом обычно всякое бывает. Лейтенанта я отправил пройти по траншее, а сам, взяв у ординареца бинокль, привалился к передней стенке траншеи и стал смотреть в сторону немецких позиций.
– Вот тебе и одиночка!
Оказывается, в нашей траншее побывал финнский разведчик! У немцев на такой выход духа не хватит. Смелости нет. Трусоваты они.
– Послушай! Напарник! А мы ведь с тобой, про похлебку забыли. Ну-ка, давай тащи её сюда!
Он спустился в землянку, принес котелок, достал из мешка по куску хлеба и протянул мне ложку. Он держал котелок, и мы по очереди хлебали ложками жидкость.
– Через край короче! Но ложкой вроде как бы сытней!
– Да, уж! Куда там!
– Давайте вы через край первый, а потом и я!
– Жижу хочешь, чтобы я выпил, я густоту себе? – и мы с ним, как по команде заулыбались. Он понимал, что я шучу.
Если бы немцам нужно было бы взять у нас языка, то они пошли бы на нашу траншею не меньше чем ротой. Подползли бы к нашей траншее, навалились бы сразу всей компанией, выхватили бы двух, трех солдат и назад поскорей убрались. Это уже не раз, так бывало. Но такие выходы немцев бывали исключительно редко. За три года войны на моей памяти подобных было всего три случая.
Ординарец постучал по дну пустого котелка, это он так после еды мыл свою посуду.
Вскоре вернулся лейтенант. Я позвонил в штаб полка и получил разрешение оставить вторую роту и отправиться к себе в тыл.
Мы вышли с ординарцем из стрелковой траншеи. Он шел впереди, придерживая автомат на груди. Немцы вели периодический обстрел нашей территории, сосредоточив огонь на подступах к Царевичу. Идешь по тропе и ждешь, что вот-вот попадешь под разрыв снаряда. Каждый раз всё сжимается, когда впереди или сзади с раскатистым ревом и визгом летят осколки. Теперь переправа через Царевич велась на плоту. От берега до берега был, натянут канат. Перебирая его руками и толкаясь шестом, подвигаешься к другому берегу. Стоишь на плоту, вода плескает по сапогам. Плот небольшой. Большим его и городить нельзя. Его шестом и канатом не одолеешь и не пропрёшь.
Наши, полковые и из дивизии, называют вторую роту плацдармом на том берегу. Звучит громко. А какой по сути дела это плацдарм? Заводи два полка в лес, обходи немцев со стороны Ярцевской дороги и ни какой плацдарм у высоты 220 не нужен. Может у нас сил не хватает? Кому с этим плацдармом втирают очки? Но наше мнение младших офицеров в штабе полка и выше никого не интересует. Они знают лучше нас, что им докладывать и делать.
Теперь, взяв языка, я рассчитывал избавиться от пребывания в траншее второй стрелковой роты. И, кроме того, мне нужно было лечь и как следует выспаться.
Язык, как думал я, был ценным по информации, хотя физически и не полноценным, так как хромал на одну ногу. К сожалению, я забыл спросить, откуда он родом, фамилию и как его зовут. Помню, что его звали Вальтер Гюнтер.
Вернувшись к себе в блиндаж, я позвонил в развед-отдел дивизии и попросил дежурного выслать мне опросный лист на "хромого" немца. Опросные листы нам в полки обычно не высылались. Считали, что они нам не нужны. Наше дело брать пленных и отправлять в дивизию, а анализом противника займутся они, кому следует.
– Опросные листы мы в полк не высылаем! – ответил мне дежурный.
– Наше дело телячье? – сказал я.
– Что, что ты говоришь? – переспросил меня майор.
– Так ничего!
– Что ты сказал? Повтори!
– В другой раз! Как ни будь при встрече! Я передал дежурному в блиндаже трубку и велел прокрутить ручку.
– Разговор окончен! Дай им отбой!
– Вот брат! – Слышал разговор?
Они со мной разговаривать не желают. Мы лезли ночью очертя голову за немцем, рисковали собой, а им до фонаря наши с тобой переживания.
– С расстройства, что ль напиться? Надо бы напиться, да опять нельзя!
Вечером с Рязанцевым серьезный разговор. Он к вечеру сегодня должен выйти на встречу. Потерпеть придётся. Мы с тобой своего языка обязательно обмоем!
Изучением немцев будут заниматься другие. А наше дело солдатское! Мы должны не рассуждать и таскать языков!
Мы не долго с ординарцем задержались в тылу, в блиндаже. Для нас прошла всего одна ночь без бомбежки, обстрелов и нервотрепки.
Рязанцев на встречу не вышел, прислал посыльного. Тот передал, что выйдет завтра в назначенный час.
Мы с ординарцем выспались до утра. Утром затрещал телефон. Звонили из штаба. Мне снова предложили отправиться во вторую стрелковую роту. Командование дивизии требовало, чтобы офицеры штаба полка находились в каждой стрелковой роте на передовой. Чего-то боялось наше командование?
* * *

– курсивом выделен зачеркнутый текст
27.09.1983 (правка)
Август 1943


Утром двадцать пятого августа мы снова с Кузьмой сидели в окопах второй стрелковой роты. Ночью мне позвонил начальник штаба полка и сказал, что нужно продержаться с ротой на занятых позициях два дня. А что тут держаться? – подумал я. Сидят солдаты в траншее, и сидят! чешут от безделья, скребут ногтями всякие места, то ли от грязи, то ли от пота и жары, не то вшей гоняют.
Было уже утро, когда мы с Кузьмой ввалились к пехоте в траншею. Утро, как утро! Ничего особенного!
Солдаты стояли на постах, накинув на плечи шинели. Стояли они поёживаясь, подергивая пустыми рукавами.
– Чего зря одевать? До жары осталось немного!
– Как сложиться день? Может и не жарко будет!
– Доживем до полудня – увидим!
Из низины стал подниматься туман. Он пробрался в овраги и стал сползать по складкам местности. Когда серая дымка закрыла часть нейтральной полосы, солдаты навострили уши.
Лохмотья тумана расползаются и стелятся по земле. Старшина стрелковой роты занимается дележкой продуктов. Как и все старшины, он деловито покрикивает на солдат, бросает буханки хлеба и отсчитывает котелки. В подставленные ладони он бросает куски сахара, щепотями отмеряет и сыпет в солдатские кисеты махорку. На какой-то миг его возня затихает и в предутренней тишине его голос снова басит: – Следующий подходи! Старшина всё делает умело и привычно. Движения его размеренны и быстры. Отмеряемые порции без обиды равны и одинаково тощи. Старшина успевает быстро закончить свои дела, собирает свои манатки, перекидывает опустевший мешок через спину и говорит командиру роты:
– Ну, я пошел!
Вылезает из траншеи, подхватывает рукой телефонный провод и пускается по низине, залитой туманом, в обратный путь. Напарник его – повозочный, запрокидывает на спину термос, спускается с обрыва и исчезает в тумане вслед за старшиной. Они как призраки, только что были здесь и уже исчезли! Солдаты не торопясь расходятся по своим местам.
Еще через час сизый дым тумана сползает к реке. В бледных, прозрачных остатках тумана появляются силуэты кустов и отдельных деревьев. В это время жизнь на переднем края замирает совсем. Не слышно побрякивания котелков, позвякивания ложек и кружек, притихли и солдатские голоса. Получив каждый свое, солдаты посматривают иногда поверх окопов.
– Ну что Кузьма Матвеич! Пойдем прогульнемся, что ль по ротной траншее? Посмотрим, что делают наши солдатики, как службу свою блюдят!
– А то ведь после кормежки, по себе знаю, в сон клонит!
– Товарищ гвардии капитан! – обращается ко мне, стоящий на посту солдат.
– Ну что тебе?
– Погодка нынче будет летная! Хрен ее подери! – говорит солдат, поглядывая на небо.
– Густой туман, он всегда к жаре!
Кое где в низине проглядывает еще бледный туман, а небеса уже пылают солнечным блеском. Я прохожу до конца траншеи. Солдаты посматривают то на небо, то на меня. Возвращаемся в землянку, спускаемся вниз. Здесь темно и прохладно. Садимся на нары. Трещит телефон. Телефонист объявляет:
– Требуют командира роты!
Звонят к нему, хотят наверно узнать, явился ли я в роту. Проще ведь было бы вызвать меня и об этом спросить – думаю я.
Из батальона запрашивают, есть ли в роте патроны. Нужно доложить, сколько гранат у каждого солдата? На артиллерию не надеются! Гранаты стали считать! Есть – отвечает ротный. Командир роты всё доложил. Затем, на том конце провода появляется химик полка. Он требует от лейтенанта отчета о наличии и количестве противогазов. Вроде, как немец намеривается, хочет газы пустить!
Пехота трет себе бока, третий год таскает через плечо противогазы. Солдату даже во сне не разрешают с потертой шеи снимать лямку противогазной сумки. Так и ходит и лежит с торбой на боку! Теперь химик полка в роты стал названивать, требует отчета.
Солдаты ушлый и тертый народ. Многие солдаты из противогазных сумок выбросили маски и железные коробки. В сумках теперь лежит солдатское барахло. А чтобы ротный и высшее начальство не цеплялось, не полезут же они в противогазную торбу разглядывать дно, солдаты поверх своих вещей клали пустой гофрированный шланг, без маски и коробки.
Разве кому придет в голову, что в противогазной сумке солдаты таскают барахло.
Химик полка строчит по два отчета в месяц о наличии в полку противогазов, а у солдата пехотинца жизнь на фронте рассчитана по дням и по часам.
Когда солдата ранило, то с него спрос ни какой! Он тебя на счет противогаза пошлет подальше к евоной матери, если ты вдруг с него во время перевязки в сан роте будешь требовать, тот самый противогаз.
Некоторые, наиболее шустрые, из солдат специально из-под накладного клапана высунут шланг гофрированной трубки петлей и ходят по траншее на глазах у лейтенанта, цепляют этой кишкой за что попало. Лейтенант останавливает разгильдяя и читает ему мораль.
– Только сейчас химик полка звонил, по телефону! Разве ты сам не видишь, что у тебя из сумки вываливается противогазная трубка?
– Смотри, трубка, висит! Ходишь, цепляешь ей за что попало! Неужель не можешь сообразить, что дыхательную трубку от проколов нужно беречь?
– Слушаюсь товарищ гвардии лейтенант! Будет полный порядок! Разрешите идтить?
Мы с Кузьмой смотрим на это представление и смеёмся до упада.
– Простое дело! А не могут сообразить! – оправдывался лейтенант, а мы еще больше закатываемся от смеха.
Солдаты знали причину наших улыбок. Они даже подмигивали нам. Вот, мол, разведчики без слов все понимают! Я видел по выражению на их рожах, чтобы мы их не выдавали.
Дело тут было не в понятливости лейтенанта. Мы ничего не говорили ему. Когда сам додумается, тогда и откроет глаза. Главное, на мой взгляд, было в другом. У солдат было веселое и хорошее настроение. А присутствие духа на фронте, это кое-что значит. Пусть посмеются и поиграют. Пусть поводят вокруг пальца своего командира роты. Ведь это они делают, чтобы подвеселить других. Важно не убить хороший настрой и боевой дух солдата.
– Ты Кузьма лейтенанту на счет противогазов смотри, ни гу-гу!
Что касалось разведчиков, то мы противогазы не носили. На этот счет по дивизии был издан специальный приказ. Химик полка нас по своим газовым и противогазовым делам не касался. А все другие и прочие носили их, как лошади хомуты на шее. Не дай бог, если кого в расположении полка, химик поймает без противогаза. Это была его святая обязанность вести досмотр за всеми. Увидит без противогаза, поднимет крик на весь лес, чтобы в глубоких подземельях, где сидит полковое начальство было слышно, что химик и здесь на своем боевом посту. Такая, у химика была матерная работа.
Телефонные разговоры на линии прекратились. Мы вышли с лейтенантом наверх и присели на ступеньки, в проходе. Мы сидели, вдыхали свежий утренний воздух и прислушивались к тишине.
Вдоль траншеи я замечаю какое-то движение. Смотрю влево и вправо, пытаюсь понять. По вытянутым шеям и напряженным лицам солдат можно определить, что со стороны Духовщины в нашу сторону что-то движется. Несколько солдат часто выглядывают поверх траншеи. Вот один из них оборачивается и кричит не обращаясь ни к кому: – Немецкие самолеты на подходе!
Когда немцы летят и держат курс куда-то в сторону, солдаты стоят спокойно. Никого не волнует куда они летят и кому на головы будут сыпаться бомбы. Никаких постов ВНОС (воздушного наблюдения, оповещения и связи) в полках, батальонах и в стрелковых ротах у нас тогда не было. Об этом говорится только в мирное время в уставах.
Какой там ВНОС, сейчас налетят, кровь из носа будет! Одного солдатского крика достаточно, чтобы все и даже мертвые вскочили на ноги, задрали головы кверху и стали гадать. Как? Накроет или пронесет?
Мы поднялись на ноги и посмотрели в ту сторону. На фоне светлых кучевых облаков видны темные силуэты немецких самолетов. Они медленно, обремененные тяжестью, держат курс в нашу сторону. Мы смотрим за ними, не отрывая глаз. Мы пытаемся их сосчитать. Считают все, но каждый про себя.
Вот немцы зашли в облака. Мы заранее знаем, где они вынырнут. Теперь их темные силуэты становятся крупнее. Мы пытаемся угадать, не отвернут ли они в последний момент в сторону. Такое тоже бывает, когда они к своей жертве хотят подобраться с разворота в последний момент.
Напряжение растет! Слышно, как по жилам пульсирует кровь. Солдаты стоят, задрав головы, начинают поглядывать вдоль траншеи. Где место поуже? Где крутой поворот? Где можно надежно укрыться? Где выгодней присесть или привалиться к стене? По лицам видно, что на душе у каждого из них. По себе знаю, что чувствует каждый солдат в такую минуту.
Дай волю нервишкам, не придержи полёт фантазии, представь наяву весь ужас массированного удара, у любого по спине мурашки побегут, в коленях появится мелкая дрожь.
Самолетов, считай, не меньше пяти десятков! Если даже один из них удачно сбросит свой груз и накроет нашу траншею, то считай, что здесь не останется ни одной живой души.
Отдельный зенитный дивизион, как его навивают 257 ОЗАД, прикрывает зад нашей дивизии, где расположен штаб и её командир – полковник Квашнин Александр Петрович. У нас никаких зенитных средств нет, и нам их не дают. Говорят так: "Будут бомбить – отбивайтесь винтовками!" Если после бомбёжки в траншее останутся только мертвые, нам простят потерю рубежа и нас с лейтенантом под суд не отдадут. Мертвых не судят!
Страх наползает на спины солдат. На лицах солдат выступает пот крупными каплями. Выхода нет. Все великие замыслы свыше, окупаются, каждый раз тысячами человеческих жизней. Смерть не страшна, если есть какая-то надежда уйти от неё. Главное не в смерти! Обидно умирать вот так под бомбами, а оставить окопы, мы не имеем права.
Я лег грудью на стенку окопа и посмотрел на высоту 220, опоясанную немецкой траншеей. Гул самолетов с каждой минутой приближался и нарастал. Что будут немцы делать в своей траншее? Во время бомбёжки им могут тоже одну, две бомбы по ошибке пустить.
Из-за высоты неожиданно вывалила группа пикировщиков Ю-87. Их было больше десятка. Откуда они подошли? Мы их не видели на подлете.
Вот они перестроились в длинную цепочку, отвернули в сторону и пошли на первую роту. Там на переправе стояли наши танки, самоходки и окопавшись лежала наша пехота.
Первый пикировщик вскинулся, свалился на крыло, включил свою сирену и пошел вертикально вниз. Раздирающий душу вой раздался в небе и долетел до наших ушей.
Несколько сброшенных бомб оторвались от физюляжа и фонтаны земли, песка и дыма вздыбились в том месте. При ударах по наземным целям немецкие пикировщики предельно точны. Они вертикально срываются вниз, наводят корпусом бомбу на цель и ни что уже не может отвести ее от попадания в цель. После сброса бомбы, пикировщик свечкой взмывает вверх, освободившись от части тяжелого груза. На какое-то время он зависает в воздухе, выбирает себе новую цель и включив сирену для устрашения, с ревом бросается к земле.
Что творилось там, в расположении первой роты, не возможно передать и представить!
Немецкая пехота тем временем по всей линии обороны стала бросать сигнальные ракеты. Это были ракеты нового типа. Они пускали не одиночные цветные огни, а за один выстрел в небо взмывало сразу несколько, до четырёх, красных или фиолетовых огней.
Пока пикировщики обрабатывали передний край первой стрелковой роты, бомбардировщики вышли на нас и стали делать боевой разворот.
Квадратный чемодан с широким ремнем из натуральной кожи сегодня к утру был доставлен ко мне в траншею. Старшина принёс его и попросил, чтобы я посмотрел и определил, что это такое.
Я велел ему отстегнуть кожаную крышку. Смотрю во внутрь, чемодан внутри разделен на отдельные секции. В каждой кожаной ячейке ракетные патроны с цветной маркировкой. Все содержимое надежно прикрыто от дождя и пыли. У стенки с правой стороны два больших кармана. Заглядываю туда – там лежат два новых ракетных пистолета. Вороненые стволы поблескивают холодной синевой. На каждом ракетном патроне, цветные кружочки, с обозначением цветного кода. Чемодан новый. В нем полный нетронутый комплект сигнальных ракет. Кто-то из немцев впопыхах потерял его на дороге, а разводчики случайно нашли.
Вынимаю патроны с пометкой четыре фиолетовые, заряжаю обе ракетницы и одну передаю ординарцу Кузьме.
– На, держи! Стрелять будем вместе! Смотри, когда немцы начнут!
Одна из групп бомбардировщиков отворачивает несколько вправо и движется в нашу сторону. На цель их наводят по рации откуда-то с земли. Они нацелились на обрыв, где мы сидим. Мы спокойно стоим у бруствера, впялив в небо глаза, следим за пикировщиками и посматриваем в сторону немецкой траншеи. Мы ждем сигнальных ракет немецкой пехоты, которая сидит перед нами за оврагом.
Солдаты приготовились к смерти, съёжились, согнулись в дугу, смотрят на нас – они удивлены. Они уткнулись в землю, дрожат, а мы стоим во весь рост, спокойно смотрим и даже немного веселы.
Вот из немецкой траншеи в нашу сторону взлетели и полыхнули ракеты. В воздух взвилась серия из четырех фиолетовых. Мы с Кузьмой без задержки пускаем свои. Наши фиолетовые из двух новеньких ракетниц летят в сторону болота, туда, где никого нет. Мы видим, как засуетились немцы в своей траншее. Они меняют код, в надежде, что нам нечем будет ответить на их новый сигнал. Но мы, не долго думая, повторяем и его. У нас полный набор ракет. В болото летят две зеленых и две фиолетовых одновременно.
– Ничего, чисто сработали! – говорю я Кузьме. Он улыбается до ушей.
– Ну, вот лейтенант! Нам с тобой теперь нечего бояться бомбежки!
– У нас полный набор немецких ракет.
Смотрю вверх. Самолеты, покачивая крыльями, отворачивают от нас чуть в сторону. Видим, мол, свои! – и пускают фугасные и осколочные мимо нас в болото.
Взрывы следуют так близко, что наша траншея нервно дрожит.
Еще два, три захода! Ещё, каждый раз сигнальные ракеты! Над болотом поднимаются фонтаны жижи, воды и земли. Нас кидает в траншее то вправо, то влево. Пикировщики сбросили свой груз бомб, взмыли вверх, построились и ушли.
Смотрю чуть вправо и вперед, туда, где находится первая рота. Там бомбардировщики, сбрасывают продолговатые контейнеры. Черный железный контейнер похож на два сложенных вместе корыта. В корытах сделаны отверстия, через отверстия в нутро проникает встречный поток воздуха и контейнер ревёт. Контейнер, падая вниз, кувыркается, набирая скорость, начинает захлёбываться воздухом и неистово, со страшным надрывом реветь. Ревет на разные голоса с улюлюканьем, вроде коровы.
Перед самой землёй контейнер раскрывается. Оттуда, из двух половинок, как горох сыплются мелкие бомбы. По размеру они не больше кулака и с расстояния кажется, что сверху, на землю, кинулась огромная стая воробушек. Вот она коснулась земли и до нас долетела сплошная трескотня. Бомбочки покрыли собой большую поверхность земли. Серые барашки дыма вскинулись над землей в том месте, на большой площади.
Мы стоим спокойно, не припадая к земле. Мы уверены в себе и это поднимает настроение. Стоим во весь рост, оттопырив нижнюю челюсть и с любопытством взираем, как наших на переправе бомбят. Земля, дым и пыль над первой ротой достигли облаков. Две группы бомбардировщиков висят над Царевичем и пашут район переправы.
С самолётов бомбы несутся к земле по пологой кривой. Сначала они пошатываясь, скользят вслед за самолетом, потом постепенно снижаясь к земле, веером устремляются всё круче и круче. Летящую бомбу с большой высоты видишь, как падающую тебе на голову. И только в последний момент она убыстряя свой бег, вдруг отворачивает резко в сторону. Пикировщики построились, помахали крыльями и подались на запад. “Хенкеля” развернулись для последнего удара.
В этот момент появились наши истребители. Теперь немцы будут бросать бомбы куда попало. Им бы теперь поскорей избавиться от тяжелого груза.
– Кузьма! Фляжку достань! Разопьем! Что там у нас с тобой осталось?
– А то убьёт! Фляжку у тебя вынут и выпьют за наше здоровье!
Сейчас берегись! Немцы и по своим могут ударить!
Кузьма быстрым движение отстегнул лямку с мешка, достал её, отвернул резьбовую крышку и протянул фляжку мне.
Главное успеть! – мелькнуло в голове.
Я, на вес, в руке прикинул содержимое фляжки. Если пополам, то тут по четыре глотка! Вытягиваю губы, прислоняю узкое горло и холодная жгучая влага течет по жилам во внутрь. Пока я делаю глотки, Кузьма изловчился, отрезал хлеба и сала.
Я отрываю фляжку от губ и делаю резкий выдох. Кузьма протягивает мне приготовленный ломоть (закусон). Знакомым приятным духом отдает от ломтя черного хлеба. Я передаю фляжку Кузьме.
– Пей до дна! Это твоё!
– Фляжку на ремень не цепляй, положи в мешок! Живы останемся – пригодится! Повесишь на ремень – между ног будет болтаться! Может тебе в полк бежать придется зачем!
Теперь, когда водка выпита и сало съедено – бомбежка не страшна! На голодный желудок под бомбежкой сидеть гадко!
Сейчас бомбы будут сыпаться беспорядочно. Даже трудно сказать, чем это кончиться. Нужно пошарить глазами, осмотреться кругом. Быстро найти место в траншее. Где-то нужно приткнуться успеть!
Кузьма опрокинул фляжку, закусил и стоит у черного чемодана, поглядывая на меня. Он шмыгает носом и протягивает руку, показывая на черную кожаную крышку.
Я отрицательно качаю головой. Немцы не светят – показываю, я ему глазами.
– Наши ракеты сейчас не к чему!
Я хмурю брови, давая понять ему, что сейчас нужно спокойствие, выдержка и терпение! А сам думаю. У немцев разработанная система сигнализации. Нам нужно только следить внимательно за ней.
А по душе растеклась небесная благодать. Смотрю вверх. Вроде бомбы сыплются прямо на нас. А у меня нос вспотел от приятного состояния.
Хенкель-129 на последнем повороте вытряхивает сразу все. Звенящий, надсадный вой падающих бомб навис у нас над головой. Мы приседаем на дно окопа, пригибаем головы и готовы ко всему.
Но вот вой и свист на какой-то миг утихли, бомбы метнулись где-то рядом к земле. Меня ударило о стенку окопа и все вокруг заволокло летящей пылью. Я дыхнул ею, и мне забило нутро.
Окоп тряхнуло еще несколько раз и сверху огромной тяжестью на меня обрушилась, летящая с неба, земля. Кузьма сидит на корточках, прижавшись к передней стенке окопа. Он дернул меня за рукав. Показал на чемодан. Не подать ли нам сигнал цветными ракетами?
– Сиди! – прохрипел я, ожидая очередного близкого удара.
Наземные силы у немцев по-видимому на исходе! - мелькнуло у меня в голове. Наступает последний критический момент. Немцы ударом с воздуха решили остановить наше наступление и уничтожить нашу пехоту на передних рубежах. Бомбежку они приблизили предельно и своим траншеям.
Бомбы с воем и скрежетом сыплются к земле. На какое-то время света божьего и неба не видно. Рывком поднимаюсь к брустверу, продираю глаза и смотрю вперед. Земля под нами, над нами и мы где-то в середине её. Вижу сквозь мглу мерцание цветных огней.
– Давай! кричу Кузьме. И он пускает цветную серию. Я приседаю, сгибаюсь и жду, пока грохот немного утихнет. Вскидываю голову вверх и момент смотрю на небо. Всполохи земли успели осесть. Последний "Хенкель" над нами выбросил черный контейнер. Небольшие бомбочки огромным множеством сыплются из раскрытых полу корыт. Вот они ринулись и коснулись земли. Нескончаемый и нарастающий рев их взрывов заглушает вой самолетов и завывание бомб несущихся к земле. Наш окоп задрожал мелкой дрожью, как дрожит человек, когда у него бегут мурашки по спине. Я не смотрю, что там делается за краем нашей траншеи. Но вот взрывы стали реже, я поднимаюсь на ноги и встаю во весь рост. Самолеты с ревом прошли над нами, обошли высоты, развернулись над лесом и куда-то ушли. У меня уверенность, что они нас бомбить не будут. Немцы пунктуальный народ! У них отлично работает связь и поставлена сигнализация. Они бомбят на предельном расстоянии от своих траншей. Они, на авось, по своим не бросают. Это наши, при бомбёжке переднего края, лупят без разбора, где попало. И это не анекдотики и не прибаутки про войну. Это святая правда, если хотите, мы не раз на своей собственной шкуре испытали бомбёжку от своих. Спроси у любого пехотинца, окопника! Если найдешь его живым после войны. Задай ему вопросик на счет бомбёжки по своим окопам! Он сразу оживится и за матерится на чем свет стоит. Грамотёшки у наших соколов не хватало. Да и связь с наземными войсками того… Вот они и пахали – "Была, не была!"
Приятно смотреть на бомбежку со стороны. Стоишь себе в окопе, посматриваешь, поплевываешь, потягиваешь сигарету, пускаешь в воздух голубоватый дым, спокойно смотришь за бруствер и видишь как в небо летят огромные всполохи земли.
Вдруг со стороны Царевича, из-за леса, от туда, где стоят наши тылы, с гулом и с ревом, вынырнув из облаков, появились наши истребители. Я велел Кузьме достать бинокль и подать его мне. Он развязал мешок, протянул бинокль, я вскинул его к главам. Это были шустрые тупорылые И-16. Они, как обычно, прилетели с опозданием. Немецкие бомбардировщики налегке уходили на запад. Я подумал, что "Ишаки" сделают разворот и повернут обратно. Немцы уже успели построиться и принять боевой порядок. Кроме того, их охраняли с большой высоты немецкие "Мессершмидты". Мы смотрели на наших и ждали, что они предпримут.
Освободившись от груза немецкие бомбовозы, легко взметнулись вверх. Такое впечатление, будто невидимая рука подхватила их и с силой бросила в небо. Но один немецкий самолет почему-то замешкался на развороте. Эта группа немецких самолетов бомбила переправу через Царевич.
И в ту же минуту на него навалились передние "Ишаки". Первый истребитель пустил в сторону немца длинную очередь трассирующих. Немец выпустил легкий дымок. Самолет продолжал лететь. Из фюзеляжа самолета стали вываливаться темные фигурки людей. Они быстро скользнули вниз и через некоторое время над ними раскрылись парашюты. Немецкий самолет продолжал лететь. Дыма больше не было видно. Что это? Немцы со страха покинули целый самолет? По его внешнему виду можно было подумать, что с ним ничего не случилось. Но вот он стал, неестественно, клонится чуть влево. Теперь было ясно, что он получил смертельную рану. Он, как раненый в грудь солдат, продолжал, весь дрожа, по инерции перебирать ногами. Но вот силы его оставили. Он внезапно споткнулся. Дрогнул всем телом и как подкошенный ринулся к земле.
Пока мы следили за падающим самолетом, немецкие летчики на парашютах приблизились к земле.
– Бей гадов! – заорали солдаты, увидев, что летчики уже болтаются над землей. Вдоль всей траншеи застучали затворы, захлопали выстрелы и затарахтел ручной пулемет. Славяне редко стреляют из своих винторезов. Я, по крайней мере, давно не слышал, чтобы пехота открыла такую пальбу. Загадочна и не понятна душа русского солдата! Ее нужно поджечь, разгорячить, озарить успехом, а потом ее не удержишь! Солдат пехотинец может спокойно перешагнуть через собственную смерть, плюнув ей в глаза на встречу.
Над передним краем, тем временем, завязался воздушный бой. Шестнадцать "Ишаков" кувыркались на средней высоте. А там, выше, со стороны солнца, сверкая в небе, звенели "Мессершмидты".
"Ишаки" наши маневренные, но очень тихоходные. По-видимому, превосходство количеством подзадорило наших летчиков. Они, не долго думая, сразу ввязались в воздушный бой. Возможно летчики были молодые, неопытные?
Бомбардировщики, нырнув в облака, скрылись из вида, потеряв один "Хенкель".
Что это? От наших истребителей летят в стороны клочья?
"Мессеры" делали большие вертикальные круги. Они по очереди набирали высоту, каждый раз заходя на боевое пикирование со стороны солнца. "Ишаки" суетились и вертелись на средней высоте, делая бочки, петли, эмельманы и перевороты. (я до войны учился в аэроклубе и знал элементы высшего пилотажа.) А "Мессеры", охватив наших огромной петлей, неслись на них вертикально вниз из-за облачной высоты. Звон и свист стоял, когда немец пикировал на огромной скорости.
Шестнадцать "Ишаков" в военное время, это, считай, целая авиадивизия. И два "Мессера" сбивали их, по порядку, шутя. Интересно, что про эту дивизию сказано в официальных отчетах?
Мы в данном случае переживали, конечно, за своих. Когда один из "Мессеров" звеня и свистя, срывался вертикально вниз с огромной высоты, наши хребты невольно гнулись, кулаки сжимались и мы матерились. Нашим летчикам со стороны солнца летящего вниз немца не было видно. Мы даже орали в надежде, что они услышат нас.
Расстреляв выбранную жертву, немецкий истребитель свечой взмывал снова вверх.
Воздушный бой истребителей над рекой Царевич сложился явно не в нашу пользу. Наши, за десяток минут, потеряли десяток самолетов. Воздушный бой подходил к концу. Несколько парашютов уже болтались в воздухе. Три последних "Ишака" ревя и надрываясь, бросились в тыл к кромке леса. Они, цепляя за деревья крыльями, стали уходить от "Мессеров".
– Обидно смотреть!
– Наконец-то сообразили! – сказал кто-то из солдат.
Черный предмет у нас над головами приближался к земле. Из траншеи тут же раздался истошный крик:
– Ложись! Немцы сбросили корыто!
– Идет прямо на нас! Спасайся, кто может!
Я глянул в небо. Черный продолговатый предмет, кувыркаясь, падал на нас.
– Сирену забыли включить! - проголосил кто-то.
Черный предмет, не долетая до нас метров двадцать, ткнулся в землю.
– Какое корыто? Это бомба замедленного действия! – визгливо заорал на всю траншею другой солдат.
– Ложись! – подал команду лейтенант.
Солдаты мгновенно ткнулись на дно траншеи. Окрики и визгливые голоса из дресён на любого нагонят панику и страх. Окопники притихли, ожидая взрыва.
Кузьма шмыгнул носом и пошел за поворот траншеи. Он подошел к молодому солдату, наклонился над ним и что-то сказал ему. Солдат поднялся на ноги, разогнулся и ухмыляется. Они о чем-то договорились. Кузьма возвращается назад, позевывает во весь рот, прикрывает прокуренные, темные зубы ладонью. Похоже, что они что-то замышляют.
Солдаты окопники со дна окопа посматривают на них. Они ошарашены и поражены их пренебрежением к бомбе замедленного действия. Разведчик стоит, выглядывает поверх бруствера, смотрит в сторону упавшей бомбы, а солдат, их собрат стоит и держит винтовку наготове. А все остальные лежат в траншее, согнулись. А кто, давит дно траншеи своим животом.
Где еще представиться случай показать у всех на глазах свое бесстрашье, пренебрежение к бомбе и даже к смерти. Кузьма хочет показать пехоте, что он сейчас вылезет наверх и у всех на виду, пойдет проверять упавшую бомбу.
– Может, у ей, запала нет? – спрашивает кто-то из сидящих на дне траншеи солдат.
– Политрук надысь в лесу рассказывал, перед отправленном на передовую, что у них, у немцев, везде на заводах действуют коммунисты, взрыватели портят через один, каждый подряд!
– Ладно! Не бреши! – обрывает его другой.
– Мы эн-ти сказки давно слышали! А бомбы на своей шкуре тоже испытали!
– Лучше скажи! Что дальше делать?
Траншейный разговор заставил многих других солдат поднять головы и навострить уши. Они поглядывали в нашу сторону, вопросительно таращив глаза. Некоторые не понимая, что происходит, поднялись даже на ноги. Те, что были пошустрей, задрали головы и вытянули шеи.
– Куда харю высунул? – одернул их Кузьма.
– Щас, как рванет! Мозгами твоими заляпает всю траншею!
Кузьма что-то шепнул солдату, стоящему у него за плечом. Тот незаметно передернул затвором винтовки и шарахнул с наклоном вдоль траншеи.
Нервы у солдат в такие моменты взведены как мощные пружины. Под раскат выстрела из винтовки все мгновенно ткнулись на дно траншеи. Дернулись о землю и затряслись, как подкошенные. Кто-то даже жалобно застонал.
И вот дружный хохот Кузьмы и стоявшего рядом солдата еще раз покоробил тела упавших и согнувшихся солдат. Раскатистый смех поверг их в полное смятение и расстройство. Лежать им или вставать? Вот в чем был вопрос! А в траншее ни звука, ни голоса, ни какой хоть вшивой команды!
Лежат на дне траншеи во время бомбежки и обстрела неопытные. Лежать на дне траншеи вообще нельзя. При ударе тяжелого снаряда или фугасной бомбы, край окопа может обвалиться и заживо закопать. И ни кому в голову не придет из-под земли выкапывать человека, если из-под неё не будет торчать рука или нога и она обязательно должна при этом шевелиться. Искать после обстрела или бомбёжки солдата никто не будет. Таков закон войны!
Солдата хватятся тогда, когда старшина роты придет ночью в роту и при раздаче харчей не досчитается одного. При обстрелах и бомбежке нужно всегда держаться на ногах. Присядь на корточки или меленько пригнись, чтобы осколками по голове не задело, чтобы не ударила в харю взрывная волна.
Ко мне подходит лейтенант. Я ему говорю:
– От прямого попадания нигде не спасешься! Даже несколько накатов солдатской землянки не спасут от разрыва тяжелого снаряда. Вот почему на войне опыт и солдатская смекалка надежней самых толстых бревен над головой. Я, например, при обучении разведчиков в тылу, перед выходом на передовую, приучал ребят к мощным взрывам, сажая их в открытые окопы и подрывая, с близкого расстояния, немецкие противотанковые, трофейные мины. Взрыв от такой мины потрясающий. Иногда разведчики глохли, но через пару дней после звона в ушах, слух восстанавливался. Взрывами мы проверяли, как у человека шалят нервишки. Но зато потом, в бою, эта предварительная обработка давала человеку надежную уверенность. Он видел глубокие воронки после взрыва, на каком бы расстоянии они не находились от его окопа.
– А что, товарищ гвардии капитан, вы сами пробовали эти взрывы?
– Нет! Я брат с сорок первого перед каждой раздачей харчей получал их от немцев в натуральном виде. Считай, что я сотни раз битый!
Кузьма в свое время тоже проходил обработку взрывами. Для него бомба с расстояния в двадцать метров не представляла ничего. Вот почему, наверно разведчики ходят без касок и не припадают животами в траншее к земле.
Нет ничего глупее, заживо оказаться засыпанным землей. Мы солдатам пехоты лекции не читали. Это личное дело каждого. Смотри на разведчика и учись! У каждого на плечах котелок, прикрытый каской, торчит! На переднем крае, нет времени учить и поучать. Тут про баб нет времени рассказывать, языком чесать, даже когда стрельба затихает.
Кузьма повернулся ко мне и просит разрешить ему вместе с солдатом на бомбу сходить взглянуть.
– Руки чешутся? На какой хрен тебе сдалась эта бомба?
– Охота пройтись!
– Ладно, иди! Я все понимаю! Будь осторожней! Варежку не разевай!
Кузьма повернулся ко мне спиной и говорит что-то солдату. Я покачал головой, посмотрел ему в след. Он уже вылез на бруствер. Я понимал, что ему нужен этот спектакль перед солдатами стрелками. Ему нужны были зрители, которые, разинув рот, будут смотреть ему в след и следить за каждым его малейшим движением. Ему нужны завороженные глаза и взахлеб порывистое дыхание. Он хотел еще раз показать стрелкам, кто есть кто и что такое полковой разведчик.
Стрелки вытаращили глаза, с земли приподняль?????. А Кузьма во весь рост наверху. Он подает руку напарнику солдату. Как будто они лезут в чужой огород нарвать по запазухе спелых яблок. Вот они оба рядом стоят наверху. Немец не стреляет. Кузьма делает первый шаг и чуть пригнувшись, они направляются в сторону, к бомбе. Вон они останавливаются. Кузьма нагибается и что-то шарит рукой по земле, потом подцепляет ее за конец рукой, поднимает на уровень своей груди. Они оба стоят и рассматривают ее. Вот он опускает её на вытянутую руку, разворачивается и идет в обратном направлении, откинув руку с бомбой назад.
– Он что, рехнулся? – кричит кто-то из солдат.
– Зачем он ее тащит сюды?
– Рванет! Разнесет всю траншею!
Солдаты заерзали, забеспокоились, некоторые кинулись за поворот траншеи. Те, что остались, сгорбились и сжались.
Я пригляделся к Кузьме. Мне показалось, что бомба у него подвешена на какой-то петле и он тащит ее не поперек, подсунув руку под корпус, а в отвес и не очень-то она его гнет своим весом к земле.
– Он что совсем уже спятил? – прохрипел пожилой солдат, глотая слюну.
– Она всех одним махом погубит!
Солдаты были растеряны и вместе с тем недовольны, что разведчик волочет черную дуру. Аж дух перехватило! Что будет дальше!
Солдаты по себе все разный народ. Те, что были пошустрей, подались вперед и с восхищением в упор смотрели на Кузьму. А Кузьма недовольный и хмурый идет к траншее. Но, мать его так! Я знал, что внутри у него все сияло от радости и гордости, хотя он внешне совсем и не улыбался.
Солдатам из траншеи бежать было некуда. Кузьма с бомбой в руках одной ногой стоял уже на бруствере траншеи. В откинутой назад руке он держал то самое черное, от чего у всех стоявших в траншее солдат по спине побежали холодок и мурашки.
Кузьме осталось только сделать соскок вниз. Но он остановился, прищурил глаз, как во время стрельбы и искал, куда бы лучше на дно траншеи бросить бомбу.
И вот он под дружный вздох сделал широкий взмах руки, той самой, в которой держал злосчастную бомбу? И к ужасу всех и у всей на глазах, в траншею плюхнулось в кучу солдат полетело то самое круглое и черное. Кто-то взвизгнул и закашлялся, поперхнулся и замолчал. И когда это черное толо шлепнулось на дно траншеи, все увидели, что это просто кирзовый сапог.
Солдаты дрогнули и разразились раскатистым, дружным взрывом смеха. Смеялись сквозь слезы! Смеялись до пердежа падежа! Смеялись взахлеб, голосили, как бабы у гроба покойника.
Кирзовый русский сапог видно свалился с ноги подбитого летчика, когда рванул парашют.
Бывалые авиаторы на "Ишаках" не летали и кирзовых сапог не носили. Летом ходили по земле в начищенных до блеска хромовых. И на боевых вылетах были в них. Это был сапог мальчишки истребителя. Возможно это его первый и последний вылет. Больше на наших участках самолёты И-16 не появлялись.
Странно, но после бомбежки и воздушного боя на передовой установилась необычная тишина.
Наши приводили в порядок разбитые передовые роты. Немцы усиленно работали лопатами, рыли и выбрасывали землю, как кроты.
К вечеру, когда над Царевичем навалились сумерки, с нашей стороны послышался гул самолетов. В небе появились наши тяжелые "ночные" бомбардировщики. Ночными мы их звали потому, что днем они практически никогда не летали. При появлении такого самолета днем, его сбивали немцы первым снарядом. Они в сумерках ночи проходили через линию фронта, бомбили немцев где-то в глубоком тылу и назад через линию фронта никогда не возвращались.
– Летающие гробы пошли! – объявил кто-то из солдат.
Все эти дни в дивизию прибывало новое пополнение. До нашей траншеи пополнение ещё не дошло. В роте полсотни солдат. Может её и пополнять не будут.
День двадцать восьмого августа подходил к концу. Над землей еще висели угар и пыль от бомбежки. На зубах хрустел песок. Духота и вонь взрывчатки лезли в горло и в нос, так что не продохнёшь.
Вскоре в землянке затрещала восстановленная связь. В проходе показался телефонист.
– Товарищ гвардии капитан! Вас требуют к телефону!
– Кто спрашивает?
– "Второй" на проволоки, у аппарата ждет!
Подхожу к телефону, беру трубку, спрашиваю.
– Кто говорит?
– Где вы сидите?! – слышу я зычный крик.
– Кто это там орёт? – повторяю я свой вопрос.
– Говорит зам по тылу, майор Пустовой!
– Ну и чего тебе надо?
– Я замещаю командира полка! Почему вы сдали траншею?!
– Откуда ты взял, что мы сдали ее?
– Мне комбат доложил, и офицер штаба с НП полка докладывал! Там где вы сидели раньше, немец во время бомбежки бросал свои ракеты. Предлагаю немедленно взять обратно траншею, иначе вы с командиром роты пойдете под суд! В дивизии меня предупредили! Плацдарм мы не имеем права терять!
– Комбат и ваш наблюдатель на НП с перепуга в штаны наложили!
– Как это понять?
– Очень просто! Мы как сидели, так и сидим в этой траншее!
– А доказательства, где?!
– А раз ты мне не веришь, нам с тобой говорить больше не о чем!
– Ты наверно сидишь в штабном блиндаже?
– Нет, я здесь на НП!
– Так вот! Выйди наверх, сейчас не стреляют. Я дам две красных ракеты. Ты, со своими наблюдателями и посмотри!
Я высунулся из землянки в проход и велел Кузьме дать вверх две одиночных красных ракеты. После нашего сигнала перебранка, где мы сидим, прекратилась.
Ночью в роту прибыло пополнение, человек тридцать солдат и молодой лейтенант, командир стрелкового взвода.
Ночью мне позвонили из штаба и сказали, что я могу отправляться к себе. Я ответил, что до утра пробуду здесь во второй стрелковой роте, что у меня с Рязанцевым назначена встреча. Он должен выйти из леса на переговоры ко мне.
Рязанцев подробно доложил обстановку на лесной дороге и спросил.
– Что будем делать дальше.
– Собирай ребят и отправляйся в тыл.
– Ваша ближайшая задача, – сказал я ему, пройти вдоль дороги и разведать северо-западную опушку леса в районе деревни Кулагино. Вот взгляни на карту. Здесь она помечена. Карта, картой! Нужно посмотреть на месте. Может, и печных труб не осталось? В полсотни метрах не доходя опушки отроешь щели. Они будут служить для отдыха, на случай обстрела в них можно занять оборону. На опушку леса выстави наблюдателей. Наблюдение вести непрерывно. На флангах у себя поставишь сигнальные мины. Проводами скрытно задействуешь ветки деревьев и кустов, чтобы в случае неожиданного подхода немцев от натяга провода сработали мины. Разведка не должна быть захвачена врасплох.
По моим расчетам ты должен выйти с ребятами вот в эту точку. Вот смотри сюда! При выходе на опушку леса, ты возьмешь азимут вершины со своей точки стояния. Если по карте с обратным отсчетом угла от вершины к лесу провести прямую линию, то она при пересечении с опушкой леса покажет тебе точку стояния. Ошибка может быть в пределах десятка метров. Координаты своей точки письменно запиши. Потом передашь мне при встрече. Контрольный срок выхода со мной на связь – двое суток. Лично не сможешь – пришлешь связного!
Наблюдение за немцами и за местностью установишь сразу. Первые двое суток с опушки леса вперед не выходить и себя не казать. Для установки мин возьмешь с собой двух полковых саперов. Я в штабе полка об этом договорюсь. Кроме саперов с тобой в лес пойдут телефонисты. При прокладке линии немецким проводом, провода под кусты и в траве по земле не прятать. Связь тянуть будете двумя проводами, как это делают немцы. Оба провода подвесите на виду. Нужно сделать так, чтобы у немцев не было никакого подозрения, если они вас стороной обойдут и наткнуться на вашу телефонную линию. Чтоб не было подозрения, что это работа Ивана! Пусть думают, что линию бросили при отступлении свои. Подключаться к линии будете на короткое время. Никаких лишних разговоров! Прежде что-то сказать – продумай слова, составь короткую фразу. Трепотней о том, о сём запрещаю заниматься!
Выйдешь на место – продумай задачу на поиск! Задачу на поиск проработаешь с каждым в отдельности. Послушай, что ребята скажут.
И так, еще раз! Перед нами стоят основные задачи: – Разведать лес! Установить характер обороны на подступах к высоте за лесом! Подготовить ночной поиск для захвата языка! Определить наиболее безопасный участок, для выхода нашей пехоты в тыл высоты 220 и 232.
Предупреди разведчиков и особенно саперов и телефонистов. Ни какой самодеятельности! Первые двое суток вы должны наблюдать! Главное на первой стадии не обнаружить себя!
И вот что еще! С той стороны по опушке леса немцы ведут непрерывный огонь из пулеметов. Остаток ночи тебе на отдых. Можешь завалиться здесь в землянке или под бугром в кустах. Утром сюда прибудут саперы и связисты. Разбудишь меня, я им сам дам необходимый инструктаж!
Когда вся братия была собрана. Рязанцев позвал меня. Они сидели кучкой под бугром, прислушиваясь к пулеметной трескотне за лесом.
– С той стороны по опушке леса немцы ведут непрерывно стрельбу! – сказал я.
Они бояться, что мы их можем обойти в этом месте! Это ни какие-то там, агентурные данные! Это каждый из вас слышит сейчас.
– Вот! Слышите? – прищурился я и качнул головой в сторону леса.
– Бьет с надрывом и трескотней, с перепугу!
– Думаю, что он бьет по макушкам деревьев!
– Чтобы больше шума создать!
– Ведь, если он будет бить вдоль земли по стволам деревьев, далеко не пробьешь. Пули метров на двадцать полетят. Думаю, что стреляет он, для треска, для острастки. Послушаешь при стрельбе, кажется, что пули рвутся кругом. Но это только кажется. Таким манером они на нас нагоняли страха в сорок первом. Дадут несколько очередей по макушкам деревьев, которые располагаются сзади у нас, а нам кажется, что немцы нас обошли и стреляют нам в спины, с тыла. С тех пор мы эти фокусы изучили.
Понятно, ходить в лесу под такую трескотню неприятно и вроде сомнительно. Знаешь заранее, что он пугает тебя, бьет по макушкам деревьев, а сам думаешь, может он в это время целится в меня!
У кого привычки нет, под носом у немцев под пулями ходить, тому и мерещится, что вот-вот убьют!
– У саперов и телефонистов в лесу от такой трескотни коленки дрожат. Под пулями не всякий может выдержать ходить и при этом сохранять самообладание.
– Пуля это не мина. Мину, ту слышно на подлете. От мины можно увернуться, ткнуться за дерево, прижаться к земле. Для пули, секундное дело хлестнуть человека по груди. Пулю не слышно, когда она подлетает в тебя. Посвистывают те, которые пролетают мимо. Твоя, к тебе подлетит беззвучно и молча, ударит не больно, как кулаком по плечу. Человек кланяется пулям, которые пролетели мимо. В этом, пожалуй, и выдержка, чтобы сообразить, что эти пули не твои. Смотришь иногда на группу стрелков, идущих под пулями. Идут, пригнули хребты, глаза у них лезут на лоб, начинают метаться из стороны в сторону. Когда нет соображения – далеко не уйдешь!
– Помню! Был я командиром пулеметной роты. Мы тогда стояли в обороне под Белым. Пристреляем дорогу, по которой немцы иногда проезжают и ходят. Дистанция километра два. В стереотрубу все видно. Видишь по дороге идет группа немецких солдат. Приготовишься, дашь очередь и смотришь – Идут себе спокойно и вдруг начинают падать. А те, которые на ногах, думают, что эти просто споткнулись. А я то знаю, что цель поражена. А когда другая, проходящая по дороге, группа солдат начинает метаться и нервно припадать к земле, то мне сразу ясно, что прицел взят неправильно и пули прошли где-то в стороне?
Вы люди в разведке новые, выдержки, соображения и реакции у вас пока нет. Другое дело, когда рядом опытные люди идут. Если от треска трассирующих наши люди не пригибаются и на землю не падают, значит, опасности нет. Разведчики идут во весь рост, как правило, до первой крови. Вот и смотрите на них!
Бывает, конечно, что шальная заденет! Но у каждого при этом имеются мозги.
– У кого нет характера и выдержки, кто готов от первого звука пули на землю шлепнуться, кто не верит в товарищей и в себя, а верит в бога, в загробную жизнь, в нечистую силу, кто боится покойников и мертвых, у кого от вида крови мутит и кружится голова, тому в разведке делать нечего, пусть идет к чертовой матери в пехоту. Там каждый день живое мясо для пушек требуется.
Почему один не боится, а у другого мокрые штаны? Откуда у человека появляется страх и всякие предрассудки? Из раннего детства он приносит на своем горбу сомнения и страх. Когда человек не верит в себя, он верит в гадания, крестики и в бога. Погибнуть на фронте можно в любое время, дело не мудреное, дело нелепого случая. А эти случаи возникают, когда разум устал. Вот почему разведчики любят много спать. Знаю по себе. Чуть выдохся или устал, несколько суток подряд не спал – смотришь и попал под пулю или мину. А когда мозги работают, и держишь ушки на макушке – все эти тонкие моменты улавливаешь на ходу. У каждого разведчика мысль должна работать ясно и четко, голова должна быть светлой. Вот почему во время работы им водки не дают.
– Я, например! Заранее знаю, что меня ранит! А все почему? Организм устал. Серое вещество в котелке секунды не улавливает.
– Посмотришь на некоторых солдат стрелков. Сидят, обречено в траншее и ждут, когда их всех перебьют. Их бьют каждый день. Траншею немцы отлично видят. Траншея для стрелков, как стойло на мясокомбинате для коров. Их бьют, а они мычат и не телятся! И всё от того, что робок и пассивен иной окопник солдат. Упорно сидит в общей траншее и подставляет спину под бомбы, снаряды и мины. Ему и в голову не придет выдвинуться метров на двадцать вперед, отрыть неглубокую щель и перебраться туда от верной смерти. Боится он один в этой щели сидеть. Разведчик в такой ситуации мгновенно примет решение.
– А теперь вы можете меня спросить. Сколько разведчиков погибло сидя в передней траншее? У вас, у всех на голове надеты каски, а мои ребята касок вообще не носят. А кто из наших ребят получил удар пулей или осколком по голове? Хотя мы каждую ночь ходим по передовой во весь рост и не ползаем на животе, как некоторые другие в траншее. Пехота сидит в земле, а мы в это время ходим поверху. Разведчик погибает тогда, когда он неудачно бросается в немецкую траншею.
На счет трескотни немецких пуль в лесу! Предупреждаю телефонистов и саперов! Вы обязаны делать только то, что делают мои люди. Насчет припадания к земле! Учтите! Удар прикладом по голове можете быстро заработать! Чтобы вам не было страшно, стальные каски приказываю снять!
– Пойдёте с моими ребятами без касок на тот свет, прогуляетесь там маленько! Вернетесь живыми с задания – снова наденете их! Каски всем снять! И быстро!
У всех на лице появились улыбки. У разведчиков от потехи, а у связистов и саперов от спертого воздуха внутри.
– Федор Федорыч! Если кто при выполнении боевой задачи размякнет или в теле его увидишь испуг – разрешаю тебе своей властью немедленно прикончить на месте паникера! Ко мне его, под конвоем не приводи!
Как это сделать без шума и писка, тебя мне не учить! Предупреждаю заранее всех! Из-за одного разгильдяя можно погубить всех людей!
– Давай, Федор Федорыч! Строй ребят! Осмотр нужно сделать!
После осмотра я спросил:
– Ко мне, по делу! Вопросы есть?
– Есть! Товарищ гвардии капитан!
– Задавай!
– Расскажите ещё, что про войну! До выхода еще время есть!
С разведчиками перед выходом на задачу можно и нужно поговорить. Когда они вернутся, всем будет не до разговоров. Устанут, языком не буду шевелить.
– Ладно! Расскажу!
… так что, когда кругом стоит страшный грохот и сыплется земля, слышен вой снарядов, завывание мин и трескотня и удары пуль, кругом от земли поднимается едкий запах немецкой взрывчатки, а из-под ног уходит и колеблется земля – всё это ерунда. Главное, что ты жив! Что чувствуешь своей шкурой - войну и шумовое оформление. Серьезное дело смерти совершается беззвучно, безболезненно и тихо!
После такого рева, немцы думают, что мы все мертвы. А мы поднимаемся из земли, и встаем во весь рост! В этом, пожалуй, загадка и стойкость духа русского солдата! Они видят, что мертвые идут на них! Сами немцы, выдержать такого не могут! Вот и бегут!
* * *

– курсивом выделен зачеркнутый текст
Исходное положение перед Духовщиной

14 августа 43г. дивизия вышла на исходные позиции и изготовилась к наступлению. Справа от нас перед Ломоносово и Афонасово стояли 219 сд, 158 сд и 262 сд.
Немцы здесь около года укрепляли рубеж обороны. Основным опорным пунктом была Духовщина, которая отстояла от передней линии обороны немцев в двадцати километрах в тылу. В Духовщине был штаб немецких войск оборонявших, так называемый "Восточный вал" обороны.
На линии Ломоносово – Афонасово – Забобуры – Кривцы – Понкратово у немцев был вырыт солидный противотанковый ров.
17 гвардейская сосредоточилась в лесу южнее деревни Отря. Наш правый фланг охватывал участок прорыва Отря – Дмитриевка в общем направлении на Кривцы и Забобуры.
После мощной артподготовки наметился участок прорыва по дороге Отря – Плющево. Кривцы на время у нас остались в стороне.
Наш полк наступал по лесному массиву в направлении деревни Понкратово. От Понкратово мы свернули еще раз на юг, и вышли к оврагу, где обозначена деревня Сельцо. Далее мы наступали вдоль оврага в направлении отметки бывшей церкви Никольской, что стояла когда-то на бугре, перед болотом и поймой реки Царевич.
От Сельца в направлении брода, через Царевич, идет дорога. За бродом на том берегу развилка дорог. Одна дорога, огибая Кулагинские высоты с севера идет на Духовщину. Другая дорога от развилки поворачивает на юго-восток, пересекает Кулагинский овраг и лесом уходит на Худкова и Воротышино и на Попова – Скачкова. До Ярцево здесь километров тридцать.
Высота 235и8 (Духовщина)

Участок линии фронта, между позициями первой и второй ротами, в изгибе реки Царевич, уходил клином к подножью высоты 235,8.
Солдаты нашего полка здесь не наступали, потому что выступ излучены реки простреливался с трех сторон: со стороны высоты 220, из траншей с высоты 235,8 и слева, со стороны брода, где еще сидели и держались немцы.
Если полк возьмет высоту 220 и отбросит немцев от брода, то на пути наступающих рот встанет сильно укрепленная высота 235,8.
Новый командир полка, сменивший на этом посту Пустового, решил провести операцию: застать немцев врасплох и ворваться в траншею. Командир полка на этот счет имел приказ из дивизии. Боевая операция была задумана там.

В тылах полка, где-то сзади, в лесу, была сформирована специальная штурмовая рота, из солдат нового пополнения. Ночью ее переправили через Царевич, в темноте она подошла к подножью высоты 235,8 и залегла. Ротой командовал молодой лейтенант. Фамилии его я не знаю. Ему пообещали награду. Командир полка, ему лично отдал боевой приказ на рассвете атаковать немцев и ворваться в немецкую траншею.
Стрелки подошли к высоте и залегли. Ночью не видно, где они ткнулись. Потом, позже выяснилось, что рота не дошла до высоты, а залегла в низине, метрах в двухстах от подножья. Это и решило исход операции.
Место оказалось сырое. Где ни копни, везде на штык лопаты сочилась вода. Кругом сухота и жара. А это место оказалось сырое. Повсюду били ключи.
Обычно перед наступлением солдат нужно надежно укрыть в земле. На исходных позициях должны закопаться все. Мало ли, что может случиться?
Утром, перед самым рассветом, немцы обнаружили роту. Сначала они не показали даже вида, что знают о нашем приготовлении.
Немцы подтащили еще несколько пулеметов, и когда всё было готово, открыли из них бешеный огонь.
Кочки, где лежали наши солдаты легко простреливались пулеметным огнем. Никто из наших такого не ожидал. Но, что было ещё более странно, наша артиллерия упорно молчала. Солдаты кинулись бежать к реке и по пути получили смертельные раны. Многие были убиты на месте.
На войне и не такое бывает!

Если солдат окопник поддался панике, то ты его не удержишь и не заставишь на месте лежать. Он срывается с места и летит, не разбирая дороги. Кругом взрывы, столбы земли и пыли, осколки и пули летят, а он ничего не видя, бежит с вытаращенными от страха глазами. Вот, если бы он так драпал в атаку, в сторону немецкой траншеи!
Командир роты получил ранение в плечо. Видя безвыходное положение роты, он передал командование ротой сержанту и побежал в тыл на перевязку. Теперь за провал операции и за потери в роте судить было некого. Командир роты был ещё раз ранен в пути. Командира полка под суд не отдашь!
Солдаты, кто мог, выбирались под берег Царевича. За обрывом крутого берега можно было стрельбу переждать. Но многие, кто не смог двигаться, остались лежать у подножия высоты, в низине.
В сан роте полка одни делали перевязки, а другие спрашивали, что и как случилось? Проводная связь с ротой была перебита. Что стало с телефонистами тоже никто не знал.
Начальнику штаба полка нужны были данные. А солдаты не глупый народ. Они сразу поняли (увидели) кто напахал, кто виноват, что рота понесла потери. Поди, его, солдата спроси! Некоторые, что были, посмелей, стали огрызаться в открытую. Посылают штабных куда подальше. "Не видишь, что раненый я?!" Солдата нахрапом не возьмешь! Он знает свои права, когда ему делают перевязку. И он, и все другие знают, что раненый солдат на особом положении. Он уже не в роте, не в батальоне и не в полку. Он тебе больше не подчиненный. "Пошел-ка, к такой-то матери и заткнись!"
Выяснить причину гибели роты ни командиру полка, ни начальнику штаба полка не удалось. Командира роты, лейтенанта, с первым транспортом отправили по этапу в тыл. Когда его кинулись искать, его и след простыл.
В это самое время на лечении в сан роте находились два наших разводчика. Наш старшина при получении продуктов на складе полка навещал ребят и подкидывал им кое-что из харчей.
Солдат, солдата всегда поймет. Раненые рассказали им кое-что, а разводчики передали разговор старшине. Старшина приехал во взвод разведки и рассказал мне, как разворачивалось дело.
Начальник штаба полка был в большом затруднении. Он должен был составить докладную записку в дивизию и дать объяснение срыва атаки и потерь. А из опроса солдат при перевязках ничего установить не удалось. Никто точно не знал, что именно случилось, с ротой. Командира роты отправили в тыл. Комбат кивал на командира полка. Я, мол, тут совсем не при чем. Боевой приказ отдавали лейтенанту. Я ничего не знаю.
А из командира полка слова не выдавишь. Сидит как боров, голову пригнул и сопит. Штурм немецкой траншеи окончился полным провалом.

Накануне ночью я вернулся с передовой. Имел разговор по телефону с Рязанцевым. Остаток ночи и весь день я проспал. Перед вечером меня разбудили, майор Денисов меня требовали в штаб. Кузьма заправил на спину свой мешок и мы с ним пошли через поле напрямик в расположение штаба.
О том, что мне рассказал старшина, я не стал докладывать начальнику штаба. Солдатские разговоры это одно. А объективные данные это дело другое. Каждый приврет, что может, добавит кое-что от себя. Солдаты, разведчики, старшина! Три длинных инстанции! Считай половина вранья. Это имело место не только среди рядового состава. Возьмём основные и официальные инстанции. Рота, батальон, полк, дивизия и армия. В полку никогда точно не знали, что твориться на передовой в роте. Комбат всегда покажет всё в выгодном ему свете. В полку эти данные переработают в свете запросов дивизии. А в армии будут знать, что в результате сильной контратаки немцев передовые подразделения дивизии понесли большие потери. А немец и не думал контратаковать. Он сидел в своей траншее на месте и из пулеметов постреливал.
Увидев меня, начальник штаба молча кивнул головой, в сторону свободного места на лавке. Садись, мол!
Я сел на лавку, придвинулся к столу. Он пальцем ткнул в карту, взглянул на меня и осипшим голосом сказал:
– Тебе предстоит сегодня ночью выйти к подножью высоты 235,8. Нужно разведать немецкую оборону на этом участке.
– За одну ночь? – спросил я.
– Нужно разведать подступы к высоте, подобрать рубеж для исходного положения стрелковой роты. При выходе роты на указанный рубеж, она за ночь должна успеть окопаться. Рота в восемьдесят человек, скомплектована во втором эшелоне, ждет приказа на выход.
– А кто роту на рубеж поведет?
– Роту выводить будет комбат. Твое дело определить исходное положение и указать его комбату. На разведку исходного рубежа тебе дается одна ночь. Комбат с ротой будет ждать тебя у реки.
– Знаю, что ты сейчас скажешь, что эта работа комбата.
– Конечно! – сказал я.
– На то он и комбат, чтобы возиться со своими солдатами.
– Ты пойми! – продолжал майор. Они опять в темноте, куда ни будь залезут.
– Слушай майор! Что-то у вас комбаты пошли все бестолковые?!
– Я был командиром роты, меня никогда, ни кто не выводил. Покажут на деревню, ткнут пальцем в карту, я поднимаю своих солдат и иду.
– А теперь что? Теперь сорок третий и всех за руку води?
– Ты опять за своё?
– Ты за своё! Комбат про своё! И я за своё! А ты, как думал?
– Твой выход к подножью высоты 235,8 согласован со штабом дивизии.

– Звони туда! Пусть они отменят свое распоряжение.
– Лично ты комбата можешь за руку не водить. Оставь проводников, пусть они его встретят у Царевича. У меня к тебе всё! Ты свободен! Можешь идти! Вернешься с задания, доложишь лично мне!
Я вышел из блиндажа, поддал ногой, валявшуюся на земле, пустую консервную банку и выругался матом.
– Вы что? Товарищ гвардии капитан! – услышал я голос Кузьмы.
– Как что? Опять на побегушках, за других пахать! Пошли!
Как только спустились сумерки, мы вышли к Царевичу. Я взял с собой группу разведчиков. Впереди идут три. Это наше, так сказать охранение. Нейтральную зону до реки проходим быстро, без остановки. Переправляемся на другой берег и, не выжимая порки, следуем дальше. При движении вперед замедляем движение. Нужно следить за полетом трассирующих, за осветительными ракетами, которые с высоты бросают немцы. Мы идем цепочкой друг за другом, тихо ступая по земле. На всех надеты чистые маскхалаты. Человека в халате темной ночью с двадцати метров не отличишь от земли, если двигаться плавно и не делать резких движений. Каждый раз, когда мы приближаемся к немцам, каждый по-своему переживает этот момент. У одного подавленное настроение, у других сосредоточены лица, а третьи как бы мысленно ушли в себя. Каждый по-своему встречает трассирующие пули.
Где-то, правее, вдоль берега слышны глухие удары тяжелых взрывов. Полета снарядов не слышно, поэтому трудно сказать, наши бьют или немцы.
Впереди на расстоянии видимости идет головной дозор. Три разводчика. За головным дозором следуем мы с Кузьмой, остальные ребята сзади. Кузьма следит за передними, я оглядываю местность и ищу в темноте немецкий передний край. Между нами всеми локтевая связь в пределах видимости.
Но вот вдруг дозорные встали. По молчаливому правилу замирает на месте Кузьма. Я останавливаюсь. За мной, как по команде встали все остальные. Дозорные пригнулись и тихо подались в сторону. Это сигнал остальным занять оборону. Все, кто сзади лежат, смотрят в темноту. Хоть мы и привычны ко всему, натренированы, у каждого из нас темное небо над головой и смерть за плечами.
Дозорные поднимаются. Что-то рассматривают внимательно впереди. Рукой подают мне знак, чтобы я приблизился. Мы с Кузьмой поднимаемся и тихо идем вперед. Те, что сзади остаются лежать на месте.

Подхожу к дозорной группе, у них в ногах тяжело раненый солдат лежит. Он ранен в живот, лежит на спине и тяжело дышит.
– Возьми его винтовку, воткни вверх прикладом! – говорю я тихо Кузьме.
– А вы двое сделайте ему перевязку!
Один из дозорных уходит медленно вперед. Он будет вести наблюдение, пока мы занимаемся с солдатом.
– Братцы! Не оставляйте меня! – сипит на выдохе раненый солдат.
– Лежи! Не двигайся! – говорю я солдату.
– Сейчас сделаем перевязку! А взять тебя с собой не можем!
– Не бросайте меня! – просит он тихим голосом.
– Лежи! Лежи! На обратном пути санитаров за тобой пришлем!
– Пойми ты! Мы разведчики!
– Извеняйте! Понял! – почти нараспев выдыхает он.
– Потерпи солдат! Немного осталось!
Подзываю Кузьму.
– У тебя фляжка с водой? Оставь ему! Он пить видно хочет.
– На пей солдат! – говорит тихо Кузьма,
– Здесь чай холодный с заваркой и сахаром.
Я наклоняюсь над солдатом, еще раз оглядываю его. Перевязка закончена. Ранение не опасное. Осколком вспороло брюшину и не задело кишки. Крови он много потерял. Солдат боялся, что кишки вываляться наружу.
– Теперь не вываляться! – сказал я ему. Лежи спокойно! Мы их бинтами привязали!
Много времени потратили мы около раненого. Летом ночное время короткое. Ночь в августе месяце скоротечна. Чуть задержался и рассвет на носу.
А что делать? Брошенный на произвол судьбы раненый солдат действует на психику моим молодцам. Но вот все готово. Я поднимаюсь с колена и подаю знак двигаться вперед.
С каждой минутой подножье высоты приближается. Мы идем перекатами. Короткий переход, небольшая пауза, осмотрелись, послушали и снова вперед. Чем ближе к немцам, тем чаще остановки. Мы подолгу стоим, вглядываемся в темноту, прослушиваем ночное пространство. Впереди все недвижимо и тихо!
Вот мы снова тронулись с места. В темноте я оступаюсь в канаву, теряю равновесие и спотыкаюсь вперед. И чтобы не упасть, я вскидываю руку вперед, ищу рукой на земле опоры, рука моя попадает во что-то мягкое, липкое и вонючее.
Все эти дни над низиной Царевича громыхала бомбежка и стояла жара. Целыми днями мутное небо висело над окопами. Трупы солдат разлагаются за три дня.

Моя рука попадает в разложившийся труп. Что-то скользкое и липкое висит у меня на пальцах, когда я разгибаюсь, поднимаясь с земли. Я пытаюсь эту склизь стряхнуть, а она болтается и страшно воняет.
Кузьма подходит ко мне вплотную и по запаху чувствует, что собственно произошло. Движение разведки вперёд останавливается. Мне в лицо ударяет трупный залах слизи и к горлу подкатывается приступ тошноты. Я делаю нервные глотки, стараюсь удержаться от рвоты. Немец близко. Посторонний звук может сразу обнаружить нас. Я пытаюсь обтереть руку сорванной травой. Тру кистью руки о шершавую кочку. Я сгибаю локоть, а за монжетом рукава что-то тянется и страшно воняет.
Кузьма снимает с плеча мешок, достает флягу со спиртом, рвет зубами наружную упаковку индивидуального пакета и на марлевую салфетку льет спирт. Он подает мне салфетку понюхать. Запах спиртного тут же отбивает трупную вонь. Я обтираю пальцы и рукав, бросаю салфетку, кажется все в порядке. Можно двигаться. Я подаю команду рукой.
Через некоторое время мы подходим к подножью высоты. Низина, кусты и кочки кончились. Кругом, открытое пространство, уходящее вверх. Приседаем на корточки, ждем, когда немец бросит очередную ракету или пустит очередь трассирующих над землей.
По длине промежутков между светящимися пулями и по их разбросу можно почти безошибочно определить расстояние до пулемета. Этот метод мы много раз проверяли на практике.
Когда не надо они сыплют трассирующими подряд. А сейчас, когда нам дорога каждая минута, притихли и не стреляют! Стой вроде как перед ними на коленях с протянутой рукой и как милости жди!
У немцев на высоте траншеи отрыты в полный профиль, достаточно пулеметов и минометов. Не достает только колючей проволоки в четыре кола, да минных полей перед траншеей.
До немецкой траншеи по моим расчетам осталось метров стодвадцать – стопятьдесят. Мы поднимаемся на ноги и снова медленно двигаемся в гору. Склон высоты становиться все круче.
Я посматриваю влево и вправо, там постреливают и видно как летят трассирующие. Направление мы держим правильно. Здесь пока встречных выстрелов нет. Нам нужно подойти еще ближе к ним, метров на сто.
Делаю знак сержанту Данилину, он идет впереди, шагах в десяти. Он останавливается. Я подхожу к нему ближе. Показываю ему знаком лечь на землю, а Кузьме накрыть нас с головой плащ-палаткой.
Из всех разведчиков один Кузьма тащит на себе заплечный мешок. Остальные идут налегке.

Разговаривать на таком расстоянии от немцев нельзя. Разговор в полголоса мы ведем под плащ-палаткой.
– Подойдем к немцам метров на сто! Разведешь ребят по фронту! Дистанция двадцать метров. Пусть тут же окапаются. Саперные лопаты у всех есть. За три часа нужно успеть зарыться по грудь. Ты с ребятами останешься здесь до утра завтра до ночи. С наступлением темноты, пошлешь двух связных к реке. Стрелковая рота подойдет туда в первой половине ночи. Солдат стрелков будет выводить сюда лично комбат.
Приведете его сюда, укажите рубеж, дождешься стрелков, сделаешь смену и сразу назад. Часть роты будет находиться здесь, а остальных они выведут позже. У меня всё! Вопросы есть? Приступай к работе! Мы с Кузьмой возвращаемся к себе.
Разведчики остались. Мы с Кузьмой, не торопясь, потопали назад. По дороге к себе я зашел к начальнику штаба, доложил ему о намеченном рубеже. Он выслушал меня и остался доволен.
Добравшись к себе, я вызвал старшину и велел ему направить в нейтральную полосу двух санитаров.
– Пусть возьмут носилки! Я обещал раненому солдату! Санитарам передай! Если раненый в живот к рассвету не будет в сан роте, то к ним будут приняты меры.
Потом мне рассказывал старшина, что посланные санитары подошли к раненому, обшарили его и сказали, что не могут взять, потому что пришли без носилок.
– Я послал для проверки Валеева. Он шел сзади них до самой реки. Когда они вернулись с пустыми руками, он повернул их назад. Носилки валялись у переправы.
– Вот товарищ гвардии капитан, какие проходимцы еще встречаются здесь, на фронте. Из них запросто нужно сделать пропавших без вести!
– Есть старшина подонки и гниды! Но, не все! Среди санитаров есть и люди!
– А ты, что скажешь Кузьма?
– Разрешите товарищ гвардии капитан я с этими двумя санитарами разделаюсь?
– Не разрешаю! Спать, давай ложись!

Остаток ночи мы с Кузьмой отдыхали. Утром позвонили из штаба, меня снова к себе вызывал майор.
В полку в это время комплектовали штурмовые группы. Ночью их выдвинут на исходный рубеж, а завтра с рассветом они пойдут штурмовать высоту. На этот раз по высоте сосредоточили около двух десятков стволов артиллерии, провели пристрелку вершины. Это был основной и последний укрепленный рубеж противника. Если завтра штурмовые группы полка возьмут высоту, то дорога на Духовщину будет открыта. На флангах немцы не удержатся. Силы у немцев на исходе.
– Чтоб не было, как прошлый раз путаницы, – сказал мне майор, – ты доведешь комбата до исходной позиции! Подождешь пока он выведет туда штурмовые группы. Снимешь разведчиков и отойдешь к реке. Во время наступления тебе нужно быть в районе переправы. Мало ли что может быть? Штурм высоты был назначен с рассвета.
Разговор был окончен. Я вышел наверх, где меня дожидался Кузьма, Я стоял около штабного блиндажа, посмотрел в сторону высоты и подумал.
Без крови, просто так, ее немцы не отдадут. Сколько солдат положили уже вокруг, с тех пор, как перешли здесь Царевич. Сотни две завтра пошлют штурмовать, половина из них останется лежать на подступах к высоте неподвижно. Нужны танки, самоходная артиллерия. А пехотой немцев с вершины не выкурить. Стрельба из пушек с такого расстояния результатов хороших не даст. Нужно бить по траншее, а они, как всегда будут вести огонь по площадям.
При проработке плана данной операции в полку и в штабе дивизии над штурмом высоты особенно не мудрили. Все делалось быстро и просто. Проработали и подсчитали боеприпасы и количество стволов, прикинули площадь обстрела, получили подходящую плотность огня и отдали боевой приказ. – "Десять минут артподготовки и штурм высоты!"
В приказе было изложено всё предельно просто, ясно и коротко. Успех, казалось, должен был быть!
Не ясны были только детали. Будет ли разбита немецкая траншея? Сумеют ли наши подавить немецкую артиллерию? Артиллеристов и штабных, эти вопросы особенно, не волновали. Для пехоты важно, что наша артиллерия бьет по высоте.
– Да! – подумал я, – Это будет не атака, а очередное избиение нашей пехоты!

Завтра утром на подступах к высоте ляжет ещё одна сотня наших. Атака снова захлебнется кровью. Из дивизии пришлют новую сотню. Их держат подальше, где-то в тылу, чтоб до них не дошли, всякая трепотня и разговоры. Штурм высоты снова и снова будет продолжатся, пока немцы не выдохнутся и их остатки не сбегут. А что ещё наши могут придумать, если все танки потеряли, новых не дают, а сверху сыплются приказы взять высоту. А что может сделать пехота против пулеметов и немецкой артиллерии?
Сзади ко мне кто-то подошел и тронул за рукав. Я обернулся назад. Передо мной стоял наш замполит полка.
– Готовим людей на завтра к штурму! – сказал он мне и показал на высоту.
– Не возьмешь ли ты штурмовые группы в свои руки? Ты мог бы возглавить завтрашнее наступление! Считай, что полком штурмуем высоту!
– А пример солдатам показать некому!
– Што? Нет надежных людей? – спросил я.
– Не то, что надежных! А хорошо обстрелянных!
– Что же выходит, у нас в полку нет ни одного достойного комбата?
– Или все боятся, лично идти на штурм высоты?
– У тебя разведчики. Ты можешь отобрать и возглавить ударную группу, – продолжал он, развивать сваю мысль, не отвечая на мои вопросы.
– Ворвешься в траншею! Все штурмовые группы последуют твоему примеру!
Он видел однажды, как я бежал под обстрел у брода через Царевич. Меня тогда они послали в первую роту. Но тут была разница. Тогда я бежал по крутому склону вниз, а теперь мне предлагали карабкаться под обстрелом к вершине. Мне нужно не только преодолеть открытое пространство под бешеным огнем, ворваться в траншею, но и отвечать за пехоту.
Замполит видно решил, что уговорить меня пойти на высоту не так уж трудно.
– Взять высоту, для тебя особого труда не составит! А если ты этого и сам захочешь, то это для тебя плевое дело!
– Плёвое? – переспросил я.
– Нет, конечно, не плевое! Прости, я не то сказал!
В боях, за Кулагинские высоты, наш полк понес большие потери. Стрелковые роты, считай, уже получили третье пополнение. Если раньше комбаты прятались где-то сзади своих наступающих рот, то теперь им приказали находится вместе с ротами. Многие штабные вышли из строя. Их гоняли в роты, как и меня. И вот теперь из офицеров штаба остались мы двое. Пискарев – ПНШ-1 и я – ПНШ-2. Пискарев занимался бумагами, вел учет убитых и раненых, отправлял извещения на погибших, составлял списки на вновь прибывших. Отрывать его от этой работы было нельзя. Да он и не командный состав. Он при штабе вроде, как старший писарь.

Со мной дело было иного рода. Приказным порядком послать меня на высоту, заставить штурмовать немецкие траншеи было нельзя. Приказом штаба армии я мог заниматься только разведкой. Перевести меня в комбаты тоже не разрешали. Согласно, приказа штаба армии я мог заниматься только разведкой. А мне предлагают пойти на штурм высоты в качестве штрафника. Штрафников обычно пускали вперед, когда не может ничего сделать пехота. Ведь знает прекрасно, что высоты нам завтра не взять!
Я мысленно оценил ситуацию, прикинул все за и против. Не было ни зацепки, ни шанса, пойти на высоту и остаться живым. Им мертвые нужны!
Траншея прикрыта мощным огнем немецкой артиллерии и пулеметов. Наши бьют, куда попало. От обстрела по площадям толку обычно мало. Пойти на высоту впереди пехоты, это пойти на верную смерть.
– Тебе, рискнуть один раз и дело сделано! – продолжал замполит.
– Я разведчик, а не штрафник!
– Мы тебя не принуждаем! Мы предлагаем добровольно возглавить атаку!
– Возьмешь завтра траншею, – получишь “Героя”!
– И вы это на полном серьезе?
– А ты думал как! Я говорил с командиром полка. Он в принципе не возражает.
– А Денисов, он даже сказал: – Этот возьмет! Если захочет! Вот я и решил поговорить откровенно с тобой!
– Это вы между собой решили! Квашнин, тот спит и во сне видит, ждет когда ему “героя” дадут. На посмертное награждение он, пожалуй, согласится меня представить. Я воюю и под огнем хожу уже третий год. Каждый день по много раз рискую жизнью. Не сегодня, так завтра убьют! И какими наградами я отмечен? Замполит рассматривал свой сапог, шевелил ногой, молчал и о чем-то думал.
– А теперь представьте себе другое. Я беру высоту и останусь живым. И ты майор, как не сдержавший слова, при всех пускаешь себе пулю в лоб. У тебя хватит на это мужества?
– Позволь! Какую ерунду ты говоришь? Причем тут пуля в лоб? Мы представим тебя к награде, а что там дадут, мы это не решаем! И ты в данном случае совершенно не прав. О наградах не договариваются и за них не торгуются!
– По вашему нужно ждать покорно пока наградят? Нет, майор! Героя получит Квашнин. А мы смертные! Мы будем трупами на высоте, валяться! Так, что я в Герои, не гожусь! Посмотри в стрелковых ротах, у кого из офицеров и солдат имеются награды? И обернись в тылы дивизии и полка. Там у всех гулящих девок бряцают медали! Я уж не говорю о майорах и полковниках. Все они обвешаны боевыми орденами! Нет, майор! Будем считать, что разговора между нами не было!
– Ну! Ну! – сказал он, повернулся и пошел к блиндажу.

Немецкую траншею штурмовали еще три дня. Из дивизии сыпались приказ за приказом. На высоту были брошены еще две роты. Немецкая траншея у подножья высоты к вечеру была взята.
Немцы отошли на вершину, прикрывшись огнем артиллерии дальнобойных пушек. Еще три дня наши солдаты штурмовали вершину высоты. Я с группой разведчиков в это время находился в немецкой траншее у подножья. После трехдневного рева снарядов над высотой повисло темное облако поднятой вверх земли. Телефонная связь с полком была давно оборвана. Что делалось на вершине трудно было сказать.
К исходу дня вдруг наступила необычная тишина. На подходе к вершине происходило что-то непонятное. Немцы занимали вершину, а из нашей пехоты никого живых на подступах не было.
Ко мне из штаба полка прислали связных и передали приказ разведать подступы к вершине, установить, где находится наша пехота и немедленно через связных доложить в штаб полка.
Я взял с собой группу разведчиков в пять человек и в сумерках вечера мы тронулись к верху. В нескольких десятках метров, не доходя вершины, мы залегли и прислушались.
Ни выстрела, ни ракеты с той стороны! Ну что? Нужно вставать! – говорю я мысленно сам себе и подаю команду своим молодцам.
Мы поднялись и вышли к окопам на вершине. В окопах сидела небольшая группа наших солдат. Они сидели на корточках и дымили сигаретами. Их было человек шесть или семь. Офицеров среди них не было.
Из офицеров я вступил первым на эту высоту. И в этом не было особого моего отличия. Я её не брал. Вершину взяли простые солдаты. Я только сумел их быстро найти.
За взятие высоты к наградам были представлены: командир полка, его замполит, начальник штаба и чины из дивизии. Мне за разведку вершины награда была не положена. Вершина была взята! Я просто на нее взошел. Хотя я мог запросто, и напороться на немцев. Но служба, есть служба! Я выполнял просто приказ.
Я даже подумал. Без наград даже лучше. Легче дышать. Свободней держишься, несвязан путами братии. Можно иногда огрызнуться и отлынить. Сколько можно без отдыха мотаться под огнем? Пошлешь, иногда, кого ни будь подальше и на душе стало легче! На войне, ведь всякое бывает!
К утру на вершину прислали стрелковую роту, протянули телефонную связь. Рота заняла оборону. Мы ждали приказа из штаба, чтобы снова пойти вперед. До рассвета осталось немного.
Видимость несколько улучшилась, когда рассвело. Я поднял бинокль и посмотрел на северо-запад. Очертания Духовщины, неясно проглядывали далеко впереди.

Время как бы остановилось, местность вокруг опустела. Немцы всё бросили и убежали. Бои на Кулагинских высотах прекратились. Грохот и рев снарядов неожиданно оборвался и стих. Необычно как-то было в такой тишине. Пройдет пару дней – привыкнем! – подумал я и тронулся с высоты. Мы шли в направлении Духовщины, но немец мог на подходе к ней в любом месте окопаться. Во всей этой ситуации нужно было как следует разобраться.
3-го сентября Рязанцев, взяв пленного, вернулся из леса. Пленный на допросе ничего существенного не показал. Вот некоторые данные по опросу военнопленного Низлера Игнаца, солдата 11 роты 359 пехотного полка, взятого в плен в районе дер. Троицкое.
Родился в Верхней Силезии, по национальности немец. До армии работал землекопом. В армию мобилизован в апреле 1942 года. На военной службе ранее не был, ввиду болезни ног.
В конце апреля самовольно ушел из 8-ой запасной роты связи в городе Метц. В начале мая решением суда направлен в первую штрафную роту в гор. Гермесхайм. В сентябре 1942 года первая рота работала в районе Смоленска, в Черном Яре и на дорожных работах в лесу. Участок леса, где они работали, усиленно охранялся.
С марта 43 года пленный лежал на лечении в Смоленском военном госпитале. В мае 43 года был зачислен в 11 роту 589 пех. полка, 217 пех. дивизии. Их использовали на строительстве оборонительных сооружений. Пленный заболел и ушел из роты в Ярцево. Его задержали и 26 августа вернули в 11 роту. 3-го сентября он сидел в окопе с двумя солдатами. Фамилии их он не знает. Они почти не разговаривали, так как находились под сильным огнем. Вечером он был взят в плен. Сопротивления не оказывал.
Язык ничего существенного на допросе не показал.
– В таком языке наши штабные теперь не нуждаются! – сказал я Рязанцеву.
– Какой он есть? Когда берешь! Знает он чего или нет? Наше дело взять языка! – процедил недовольно сквозь зубы Федор Федрыч.
– Я тебя не виню! Штабные скажут: – "Могли бы и не брать!"
Рязанцев со вздохом покачал головой. – Мы лезли на смерть! А в дивизии морду воротят!
– Ладно Федор Федрыч! Плюнь ты на все! Главное в том, что он нам без потерь обошелся! А языков нам с тобой все равно придется брать! Может и нам повезет! Попадется же, когда и нам толковый немец.

Мы идем по открытому полю, повсюду неровные изломы местности, невысокие холмы и овраги. Еще вчера здесь громыхали орудия всполохами света и дыма, летела земля. А сегодня вокруг мертвая тишина. Там сзади в низине Царевича и скатах высот, остались лежать наши товарищи. Мертвые никому не нужны, мертвые брошены.
Когда понемногу стреляют идти вперед спокойней и веселей. Видно откуда бьют из пулемета, где разорвался прилетевший снаряд? Где нужно быстро пройти, где сделать перебежку, а где, не обращая внимания, идти себе и идти.
Наступившая тишина толкает на размышления. Не могли же мы их всех перебить? Ни одного встречного выстрела, ни снаряда, ни пули.
Спустившись с высоты, мы вышли на дорогу и повернули вправо. Теперь мы шли на Духовщину. Мы идем по дороге и посматриваем вперед. Если взглянуть на карту, то все дороги здесь ведут в Духовщину. Дорог не так много, но все они сходятся в этом месте узлом. Странная привычка ходить по дорогам. Не раз войной научен и знаешь наперед, что встречные засады противник всегда устраивает именно на дорогах. Почему бы нам сейчас не свернуть в сторону и по полю пойти? Нет, же идешь по дороге! Тут легче и ровнее идти.
Впереди метрах в тридцати топает дозор. Рядом со мной, обычной манерой, в развалку, шагает Рязанцев. У него походка в перевалку. Он делает шаг и как будто приседает. Словом ни какой офицерской выправки, идет из стороны в сторону пошатываясь, по ней его издали хорошо видать.
Взгляни на любого солдата. Его сразу видно. Кто на войне по мобилизации, а кто успел в кадровой послужить. Вон идет Матвей. У него ремень висит на боку, оттянут до самой ширинки, гимнастерка и сзади и спереди в зборочку.
По дороге идти легко. Пыль слегка под ногами клубится. Некоторые из солдат притаптывают, вспоминая детство. Вспомнили, как это они дели в детстве, поднимая пыль, бегая по дороге босыми.
Мы уходим все дальше от высоты. Я поглядываю вперед в надежде теперь поближе увидеть Духовщину. Но ее нигде не видно. Она находиться где-то рядом за невысоким бугром.
Мы двигаемся по дороге. Пока все тихо. Меня это несколько тревожит. Хуже всего пребывать в неизвестности.
Дорога спускается вниз. Мы входим в ложбину. Справа небольшое болото и бурого цвета высокая трава. С каждой сотней шагов мы приближаемся к Духовщине. Вот перекресток. Две дороги сливаются в одну. Мы сходим с дороги и спускаемся в пологий овраг. Впереди пруд не пруд, какая-то заводина.

Вскидываю к глазам бинокль, левее дороги, метрах в трехстах вижу до роты немецких солдат, стоят фронтом к нам в виде длинной цепочки. В руках у каждого саперная лопата. Офицер стоит перед ними, махает руками и о чем-то говорит. Вот он отошел на фланг. Солдаты вскинули лопаты, начинают окапываться. В бинокль видно, как мелькает перед ними земля.
Немцы по-видимому решили, что мы будем обходить Духовщину стороной. На перекрестке дорог одиночный окоп. Я показываю Рязанцеву в сторону города. Рязанцев сворачивает в высокую траву и уходит в сторону Духовшины. Я спрыгиваю в окоп, поднимаю бинокль и смотрю на немцев. Мне нужно понять, не хотят ли они ударить нам с тыла. Почему они отошли от Духовщины и окапываются в стороне? Осматриваюсь внимательно кругом, больше нигде немцев не видно. Они видно решили, что наше командование будет брать город в обход. Но наши не дураки. По военной науке в обход идти и не думают. У командира полка одно желание. Первым ворваться в город и доложить об этом в дивизию.
48-ой полк где-то справа и сзади идет. Если наши замешкаются, то в город войдет первым Каверин. А этого мы никак не можем допустить.
Рязанцев спустился вниз, подошел к окраине города и залег в высокой траве. Я его не тороплю, и он не рвется в город. Напороться на пули проще всего.
Рязанцев зря не полезет. Каждый на войне хочет жить. А вот у командира полка руки чешутся. Он под пули не лезет, он по телефону покрикивает на нас.
Ради чего собственно торопится? Никуда она не денется! Теперь она наша! Ни Рязанцеву, ни мне, ни ребятам на тот свет торопиться нет никакой охоты. Нам нужно этот день закончить. Дожить до темноты. А когда стемнеет, мы войдем в город без выстрела. Никому не охота при свете свой лоб подставлять. Дали бы пару танков! Можно бы и днем в город рвануть!
Но вот из-за города со Смоленской дороги заблеял шестиствольный немецкий миномет. По звуку слышу, мины идут в мою сторону. Приставляю к глазам бинокль. Вижу всполохи дыма. Через несколько секунд вокруг меня вскипают разрывы. Один залп за другим, летит в мою сторону.
Пора! Нужно уходить из этого окопа! – решаю я.
Выбираюсь на поверхность земли, пригибаюсь и бегу по высокой траве, перескакиваю через кочки. Разведчики за собой оставили след в траве. Вот поворот следа в примятой траве, еще несколько шагов и я в не большом овражке, где лежат разведчики.
Через некоторое время к нам из тыла подходит рота солдат. В роте человек двадцать и нас около пятнадцати. Связисты за ротой тянут телефонный провод.

Как только катушку с проводом подмотали до меня, телефонист подключил аппарат, воткнул в землю штырь заземления, два – три поворота ручки и по телефону я слышу раздраженный голос нашего командира полка.
– Где ты находишься?
– На окраине города!
– Почему залегли? Немедленно в город! Через десять минут мне из города доложить! Возьмешь батальон и с ним войдешь в город!
– Какой батальон? Рота, не рота, а взвод! Двадцать солдат!
– Двадцать стрелков, да твоих полтора десятка разведчиков! С меня шкуру дерут! А он там лежит! Ты мне дурочку не крути! Через час доложишь, что ты на западной окраине города!
До города мне минут десять идти. После разгона по телефону у меня пробуждается сознание, я поднимаю разведчиков и роту солдат.
– Пусти троих по канаве вдоль дороги, мы с остальными цепью следом пойдем, – отдаю я команду Рязанцеву.
Рязанцев назвал три фамилии, группа поднялась и быстро ушла вперед. Мы идем, пригнувшись по траве, справа от дороги. Справа около дороги два деревянных домика. А дальше, как бы фоном над ними возвышается красное кирпичное здание в два этажа. Здание старое. Стены из красного кирпича. Крыша крыта железом. Такую старую кладку снарядом с прямого выстрела не разобьешь.
Я смотрю на низкий деревянный дом, стоящий у самой дороги. Дом, как дом. Больше похож на крестьянскую избу. Крыша на доме из позеленевшей дранки. В сторону дороги смотрит чердак. Темный провал чердачного окна, как беззубая пасть дряхлой старухи. Позади дома жердевая ограда. И осматриваю дом, потому что именно из него может полоснуть первый неожиданный выстрел. Попадись на глаза сейчас такая постройка, на неё и не взглянул. Но когда из-за угла в тебя может сверкнуть первый смертельный выстрел, невольно запомнишь его на всю жизнь. За домом забор из сухих жердей. Сквозь них просвечивается побуревшая растительность огорода.
Я хочу уловить, какое ни будь движение. Немец без движения долго не просидит. За забором и на чердаке по-прежнему все недвижимо и тихо.
Смотрю на дорогу. Вижу, головная группа выходит из канавы и броском перебегает через дорогу. Встречных выстрелов нет.
Двое разведчиков стоят у стены. Один поднимается на крыльцо и осматривает дверь. Дверь наверно на висячем замке, потому что солдат нагибается и что-то трогает руками. По всему, в доме нет никого.

Солдат поворачивается, осторожно спускается по ступенькам на землю, прижимается спиной к бревенчатой стене и подвигаясь медленно боком, исчезает за углом избы. Двое оставшихся у стены о чем-то переговариваются. Один из них поднимает руку, подает нам сигнал, что путь в город свободен. Мы разгибаем плечи и подходим к дому. Дозорная группа закончила свою работу.
Я посылаю других по два, по три в разные стороны. Дозорная группа остаётся в резерве. Это не важно, что при подходе к дому в них не стреляли немцы. Важно, что каждый их шаг был соизмерим смертельной тоской. Страшна не сама смерть! Страшно ожидание!
Пехота лежит у забора. Рязанцев сидит на крыльце. Он снял сапоги, размотал сбившиеся портянки и ковыряет между пальцами.
– Ноги потер? – спрашиваю, я его.
– Нет! Камушки, да песок!
Он не волнуется. Спокойно вытряхивает портянки, наматывает их кульком и надевает сапоги. Он не торопится идти вперед. Он прекрасно знает наши правила. Всем сразу не следует соваться вперед. Я подхожу к нему. Он отодвигается, освобождая мне место. Я сажусь на крыльцо. Мы закуриваем, ждем, когда группы разведчиков вернутся и доложат обстановку.
– У меня такое впечатление, что в городе нет ни кого! – говорю я Рязанцеву.
– Немцы оставили Духовщину по-видимому днем или даже утром!
Я достаю вторую сигарету и прикуриваю.
– Тебе Федь нужно пойти самому и осмотреть вон ту группу домов. Выбери из них один, для нас на ночь! Чтоб был прикрыт со всех сторон! Как только найдешь, пошлешь связного! Передай всем ребятам, что это будет наше временное КП. Пусть займут оборону в пределах двадцати метров. А пехоту выведи на западную окраину. Пусть займут там для обороны рубеж. По городу не ходить! По домам не лазить! С востока к городу может подойти наш 48 гвардейский полк. Будьте внимательны! Не перестреляйте друг друга. Сюда их не пускать! Пусть обходят город той стороной, с севера.
Рязанцев забрал с собой нескольких ребят и пошел осматривать постройки.
Справа около крыльца стоит бочка залитая водой. На двери висит большой ржавый замок. Дверь перепоясана железной поперечной накладной. Дом, не склад, на магазин тоже не похож. На магазинах обычно вывески прибиты. Сбоку у крыльца валяется старая ржавая борона и разбитая кринка. Трудно сказать, когда в этом доме жили живые люди.
Не успел я докурить сигарету, а от Рязанцева уже бежит связной.
– Товарищ гвардии капитан! Рязанцев вас просит туда скорей. Там пленного взяли.

Я поднимаюсь с крыльца и иду за разведчиком. У двери приземистого дома стоит часовой. Рязанцев успел уже выставить. Разведчик встречает меня приветствует и улыбается. Может, именно он захватил здесь пленного. Я захожу в открытую дверь избы. Небольшие скрипучие и темные сени. Дальше внутренность избы в четыре бревна, железная кровать в углу с грязным тюфяком, набитым соломой. В комнате душно, темно и сыро. Прищуриваю глаза, чтоб быстрее отвыкнуть от света. Осматриваю стены. В стене два окна. Одно из них заколочено наглухо и забито тряпьем и соломой. Другое, забито досками наполовину. Свет с улицы проникает через стекло на верху. В углу между стен стол и две деревянные лавки. Над лавками образа и закопченного цвета иконы. Мои глаза постепенно привыкают к темноте.
На лавке, закинув, ногу на ногу сидит Федор Федрыч. У него в руке бутылка немецкого шнапса. Он приставляет горло ко рту и закидывает голову назад. На другой лавке рядом сидит немец с поднятыми руками.
Рязанцев жалуется, спрашиваю немца:
– Вифиль сольдатен Духовщина? Молчит!
– Фамилию спрашиваю, тоже молчит.
Я поворачиваюсь к немцу и задаю ему несколько вопросов. Немец молчит.
– Может, он сильно контужен? Что-то он смотрит косо, и сморщился как гриб лафертовский? Где вы его взяли?
– А здесь, на соломе лежал!
– Вы его обыскали?
– А как же! Вот я у него не распечатанную со стола взял!
– Оружие где?
– Вон винтовка у порога стоит!
– А карманы осмотрели?
– Нет, еще не успели!
Солдат приблизился к немцу, нагнулся, хотел обшарить карманы ему, но тут же без видимой причины попятился назад и прикрыл лицо рукой.
– Товарищ гвардии капитан!
– Ну что еще там?
– К нему приблизиться невозможно! Он, как говориться, со страху в штаны наложил.
Я повел носом. И действительно! Из угла, где немец сидел вдруг понесло, как из сортира. Дыхнуть было нечем. В нос словно ударили молотком.
– Исключительно редкий случай! – сказал кто-то из разведчиков.
Между прочим, вся война, это вонь живых и гниющих трупов! – подумал я.
– На, запей! – сказал Рязанцев и протянул мне недопитую бутылку.
Рязанцев даже не тронулся с места. Ему эта вонь теперь до фонаря! Он привстал, протянул мне бутылку и снова плюхнулся на лавку. А немец тем временем сидел на лавке, порывисто дышал и озирался по сторонам.

Я велел солдату подойти и опустить ему руки. Теперь он держался за штаны и дрожал всем телом.
– Выведи его на улицу! Пусть там за ним присмотрят!
– У него, небось, полные сапоги? – сказал солдат и засмеялся.
В это время в дверях послышался зычный голос нашего полкового.
– Где капитан? Почему забились в избу? Почему не идете вперед? Я тебя спрашиваю!
– А куда, собственно я должен идти? У меня задача войти в город и занять оборону! Стрелковая рота, как вы приказали, оседлала дорогу на западной окраине города.
– А, что у вас тут за вонь?
– Вот пленный со страху в штаны наложил!
– Какой еще тут пленный? Отправьте его с сопровождающими в дивизию! Что он тут у вас, вонь распустил? Тащи его отсюда! И так дышать нечем!
Я ребятам говорю:
– Там около дома бочка с водой, пусть обмоется у бочки!
– Пусть в дивизию волокут в обгаженном виде! – обрывает меня майор.
– Пусть понюхают и они. Им там все равно делать нечего!
Я поднимаюсь с лавки и выхожу наружу.
– Ты куда капитан?
– На улицу!
– Подожди! Я с тобой пойду!
Телефонисты уже размотали связь и соединились с дивизией. Вслед за командиром полка на окраину города пришла еще одна неполная рота. Солдаты потоптались на месте и уселись вдоль забора на дороге.
Я отошел в сторону, сел на подоконник раскрытого настежь окна, командир полка о чем-то говорил с командиром прибывшей роты.
– Кузьма! Сходи, узнай! Чего они там, у бочки толкутся на месте?
Кузьма быстро сбегал и вернулся назад.
– Никто не хочет вести обгаженного немца в дивизию! Говорят, засмеют тыловики!
– Сбегай на окраину в роту. Скажи, что я послал. Пусть дадут двух солдат для сопровождения пленного в дивизию. Там любители сразу найдутся!
Майор отошел от роты и направился ко мне.
– Расскажи, как было дело!
Я рассказал, что мы без выстрела вошли на окраину и осмотрели ближайшие дома. Немцев в городе не оказалось за исключение этого.
Командир полка пошел к телефону и стал докладывать в дивизию о том, что город взят.

– Ты должен быть здесь! Никуда не отлучатся! Я должен поехать в дивизию и подробно доложить обо всем. Остаешься здесь за меня!
А я подумал:
– На кой черт ты мне сдался? Мне нужно выспаться до утра. По дорогам на Смоленск путь предстоит не легкий. С рассветом он же сам пошлет меня вперёд на разведку. А это, мол, остался за меня! Пусть думает что хочет! У меня на этот счет свои соображения.
– Позови мне Рязанцева! – сказал я Кузьме.
К этому времени Рязанцев с разведчиками сумел обойти всю западную окраину города. Да и город сам оказался не большой.
– Вот что Федор Федрыч! Нам завтра с утра предстоит серьезная работа. К утру с пехотой разберутся и нас с тобой пустят по дороге вперед. Собери всех разведчиков, выбери место открытое, выстави смену часовых и заваливайтесь спать!
На рассвете часовые меня разбудили. Я велел поднимать разведчиков и осмотрелся кругом. Небольшая площадь. Справа кирпичный двух этажный дом. Тот самый единственный, который я увидел тогда в Духовшине. Теперь в этом доме РОНО. Чуть дальше, левее дома на площади мы увидели бомбоубежище. Два наклонных лаза уходили с двух сторон под землю.
– Глубина метров пятнадцать!
– Тут наверно их генералы сидели?
– В бункер ребята спускались? – спросил я Кузьму.
– Спускались!
– Он не заминирован?
– Нет!
– А кто проверял?
– Никто не проверял! Вон в тот лаз спустились, а из другого вылезли!
– А что там внизу?
– Бумажки всякие валяются. А так ничего!
– Вас к телефону требуют! – сказал прибежавший солдат.
Я вернулся назад. На проводе был майор, наш командир полка.
– По дороге на Холм, Бельково, Мошна отправишь головной походный отряд, группу разведчиков с командиром взвода и два десятка стрелков солдат. Командир батальона соответствующие указания от меня получил, он следует за головной заставой с батальоном. Ты с остальными разведчиками будешь пока в резерве. Я нахожусь в дивизии. К тебе в город приедет начальник штаба Денисов. Дальнейшие распоряжения будешь получать от него.
Рязанцев ушел вперед. Я остался поджидать майора Денисова. Кузьма сбегал к генеральскому бункеру, ему не сиделось на месте.

О бункере можно добавить еще. Бревенчатый лаз имеет наклон градусов тридцать. Ступеньками служат обтесанные толстые бревна. Они по всему лазу уложены венцом в колоду. Бревенчатый лаз, как колодец уходит наклонно вниз. Бревна между собой укреплены стальными скобами. Бревна толстые, очищенные от коры. Чем ниже туда спускаешься, тем прохладнее становиться, а в низу отдает холодком. Внизу узкий рубленый коридор. Потолок, пол и стены срублены одной колодой. В конце коридора под прямым углом, второй наклонный лаз. Справа около стены в круглых бревнах сделаны плоские ступеньки.
– Вот где спускался и поднимался ихний экселенц! – пояснил мне Кузьма.
Забегая вперед, скажу, что в Смоленске, в районе Черного Яра был построен железобетонный блиндаж. Штабной бункер имел прямую связь с Берлином и был связан с деревянным бункером в Духовщине. Духовщина была последним опорным пунктом Восточного вала немецкой обороны.
Вижу, по дороге из нашего тыла едут два всадника и повозка. За повозкой, как на похоронах, идет до взвода солдат стрелков, это остатки второго батальона.
Я поднимаюсь с земли, выхожу на дорогу, стою, смотрю в сторону идущих и жду. Увидев меня, всадники от повозки отрываются и, поднимая пыль по дороге, скачут на меня. Начальник штаба полка майор Денисов подъезжает ко мне.

Я смотрю на лошадей. Когда-то они принадлежали взводу конной разведке. Перед выходом к Царевичу лошадей у нас отобрали и раздали по полкам. Это было тогда, когда артиллеристы зашли в овраг и попали там под бомбежку. После бомбежки в овраге потрепанные артиллерийские упряжки и обозы остались без лошадей. Остались на бобах, без конной тяги. Пушки, снарядные ящики и барахло не на чем было вести. Командир дивизии приказал ликвидировать в полках взвода конной разведки. И по приказу дивизии у нас отобрали лошадей.
– Хватит трясти зады! – пояснил мне содержание приказа командир полка.
– По штату полка, нам положен взвод пешей разведки. Вот ногами по земле и топайте! С каким удовольствием артиллеристы и обозные похаживали вокруг наших ухоженных лошадей, похлопывали их по бокам, оттягивали им губы, заглядывали им в рот, били кулаком под живот, как на конных торгах. Некоторые из обозников подходили к морде лошади, совали ей сенца, а она, сытая и ухоженная, отворачивала от него свою морду. Лошади наши не то, что в обозах заезженные и клячи. Представители были рады. Но с какой грустью каждый из наших солдат, кто кормил их и чистил, расставался с другом. Лошади чувствовали это, вертели глазами, переступали с ноги на ногу, но ничего нельзя было сделать. На войне прикажут – ты снимешь с себя сапоги и шинель. Лошади этого не понимали. А у нас в душе творилось необъяснимое.

Начальник штаба сумел отвоевать себе двух верховых лошадей. Теперь эти лошади разведке не принадлежали.
За штабной повозкой майора по дороге в город тянется полковой обоз.
Я посмотрел вдоль обоза, почесал в затылке, посмотрел на майора и сказал:
– Воевать в пехоте не кому, а обозников в полку сотни две без дела торчат!
– Бери у моего вестового лошадь! – сказал майор,
– Тебе придется с головной заставой связь держать! Маршрут движения ты знаешь! Будешь меня в курсе дола держать!
Я сел в седло, а Кузьме велел следовать в обозной колонне вместе с ребятами. Я отъехал немного и обернулся назад. А он стоял на дороге и смотрел мне в след. Он, как будто чувствовал, что в последний раз мы видим друг друга.
Мы уходили на юго-запад. Больше я Кузьмы не видал.
* * *

– курсивом выделен зачеркнутый текст
Глава 32 Через Духовщину на Смоленск
27.09.1983 (правка)
Сентябрь 1943

13 сентября 1943 года город Духовщина была освобождена. Духовщину брал 5-ый Гвардейский стрелковый корпус 39 армии. В 5-ый гв.стр. корпус входили: 17 гв.с.д., 9 гв.с.д. и 19 гв.с.д. Вместе с 5-ым гвардейским корпусом на Духовщину наступали: 184 с.д., 178 с.д., 28 гв.танковая бригада, 11-ый тяжелый 203-й танковый полк, 21 арт.дивизия, 46-я мех.бригада.
Все эти части и соединения вели бои на подступах к городу, прорывая, так называемый "Восточный Вал" обороны противника. Бои были тяжелыми, потери были огромные с той и с другой стороны.
Когда полковая разведка и стрелковая рота нашего полка ночью накануне вошли на центральную площадь Духовщины, в городе было тихо. Штурма города, как такового, не было. Все оборонительные рубежи немцев остались позади.


На следующий день по дороге в освобожденную Духовшину стали стекаться остатки стрелковых рот, которые по разным причинам отстали ночью в пути и задержались на рубежах. Это были уже не роты в сотню солдат, а небольшие группы числом до двадцати, которые уцелели в боях на Царевиче и на подступах к Духовшине. Не везде и подряд была взрыта и вспахана земля, где кругом с воем и скрежетом падали и рвались бомбы, снаряды и мины. Не везде всё живое превратилось в мертвое. Где-то между свежих воронок, среди истерзанной взрывами поверхности земли остались нетронутые участки и клочки земли, уцелели отдельные солдатские окопы с живыми людьми. Не все были убиты. Мертвые оставляют после себя и живых.
По Духовщинской дороге двигались небольшие группы солдат. Они шли медленно и молча, без особого желания подвигаясь вперед. В город они не спешили. Солдаты знали, что в полку их осталось мало, что привала им в городе не будет, соберут в одну-две роты, зачитают приказ и пустят вперед. И пойдут они снова без отдыха и сна по дорогам преследовать немцев. Вот такая, она, солдатская жизнь!
А следом за ними, тарахтя, обгоняя и пыля по дороге, в город катили полковые с пушками и обозные тылы.
– Эй! С дороги прими! Берегись! Зашибу! – кричали горластые ездовые. Погоняя и нахлестывая лошадей, они явно в город спешили.
Посмотришь на них. Они как одержимые! Можно подумать, что в городе при въезде на площадь всем кто успел, подносили порцию водки и на грудь цепляли медали и ордена.
Тыловики расторопный народ. Не то, что пехота. Потом, какой ни будь скажет из них:
– Чаво? Духовщину кто брал? Мы первые заехали туды, раньше пехоты!
На узкой кривой дороге при въезде на площадь встретились солдаты окопники и тыловая братия полка.
Солдаты окопники вышли из пекла, выглядели усталыми, измотанными и почерневшими. Лица землистого цвета осунулись, глаза провалились, под глазами висели мешки. Даже у молодых солдат вокруг глаз и рта появились морщины и глубокие складки, в них въелась болотная грязь и гарь земли.
А эти полковые из тыловой братии, проворные и мордастые, торопливо приехавшие – деловито слезали с передков и телег, шарили вокруг глазами, где бы им поудобней на ночь устроиться, махали руками и галдели, как на базаре.
Окопники в город вошли молча. Они в боях на подступах к городу надорвались, выдохлись и обессилили. Они вышли на площадь, сели вдоль забора и закрыли глаза. На лицах у них была тревога и смертельная тоска.

А эти тыловые, шустрые и проворные, распаленные быстрой ездой, по дороге, по пыли и жаре, снимали с себя картузы и каски, вытирали рукавами потные лбы и улыбались, они были рады.
– Наконец-то! Мать твою в дышло, до мощеной дороги добрались!
На войне, как у всех. Каждому – свое! Кому свинцовые проблески в грудь где-то там впереди. А кому мощеная камушком дорога! Хоть она уложена камушком за городом версты на две, на три.
Через некоторое время на площади появился начальник штаба верхом на коне. Он легко спрыгнул на землю, огляделся кругом, показал рукой в сторону забора на спящих солдат и велел их поднимать.
Солдат набралось около сотни. Их отогнали с криками от забора, построили на дороге, разбили на две роты, назначили ротных офицеров и приказали идти. Роты двинулись вперед на выход из города. Начальник штаба поднялся в седло и подался к обозникам.
Обычно первые сутки длительного перехода для солдат бывают тяжелыми. Потом они разойдутся, втянутся в непрерывный ход, дорога полегчает, спины у них разогнутся.
И вот после жары на небе появились рваные облака и тучи. Дунул порывистый ветер и заморосил холодный дождь. Мощеный участок дороги быстро кончился. Дорога размякла и покрылась водой. Полковые обозы застряли. Роты остались без хлеба и мучной похлебки на несколько дней.
– Курево вышло! – жаловались солдаты,
– Хоть голосом кричи!
Солдатам, им что? Им осенние дороги, лужи, грязь и распутица… Им всё по колен! Видно пришла пара ветрам, дождям и непогоде! Солдаты стрелки, скользя и разъезжаясь по грязи, молча заходят в лужи. Идут они не торопятся. Угрюмо поглядывая вперед.
От деревни Холм мы свернули направо, обошли Мошну стороной. А деревня Бельково осталась где-то справа. Около Башкевичи мы перешли насыпь недостроенного пути. Мы думали, что здесь на рубеже нас остановят и обстреляют немцы. Но немцев и за насыпью не оказалось. Взяв общее направление на Сыро-Липки мы тихо и не торопясь, подвигались вперед. Мутные лужи и грязь, серая обочина дороги медленно уходит назад.
При подходе к Самодурово нас обстреляли. Немцы здесь встали на промежуточный рубеж. Стрельбы особой не было. Так постреляли для виду, чтоб мы на них не особенно лезли. Солдаты поняли всё и сразу залегли.
– Чего лежим? – спрашиваю я,
– Может, обойдем их, где справа или слева?
– Так нет приказу! Товарищ капитан! А без приказу, кому охота лезть живьем в могилу!

На ночь я устроился спать в какой-то сырой канаве. Солдаты лежали чуть выше по скату, а ноги у них болтались в воде. Кой где, меж торчащих кустов и травы, видны были темные согнутые спины часовых.
Я увидел ротного лежащего на земле, подошел к нему вплотную, нагнулся, заглянул ему в лицо и спросил:
– Пулемет поставил? Как я тебе говорил!
– Какой? Станковый?
– Да, да! Тот самый станковый "Максим", который англичане в 1893 году впервые применили в Родезии. Слыхал такую песню? Трансвальд, Трансвальд страна моя! Ты вся горишь в огне!…
– Всё сделано гвардии капитан! Ложись, отдохни до утра! А то утром снова начнется!
Я постоял, посмотрел ещё раз кругом. Небо, ещё больше потемнело. Ни малейшего движения кругом. Ни ветра, ни выстрелов, листва не колышется! Часовые молча посматривали на небо.
Я прилег на землю. От сырости и озноба по всему телу прошла какая-то дрожь. Но стоило мне закрыть глаза, как я тут же заснул.
Утром, не открывая глаз, я на слух уловил шуршание дождя и отдаленные выстрелы. Нужно вставать, подумал я и разбудить ротного.
Не поднимая головы, я протянул руку, хотел его за плечо потрясти, но рука моя коснулась земли. Ротного на месте не было.
Я поднял голову и увидел его. Исхудалый и с осунувшимся лицом он стоял в воде по середине канавы, молча моргал глазами и смотрел куда-то вперед.
Я поднялся чуть выше на край канавы, достал полевой бинокль и решил посмотреть вперёд. Но во время дождя, когда летят мелкие капли, в бинокль впереди ничего не видать. Оторвав бинокль от глаз, я стал различать неясные очертания кустов и травы и две, три рогатины от проволочного заграждения. На фоне темного куста отчетливо видны тонкие струи мелкого дождя, летящего сверху. А чуть в сторону, где нет темного фона, они пропадают и становятся размытыми.
Над немецким передним краем появляются осветительные ракеты. Немцы пускают их сразу по две. Они, как неясные призраки вспыхивают в туманной, серой пелене дождя.
Интересно! Зачем они их бросают? Что они при этом увидят? Я смотрю на свет летящей ракеты, она неясным, туманным пятном всплывает сначала вверх, повисает на некоторое время, и так же медленно опускается вниз. Туманное ее пятно поднялось и опустилось. Траектории его не видно. Оно привлекло на короткое время к себе наше внимание, а над землей, все та же белая пелена дождя. Мерцание света летящей ракеты казалось, только еще больше сплюснуло вокруг себя пространство.

Когда туман или дождь сверху подсвечивается ракетой, то он становится еще гуще и плотней.
У немцев на промежуточном рубеже отрыты в полный профиль траншеи. Я представлю, как во время дождя стенки их траншеи начинают ползти и оживают. От них начинает отваливаться глина и земля. Размокшие куски падают в воду, издают шлепки и удары. А некоторые, что совсем размякли, сползают со стен без всплеска и без удара. Еще день, два такого дождя и немецкая траншея превратиться в сточную канаву. Из нее и сейчас начинают выбираться наверх немцы. Лучше лежать в неглубокой воронке, в мутной воде, чем стоять в густой тягучей жиже.
Они видно попытаются сделать прокопы в передней стенке траншеи. Рыть землю легко, отбрасывать не надо. Капнул слегка лопатой, она сама сползает вниз. Но прокоп тоже водой заливает. Тут только смотри, вместе с передней стенкой траншеи в воду сползешь.
Льет мелкий дождь. Солдаты, как крабы карабкаются кверху, лезут вперед от воды. Немцы не выдержат, так долго. Они не привыкли ногами глину месить.
Представляю! Мутные потоки воды со всех сторон стекают в немецкую траншею. Беловатая пена и пузыри кривыми полосами ползут по поверхности воды и расходится вдоль траншеи. Уровень воды с каждым часом все выше. Ногой никуда не ступи. Здесь покален, а там еще глубже. Снаряды не страшны. Они будут чмокать, уткнувшись в землю. А если и будет случайный взрыв, то из жижи и грязи булькнет облако дыма, а осколки останутся на дне.
За три года войны я испытал это не раз. Да и какой дурак, в такую погоду будет портить снаряды? Все прячутся и гнутся к земле. Солдатские блиндажи заливает.
Сейчас утро. На небе светло. А что будет ночью? Если днем непроглядная мгла стоит перед глазами. Если днем пелена серого дождя закрыла все видимое пространство. Ночью в двух шагах ни черта не будет видать.
Наши солдаты вылезли из канавы и расползлись по буграм. С бугорка вода скатывается быстрей.
Сейчас они расползлись и их не видать. А ночью пойди, ни одного их не найдешь. Кричать на переднем крае не станешь. Здесь говорят меж собой тихо. Чтобы слышно было, из-за шума дождя, притыкаются касками. Смотришь на них, вроде бодают друг друга.
– Ну что лейтенант, пошли под кусты! Там вроде повыше!
Мы вышли из канавы и подались вперед. Плащ-палатка набухла. Дождь стучит по ней, как по фанере. Подходим к кусту, ложусь на бок, стягиваю бечевкой капюшон на голове, ниже подбородка оставляю дырку. Через неё видать землю, через неё я дышу. Бока и колени укрыты палаткой, сапоги торчат с наружи.

Бока укрыты, колени тоже под плащ-палаткой, сапоги торчат под дождем. Где-то опять ударили взрывы.
Телефонной связи у нас с полком нет. Да и попробуй в этой пелене дождя нас найти. Определи, где ты находишься. Глазом не за что зацепиться. Довольно легко с направления в сторону уйти. Уйдешь, куда ни будь и будешь крутиться. В такую погоду мозги не работают.
На следующий день погода вроде наладилась. Утром серый рассвет ползет за спиной, солнце стало пробиваться на востоке. За мной из полка прислали связного.
– Далеко до штаба? – спросил я солдата.
– Не так далеча! – ответил он,
– Часа три хода пеший будет!
Я попрощался с лейтенантом, пожелал ему успехов в ратных делах и мы пошли назад по открытому полю дорогу искать.
В штабе полка по распоряжению начальника штаба мне подвели оседланную лошадь. Оттянув ей губу, я посмотрел ей на зубы. Лошаденка была не старая. На зеленых кормах за лето отъелась. Костлявых боков не видать. На первый взгляд не заезженная кобылка. Попробовал ее на ходу. Пустишь рысью, на шаг ногу не тянет, идет под седлом спокойно и ровно.
Два дня я не вылезал из седла. По ночам меня посылали в роты. Я ездил искать дорогу в объезд. Я день и ночь мотался по дорогам, выполняя одно поручение за другим.
Немцы с промежуточного рубежа отошли. Наши передовые роты были на марше, преследуя немцев. Иногда головные заставы соседних полков сходились, где ни будь на дороге, принимали друг друга за противника и открывали стрельбу. Потом, после непродолжительной перестрелки солдаты узнавали, что бьют по своим и стрельбу прекращали. Но все дело пока кончалось только пальбой. Пострадавших среди солдат не было. Наш маршрут лежал по Смоленским дорогам.
Теперь на нашем пути стали попадаться обжитые деревни. В одной из деревень на нас глазели бабы, ребятишки и молчаливые старики. Бабы молча не могут стоять. У баб внутри всегда подмывает.
– Вон, та шлюха, с зелеными наличниками! Она с ихнем офицером жила!
– А эта! Вон та! Что стоит у калитки, у них в прислугах работала!
– А та, вон из-под занавески выглядывает! В Германию ездила!
– А это чей дом?
– Это дом полицая! Это его ребятишки у забора стоят!
Мы постояли, поговорили и тронулись дальше. А бабы, удивились.

– Придут наши особисты, они с ними разберутся!
– А какие они есть?
– Чистенькие, побритые, на лицо мордастые, смеемся мы.
– Как только явятся в деревню, сразу узнаете!
Сегодня мы сменили стрелковую роту. Она двое суток шла в головной заставе полка. Накануне она случайно сошла в сторону с указанного маршрута и потеряла связь со штабом полка. Штаб был уверен, что впереди идет охранение, а оказалось, что на дороге нет никого. Целая рота исчезла с дороги.
Меня верхом послали ее искать. Я проскакал вперед, влево и вправо несколько километров и никого не нашел. Я прошел рысью еще пару километров вперед, роты нигде не было, она как сквозь землю провалилась. Ни роты, ни немцев на дороге не оказалось. Мне нужно было вернуться назад или остаться на месте. С дороги нельзя мне было сойти.
Часа через два я сзади услышал голоса. Это были солдаты нашего полка. Я остановил их, велел выставить охранение, сказал, что впереди нет никого. Роту остановили. А в головную заставу назначили разведчиков. Я оставил лошадь в обозе и пошел с разведчиками вперед пешком.
Мы шли по дороге, назад уплывали кусты и поля. Бывают моменты, когда на местность не обращаешь внимания. Всё надоело. Всё однообразно и одинаково.
Как-то к вечеру поперек нашей дороги появилась насыпь. Я посмотрел на нее, огляделся по сторонам и подумал, странное дело. Кругом одно и тоже, кусты и поля, а здесь какая-то насыпь, уходящая вправо и влево. Мы останавливаемся и озираемся вокруг. Мне даже в голову не пришло достать карту и определить место стояния на местности. Об этом я подумал потом, когда мы забрались на насыпь.
Медленно поднимаемся на нее, перед нами дорога, покрытая асфальтом.
– Вот это да! Мы дошли до Минского шоссе.
Солдаты вступили на шоссе и рады как дети. Сколько нужно было пройти по дорогам войны, чтобы ногами ступить первый раз на асфальтовое покрытие. Наконец-то мы вылезли из трясины и из грязи покален! Солдаты выходят на шоссе и по очереди отбивают перепляс. Какое-то новое чувство у каждого на душе. Наконец-то и мы стоим ногами на твердой земле. У нас и походка для такого покрытия не годится. Мы привыкли шаркать ногами по глине и мутной воде, а тут что ни шаг, то удар подметками о твердь. Так можно и ноги себе отбить!

Оглядываюсь вперед и назад – на шоссе ни души, ни малейшего движения. Мы и о немцах совсем забыли. Я посылаю трех разведчиков пройти вперед по шоссе и выйти на бугор. Мы будем ждать своих, когда подойдут полковые. Мне нужно получить маршрут, в каком направлении двигаться с разведкой.
– Передай ребятам, -говорю я Рязанцеву,
– До подхода наших объявляю привал.
Я присаживаюсь на бровку, достаю сигарету и смотрю на небо. Не будет ли дождя? Темно-серые облака лохмотьями низко плывут над землею.
Через некоторое время на шоссе появляется связной из штаба. Мне приказано двигаться по шоссе до наступления ночи. Я поднимаю разведчиков и мы уходим вперед.
На одном из переходов, при обходе разбитого моста головная застава напоролась на мины. Одного разведчика убило, двоих ранило. Я приказал прекратить движение, оставаться на месте до утра.
Утром меня вызвали в штаб.
– По нашим сведениям, – сказал мне начальник штаба Денисов,
– Головная застава 48 полка находится у нас впереди и идет по дороге на Рудню.
– Откуда у вас такие данные? – спросил я его.
– Квашнину доложили, что Каверин сообщил ему об этом.
– Как далеко они впереди нас находятся?
– Я запрашивал дивизию. Никто точно сказать не может.
– Каверин? Это тот капитан, которого Квашнин привез с собой в дивизию?
– Тот самый.
– И теперь он что? Командир 48-го полка?
– Не теперь, а с самой Духовщины.
– Так это он докладывал тогда, что 48 полк ворвался первым в Духовшину?
– Ну и дела! И опять он впереди?
– Вот ты поедешь и выяснишь!
– А чего выяснять? Мы при подходе к мосту напоролись на мины. Впереди нас не было никого.
– Ты возьмешь лошадь и поедешь вот здесь в объезд, по проселочной дороге!
И начальник штаба показал мне по карте, где я должен был ехать и где предполагал он находиться 48-ой полк.
У меня мелькнуло тогда в голове, почему я должен ехать в одиночку. А вдруг никакого сорок восьмого впереди вовсе нет? Но, эта мысль на мгновение появилась и тут же исчезла. Уж очень уверенно начальник штаба говорил о месте нахождения 48-го полка.
А может, действительно солдаты сорок восьмого полка где-то идут впереди? Свои сомнения я не стал выкладывать начальнику штаба. Поживём – увидим! решил я.

Наш штаб всегда теперь на ночь останавливался, в какой ни будь деревне. И на этот раз он стоял в небольшой деревне, на опушке леса в стороне от дороги на Рудню. По мере продвижения стрелковых рот вперед, он каждый раз к вечеру занимал на несколько дней новое место.
Ночью в роты давали проволочную связь, штаб запрашивал данные и отчитывался перед дивизией.
Я оседлал лошадь и выехал из деревни. К вечеру сильно похолодало, трава побелела, деревья и кусты покрылись инеем. На белом фоне поля ночью лошадь и всадника видно с большого расстояния. Я на это и рассчитывал. Увижу солдат метров за триста, и немцы и наши примут меня за своего. Кто будет, в открытую, ехать ночью по полю? Ну, а если нарвусь на выстрелы, то ночью человека точно на мушку вряд ли можно взять. Можно будет в первый же момент уйти галопом, куда ни будь в сторону. Рассуждать легко. Предполагать можно всякое. А на деле получается все иначе и по-другому. Важно настроить себя на спокойный лад, рассеять сомнения и вселить уверенность. А как будет на месте – посмотрим!
По дороге я не поехал. Дорога на Рудню осталась у меня слева. Немцы обычно седлают дороги. Я пустил лошадь по открытому полю. Справа в направлении Рудни тянулась опушка леса, слева за лощиной лежала дорога. Болотистые и топкие места на поле видны были хорошо. Бугры и сухая земля, укрытые первым снегом, белели, а низины на общем фоне видны были темными пятнами.
Я проехал по открытой местности километров пять, остановил лошадь и огляделся кругом. Ни ракет, ни трассирующих в направлении Рудни не было видно.
Проехав немного вперед, я поднялся на небольшой бугор и увидел небольшую группу построек. Два-три приземистых домика и отдельно стоящий сарай. Подъезжаю ближе, каждую минуту жду встречного выстрела.
Останавливаю лошадь метрах в ста, оглядываю крыши и чердачные окна. Смотрю между домами, не выглянет ли, где часовой.
По спине пробежал озноб. Холодным, резким ветром подуло в спину. Подъезжаю медленно еще ближе, разворачиваю лошадь боком к домам, чтобы не вертеться на месте, если раздадутся выстрелы и придется уходить галопом назад. До домов не больше пятидесяти метров.
Ночью не все как следует видно. Смотришь и ждешь, не мелькнет где-либо темный контур в немецкой каске и коротких сапогах. Заранее представляешь его себе, в какой бы позе он не появился.

Выстрелов нет. Движения между домами никакого. Смотрю на уши своей лошади, они не насторожены. Лошадь стоит спокойно, кажется, что даже спит. Лошаденка невзрачная на внешний вид, но соображает и чутка, как собака.
Однажды как-то шла по дороге и вдруг встала. Насторожила уши, мордой стала водить. Кругом вроде тихо, ничего подозрительного, а она стоит, водит ушами и не шагу вперед. Эта невзрачная лошадёнка была исключительно понятлива и умна. Как выяснилось, потом, на дороге нас с ней ждала засада. Немцы не стреляли, ждали, чтоб я подъехал ближе. Я повел ее чуть уздечкой, она охотно развернулась и рысью стала уходить обратно. Немцы, увидев, что я повернул и ухожу обратно, открыли беспорядочную стрельбу.
Сейчас, я ей тоже ослабил повод и смотрю на темные стены домов. Она стоит спокойно и ушами не водит. Я трогаю ее слегка, она поднимает голову, трогается с места. Я выбираю дорогу ложбиной и приближаюсь к домам.
Два темных бревенчатых дома и на отшибе сарай. Кругом тишина и никакого движения. Не слезая с седла, объезжаю дома и сарай кругом. Жду несколько минут, и ловлю себя на мысли. Что я жду и оглядываюсь? Если бы, кто здесь был, давно бы себя обнаружил.
Нужно решить себе самому, что делать дальше. Ехать на Рудню или остаться здесь до рассвета, посмотреть, где проходит дорога, далеко ли она отсюда?
Разворачиваю лошадь и шагом направляюсь в сторону дороги на Рудню. До дороги не далеко, с километр не больше. Смотрю вдоль дороги никакого движения.
Я мотаюсь, уже несколько суток и мне страшно хочется спать. Глаза начинают слипаться. Смотрю вперед и ничего не вижу. Возвращаюсь, обратно, подъезжаю к домам, перекидываю ногу через седло и опускаюсь на землю. Беру лошадь за уздечку и веду ее за собой. Дверь в одном из домов открыта. Соизмеряю высоту проема двери и высоту лошади вместе с седлом. Лошадь не может войти в дом, и на пороге пригнуться. Она не пролезет спиной внутрь, если верхняя притолока у двери низкая.
Лошадь моя не породистая, не строевая, роста небольшого, седло снимать с нее не надо. Веду ее за уздечку, она послушно переступает порог. В темноте ступает ровно, стуча подковами по деревянному настилу пола. Внутри небольшое помещение с заколоченными окнами. Включаю фонарик, осматриваюсь внутри. У стены железная кровать с досками и старой соломой. А в головах лежит настоящая пуховая подушка. Вид у нее, правда, замызганный грязный, но мягкая, как из пуха.
Прикрываю дверь, закладываю за дверную ручку деревянную палку, как на засов, отпускаю подпруги и привязываю лошадь к кровати. Гашу фонарь и ложусь на солому, под головой тепло и мягко. Я закрываю глаза и тут же засыпаю.

Утром сквозь сон слышу спокойное и глубокое дыхание своей лошади. Она стояла тихо около кровати и ровно дышала, ни фыркала, ни ржала и ни хрипела. Пока я спал она стояла как вкопанная, ни раду ни дернулась, ни стукнула подковой?
Открываю глаза, смотрю на нее. Она уловила, что я проснулся, потому что тут же чуть шевельнула ушами. В подсумке на седле лежил небольшой мешочек овса, для неё, как вроде для солдата, пара сухарей на всякий случай. Но первой мыслью было, где ее напоить.
Встаю с кровати, вынимаю засов из двери и выхожу наружу. Осмотревшись кругом, я вернулся назад и вывел лошадь.
Серое утро заметно светлело на небе. Я обошел дом, в котором ночевал, и за углом натолкнулся на бочку. Ночь была холодная. Вода в бочке замерзла. На поверхности лежал тонкий ледок. Сентябрь, а уже вода замерзает. Надавив пальцем, я проткнул тонкую пленку льда, разогнал осколки в стороны и нагнулся над бочкой. Лошади привередливые чистюли. К испорченной и тухлой воде не подойдут. Вода была без запаха и прозрачна. Я припал к воде и сделал несколько глотков, потом окунул лицо в воду, выпрямился, снял пилотку с головы и утерся.
Лошадь посмотрела на меня, шевельнула ушами и вытянула шею.
– Чего смотришь? Пей, давай поскорей!
Она переступила передними ногами, нагнулась над бочкой, дыхнула горячим дыханием, опустила губу и стала пить.
– Давай пошевеливайся! – сказал я. Нам ехать пора!
Она шевельнула ушами и подняла голову, у нее изо рта потекла струйками вода. Я подтянул подпругу, поймал левой ногой стремя, и слегка подавшись вперед, подтянулся и перекинул ногу через седло.
Не успел я завернуть за угол дома, как со стороны сарая услышал отчетливую немецкую речь. Я мельком оглянулся назад, машинально рукой потянулся к поясу за пистолетом. На пороге увидел выходящих наружу немцев. Их было трое. Но потому, как один из них вполоборота разговаривал с кем-то, кто стался в темноте прохода, я понял, что их было больше чем три. Они о чем-то говорили, не видя меня.
Тронув слегка поводок, я отъехал за угол дома, поставил лошадь боком к стене и стал наблюдать, что будут делать немцы. Бросаться вскачь сразу было нельзя. Я видел пока лишь троих, не зная наверняка сколько их, осталось внутри дома.
Вот еще двое вышли на крыльцо вслед за первыми. Эти двое тоже о чем-то говорили между собой.
Странное дело. Мне много раз, вот так, близко приходилось видеть немцев. И всегда они о чем-то без устали говорят меж собой. Упорно молчат они только в одном случае, когда попадают к нам в плен.

Немцы никогда не ходят молчаливой группой. Были бы это наши славяне, они вышли бы молча, моча принялись за дело, молча собрались и молча бы ушли. А эти без остановки лопочут, чешут языками.
На крыльце дома появился еще один, и теперь все шестеро направились к сараю. Откинув бревно, которым была подперта дверь, они через некоторое время вывели во двор двух короткохвостых ломовых лошадей, и направились к бочке с водой, из которой я умылся и напоил свою лошадь. Продолжая разговаривать, они напоили своих лошадей и завели их за дом, где стояла их фура. Двое вернулись в дом, вынесли оттуда металлические коробки с лентами и пулемет, погрузили в повозку, сели в нее все шестеро и покатили в сторону Рудни.
Были бы здесь со мной человека два разведчика, половина немцев и повозка с лошадьми была бы наша.
Скажу откровенно. Я часто потом раскладывал на варианты этот случай. Я спрашивал себя, что я мог сделать и верно ли я поступил, спрятавшись за дом и наблюдая оттуда пассивно за немцами. Хотя по опыту войны, я ясно представлял, что война состоит из бесчисленных промахов и неудач. И только один из десяти приносил, иногда, результаты и успех. Правда, ситуации и случаи на войне всегда бывают разными. За много лет, ни одного похожего случая. Каждая новая встреча с немцами, складывается по-новому. Из тысячи новых и не похожих на прошлые тысячу мелочей.
Разведчик, пытается каждый раз решить, в одно мгновение, задачу из двух неизвестных – жизнь или смерть? А всё остальное варится в голове под сознательно, неясными образами. Многие моменты и детали ускользают из твоего внимания, потому что задачу с двумя неизвестными приходится решать в секунды и мгновения. Самое простое, пойти на верную смерть, не о чем не думая, не рассуждая. В этом случае, тоже может подвернуться удача. Кто-то должен был держать в голове некоторые извлечения из уроков войны. Кто-то должен был, обучать других думать о смерти и обходить ее всякий раз, отправляясь на дело. Кому-то после нас придется начинать все это с нуля. Где-то должна полковая разведка оставить следы времён войны.
– Ну и дела! – подумал я. Все в штабе уверены, что сорок восьмой полк находиться впереди. Наши сняли головные заставы с дороги.
Оглядев в бинокль всю местность кругом, я развернул свою лошаденку и не торопливо, шагом поехал назад по открытому полю. Я несколько раз останавливался, оглядывался по сторонам и назад, посматривая на поле и на опушку леса. Дорога на Рудню была совершенно пуста.
Так я доехал до деревни, из которой накануне выехал, штаба в деревне не оказалось. Деревня по неизвестным причинам опустела.

Проехав еще километра два, на лесной дороге я встретил полковую повозку. У нее что-то случилось в пути, и она с ночи застряла на дороге.
– Где наши тылы полка? – спросил я солдат чинивших повозку.
– С той стороны леса! С вечера подались туда!
* * *

– курсивом выделен зачеркнутый текст

Полк находился на марше, когда из дивизии был послан связной верхом, чтобы передать полку приказ к исходу дня 22 сентября сосредоточиться в лесу южнее Холм, Бабуры, ст.Замошье.
Разведчики к лесу подошли с утра. Стрелковые роты на месте сбора в лесу появились позже. Когда солдат стрелков завели в лес и объявили привал, они повалились на землю и тут же заснули. Полковые пушки, солдатские кухни, груженые повозки и тыловая братия полка, отставшие в пути, к вечеру стали появляться на лесной дороге и располагаться в лесу.
Где-то впереди за лесом проходила немецкая линия обороны. Но, где именно, мы пока не знали. По данным нашей дивизии стрелковые подразделения соседних частей вошли в соприкосновение с немцами и заняли исходные позиции. Предварительных данных воздушной разведки по-видимому не было, нам предстояло самим нащупать передний край обороны немцев. Кроме того, мы должны были определить свои передовые позиции, вывести туда стрелковые роты, с тем чтобы они могли затемно окопаться на них.
Когда войска переходят к обороне, то линия фронта обычно проходит извилисто, не гладко и не по прямой. На одном участке переднего края она может значительно дугой выступать вперед, а на другом уйти изгибом в глубину обороны. Все зависит от рельефа местности и характера обороны. Противник всегда стремиться занять удобные рубежи, господствующие высоты и выгодные позиции. По тому месту, где окопались наши соседи справа, нельзя было точно сказать и даже приблизительно определить, где на нашем участке пройдет передний край обороны немцев. Мы знали, что немцы находятся где-то за лесом километрах в трех-пяти от места нашего сбора. Но, где именно, точно сказать не могли.
На основании приказа дивизии, по полку был тоже издан приказ. Командир полка приказал взводу пешей разведки в ночь на 23 сентября 43 г. в полосе выдвижения полка провести ночной поиск с задачей установить передний край обороны немцев, определить исходные рубежи для нашей пехоты и к исходу ночи вывести туда стрелковые роты.
Я отметил по карте двухкилометровую ширину полосы выдвижения полка, изучил характер местности и прикинул мысленно, что от опушки леса до немцев будет не менее пяти километров. Впереди были низины и болота, а там на предполагаемом рубеже господствовали бугры и небольшие высоты. Но я пришел так же к выводу, что поставленная перед взводом задача фактически не реальна и практически не выполнима. Разведать за одну ночь всю полосу полка глубиной в пять километров, определить немецкие и наши передние позиции и развести на свои места стрелковые роты, с десятью оставшимися разведчиками было не реально и не возможно.

За одну неполную ночь мы можем облазить какой-то один небольшой участок обороны метров двести-триста по фронту, провести разведку переднего края противника и вывести на передний рубеж одну стрелковую роту. А охватить десятью разведчиками всю ширину полосы я не могу. По приказу я должен расставить разведчиков по фронту на каждые двести метров по одному. Приказать им идти вперед до встречи с противником. Но, что это даст? Бессмысленные потери! Я не имею права пускать в неизвестность, ночью, солдата одного. Он может попасть в руки к немцам, его может ранить и он останется без всякой помощи.
У разведчиков на этот счет свои законы. У нас даже в свой собственный тыл не принято ходить по одному. А поисковая группа на задачу обычно выходит строго определенного состава. Трое идут в группе поиска, двое чуть сзади в группе прикрытия и обеспечения. Разведгруппа из пяти, это минимум, когда нужно действовать в ночных условиях, на неизвестной местности и в абсолютно неясной обстановке. Подставить людей под пули просто так я не могу.
К командиру полка я не пошел и не стал выяснять и доказывать, что подписанный им приказ необоснован и поэтому невыполним. Я знал, что бессмысленно доказывать то, что уже совершилось и сделано. Командир полка мне этот разговор потом не простит. Приказ подписан. Подтверждение в дивизию отправлено. Теперь ни у кого не должно быть сомнений. Приказ должен быть выполнен точно и в срок.
– Удивляюсь! Зачем писать такие приказы? – подумал я и отправился к начальнику штаба. Я не стал ему развивать всякие доводы на счет нереальности изданного приказа. Я сделал вид, что пришел уточнить и согласовать с ним поставленную задачу. Я хотел получить у него конкретное задание.
Начальник штаба согласился, когда я ему изложил, что мы не можем за одну ночь прощупать немцев по всему фронту в двухкилометровой полосе. Я попросил его отметить мне на карте участок, где, по его мнению, мы должны этой ночью, провести поиск передней линии немецкой обороны.
– Из оставшихся во взводе ребят я могу скомплектовать только две поисковых группы. На каждую сотню метров группа – это еще, куда не шло!
– Сколько у тебя во взводе ребят осталось?
– Десять гавриков! Если не считать меня, Рязанцева и старшину с повозочным. Две группы по пять! Все что могу!
– Да! Маловато!
Начальник штаба долго курил и думал.
– Ну, вот что! – сказал он наконец.
– Вы будете действовать на левом, на открытом фланге. У нас слева пока нет никаких соседей. Охватите участок в триста метров шириной по фронту. Вы должны этой ночью разведать позиции и вывести туда одну стрелковую роту, с тем, чтобы она к утру успела окопаться.
– Всё! Договорились! – сказал я.
Закончив дела, я вышел от начальника штаба и направился в лес, где находились разведчики и стрелковые роты полка. Дойдя до опушки леса, я свернул с дороги и стал углубляться в лес, пробираясь между деревьями.

В лесу повсюду между деревьями и под кустами лежали солдаты стрелковых рот. Две сотни солдат. Весь наличный боевой состав полка, если не считать второй эшелон: артиллеристов, связистов, санитаров, саперов, поваров, повозочных и прочих обозников из нашей полковой тыловой братии.
Я подошел к лежащим на земле солдатам ближе и даже опешил. Мне показалось, что все они мертвые, что их побило осколками и разбросало в разные стороны. Солдаты валялись на земле в каком-то хаосе и беспорядке. Самые необычные позы приняли их застывшие тела.
Три стрелковые роты. Две сотни солдат. Все что оставалось от нашего полка. Неподвижно лежали под кустами и деревьями. Одни валялись кучей. Другие распластались по земле. Эти лежали на спине с открытыми ртами, запрокинув голову и раскинув руки. А эти согнулись и скорчились лежа на боку.
Лица у всех землистого цвета, грязные и не бритые, застыли и окаменели. На войне всякое бывает. Каждый день видишь раненых, только что убитых и мертвых, брошенных на земле. Смотришь на этих, лежащих вокруг, весь лес, как будто завален солдатскими трупами. А на самом деле солдат привели и объявили привал. Солдат с марша пришел, упал и тут же заснул. У него не осталось сил искать место для себя поудобнее. Эти лежат и у них у всех глаза закрыты. А у убитых солдат, как у живых, глаза глядят по-прежнему в пространство.
Помню сорок первый. Я водил в атаку своих солдат. Идем ротой по снежному полю на деревню, где немцы сидят. Ударит немец по цепи из минометов и пулеметами, залягут в снег мои солдатики. Головы не поднять. Лежат, уткнувшись в снег, и не шевелятся. Глянешь влево, вправо, вроде все мертвые и убитые. Орешь, орешь:
– Давай, мать вашу, вперед!
А толку что? Умирать ни кому не охота. Один лег, другой в снег уткнулся, остальные тут же попадали – никого не видать. Связист провод с катушки смотал, подползает, пыхтит, сует тебе трубку. Сам, мол, на проводе!
– Даю тебе пару минут!
– Роту немедля поднять! – слышишь по телефону грозный окрик самого.
Выскочишь из снега, подбежишь к одному такому, который лежит поближе. Ввалишь с разбега валенным сапогом ему под зад, а он лежит как мертвый, уткнулся в снег и не шевелится. Сгребешь его варежкой за воротник, опрокинешь на бок или на спину, глянешь в лицо, а у него глаза закрыты. Лежит в снегу вроде покойник. Лежит не дышит, спер дыхание и не сопит. За материшься на него. Смотришь, заморгал глазами.
– Мать, твою так! Ты чего лежишь? Мертвым прикинулся?
Вскочит на ноги "покойничик" и во всю прыть от тебя бежит. Отбежит маленько, а сам косит глазами назад и уши навострит. Смотрит, когда ты сунешься следующего поднимать. Ты отвернулся, а его и след простыл. Отбежал метров пятнадцать, плюхнулся в снег, валяй снова к нему беги, проверяй, теперь он лежит с открытыми глазами или снова щурится.
Так и бегаешь, вдоль ротной цепи пока пулей не шлепнет или миной не убьет, ходили мы тогда на деревни под огонь с одними винтовками.

Приказ – ротой деревню взять! А деревня лежит в самой низине. Кругом на буграх немцы. А мы, как на дне сковородки. Ставь на огонь и жарь со всех сторон. Остальные роты полка лежат сзади на опушке леса. А нам приказ, деревню брать. Кому охота зря умирать? И главное за что? Потому что командиру полка жареный петух в задницу клюнул! Смысла не было эту деревню брать.
Старшина роты вчера вечером приходил. Слышал разговор начальника штаба с комбатом. Самого должны были представить к очередному званию. Вот он и решил проявить инициативу. А, что солдат нашей роты побьют, это его мало волнует. Мы тоже не лыком шитые. Понимаем, что для чего! Другое дело, когда идет общее наступление!
Я обошел стороной спящих в лесу солдат, разыскал своих разведчиков. Они тоже вповалку валялись на земле и спали. Ни где, ни каких дежурных, ни часовых. Я устроился на мягкой кочке и проспал до вечера. Без сна и еды тоже нельзя.
За двенадцать дней боев и переходов солдаты и офицеры рот были измотаны. 13-го сентября была взята Духовшина. 16-го сентября немцы были выбиты с рубежа: Донец, Судники, Избична, Самодурово, Липки, Промогайлово и Бережняны. 19-го сентября полк подошел к рубежу немецкой обороны на линии Язвище, Холм, Бабни, Стабна, совх.Жуково, Кореллы, Курдымово. Немцы на этом рубеже продержались двое суток. К вечеру 20-го сентября полк вышел на шоссе Москва-Минск в районе деревни Замощье и повернул на Витебск. 22-го сентября мы получили приказ сосредоточиться в районе Чабуры для дальнейшего наступления на Рудню. Вот так, коротко война была изложена в оперативных сводках дивизии и армии.
А что в это время делалось на передке, в стрелковой роте, во взводе, для них осталось тайной. Войну можно рассматривать с совершенно разных точек зрения.
Отставшие в пути солдатские кухни и повозки к вечеру появились в лесу. Без патрон, хлебова, буханки хлеба на двоих и махорки солдат на войну не пошлешь. Солдату, кроме того, надо выспаться и заправиться перед выходом, мучной подсоленной болтанкой.
Когда наши обозники появились в лесу, лесное пространство наполнилось разговором и криками людей, скрипом телег, стуком колес, храпом лошадей и матерщиной повозочных. Обозники суетились, торопились, располагались в лесу, распрягали лошадей, рыли котлованы, валили деревья, возводили на землянках накаты. Они готовили себе и для начальства убежища на случай обстрела или бомбежки.
Стрелковые роты из леса уйдут, а им – тыловикам, в лесу придется стоять долгое время. Что ли они, как солдаты стрелки, валяться поверх земли будут.
Вечером, когда стало темнеть, мы получили еду, махорку, гранаты и патроны. Проверили оружие, подогнали амуницию, вышли из леса, вытянулись друг за другом в одну цепочку и пошли на сближение с немцами.
Впереди головная застава. Трое наших ребят. Старший сержант Серафим Сенько, рядовой Коротков, младший сержант Петя Зубов и его напарник Аникин. Следом за ними на расстоянии прямой видимости идем мы с Рязанцевым и остальные ребята из взвода разведки. За нами сзади на некотором расстоянии идут солдаты стрелковой роты. Роту ведут наших двое.

В головной дозор отобраны трое ребят. Серафиму Сенько можно всегда поручить самое ответственное и опасное задание. Он спокойный парень и опытный разведчик. Аникин обладает чутким слухом, а Коротков ночью сквозь землю видит.
Если посмотреть на карту, впереди на нашем пути лежит однопутный участок железной дороги из Смоленска на Рудню. Потом он уходит в сторону, а нам нужно будет сойти с него и свернуть вправо.
Уже в сумерках, миновав узкую низину, мы по канаве подходим к насыпи и забираемся вверх, ожидая встречных выстрелов. Но пока всё тихо. Рельс на насыпи нет. Рельсы с полотна железной дороги сняты, шпалы оставлены и лежат на своих местах в земле. Снимая рельсы, немцы все сделали чисто и аккуратно. Ни одной брошенной ржавой гайки, ни одного гнутого костыля. Шпалы с запахом железной окалины лежат на своих местах, выступая несколько над насыпью вверх.
– У немцев видать, железа нет! – говорит один.
– Вот братва готовые дровишки: – замечает другой.
– Сухие! Гореть будут с жаром! Примечай братцы куды за дровами ходить!
На насыпи мы поворачиваем в сторону Рудни и идем по шпалам, мелко перебирая ногами. Под ногами твердо. Но идти по шпалам не удобно. Солдат привык идти вразвалку по земле. Там он идет привычным размерным шагом. А тут приходится на месте ногами частить, перебирать мелкими шажками. Иначе спотыкаться начнешь, цеплять ногами за шпалы будешь. Постепенно все сходят на боковую бровку насыпи, вытягиваются в цепочку и пошатываясь идут вперед.
Километра через три участок насыпи со снятыми рельсами и лежащими в грунте шпалами кончается. Перед нами развороченное полотно, изогнутые дугами рельсы и на них висят на две части порванные шпалы. Перед нами какое-то необычное нагромождение погнутого железа и торчащая щепа в местах разрыва шпал. Ничего подобного мы никогда не видели. Мы остановились перед этим чудом согнутых выше нашего роста рельс.
Стоим и остолбенело смотрим. Чем это можно сделать? Следов гусениц на полотне нигде нет. Здесь прошла какая-то адская машина. Участок поднятых вверх и изогнутых рельс тянется дальше метров на тридцать. Это против наших, чтобы по насыпи не прошли. Приходится сходить в сторону с насыпи, иначе не пройти.
Потом, позже мы увидели эту адскую немецкую машину. На рельсах стоял тяжелый тендер с огромным крюком позади. Крюк имел винтовой подъемник, по типу тех, что ставят на речных плотинах для подъема шлюзовых заслонок для спуска воды. При помощи винтового привода можно было поднять или опустить крюк.
Пока я смотрел и думал и рассуждал, что можно и где крутить, кто-то из солдат уже залез на тендер и стал крутить приводное колесо. Завизжал подъемный винт и крюк стал медленно опускаться к шпалам.
За этими братьями славянами только смотри! Тут немцы где-то совсем рядом, а им поиграть охота, покрутить, чтобы завизжало приводное колесо. Взрослые люди, а ведут себя как дети! Посылаю Рязанцева согнать их с тендера на полотно.

Тендер с крюком немцы цепляли за паровоз. Во время движения по рельсам крюк поднимает в воздух шпалы, изгибает рельсы и рвет шпалы пополам. Видно что-то случилось у немцев. Паровоз отцепили, и он укатил по рельсам вперед. А тендер набитый песком и камнями остался стоять на путях.
– Видно застряла адская машина!
– Да! Дела у немцев идут совсем не плохо!
– Драпают с применением адских машин! – замечает другой.
– А тоже листовки бросают! Пока не поздно сдавайтесь!
– При помощи этих машин они ставят противотанковые заграждения! Танки по полотну не могут пройти! – замечаю я вслух.
Мы трогаемся с места и топаем дальше. А там сзади опять двое солдат залезают на тендер и начинают крутить винтовой механизм.
– Кончай! Слазь быстро назад! – слышу я приглушенный голос командира роты.
– Надо попробовать! Товарищ гвардии лейтенант!
– Слазь, говорят! К немцам подойдем поближе, там и попробуешь!
Кругом темнота. Что справа, что слева – ничего не видно. Через некоторое время полотно железной дороги сворачивает влево. Мы спускаемся с него, подходим к оврагу и с километр двигаемся молча. Здесь, впереди, должна проходить немецкая линия обороны. Рота остается в овраге, а мы уходим вперед.
Вот и первая ласточка. Осветительная ракета. Она медленно поднимается на фоне темного неба, зависает на миг и стремительно несется к земле. Через некоторое время мы вышли на рубеж.
Поисковая группа вышла вперед. Она должна уточнить переднюю линию обороны немцев. По направлению, куда они ушли, из темноты летят трассирующие пули. Пули идут над землей. Поисковая группа немцами не обнаружена. Но немцы слышат и чувствуют нас.
Через некоторое время поисковая группа возвращается. Я велю Рязанцеву послать двух солдат, пусть приведут первый взвод, чтобы он начал здесь окапываться.
Две группы разведчиков уходят в темноту. Они должны уточнить положение немцев на правом фланге роты. После чего туда выведем другой взвод стрелков.
Я велю Рязанцеву выставить часового и остаток ночи использовать на отдых. К утру он и трое разведчиков должны отдохнуть. Всякое может случиться. Нельзя людей заставлять таскаться на ногах без отдыха по несколько суток. У них пропадает желание, появляется апатия и на всё окружающее им становиться наплевать.
Пехоте, что? Солдат зароется в землю и на боковую. Ему тут, хоть стреляй, хоть не стреляй. Он свое возьмет. Торчать над окопом, как дурак, не будет. Если солдату хочется спать, он готов упасть в любую придорожную канаву. Пусть думают, что он убит. Валяйся сколько хошь! К нему никто не подойдет. Убит и убит! Проснется солдат, явится через сутки, а на него уже похоронную писаря настрочили.

У разведчиков тоже бывают такие случаи. Возвращается человек с задания. Сошел с дороги, присел на бугорок, портянку перемотать. Зевнул рада два, закрыл глаза на миг, привалился чуть на бок и заснул, как мертвый. Потом Рязанцев скажет
– Ты целые сутки проспал!
– Какие, там сутки! Я всего на часок прилег!
Часа через два обе поисковые группы возвращаются. Меня накрывают с головой плащ-палаткой, и я при зажженном фонарике наношу на карту участок обороны немцев, который расположен правее железной дороги.
К рассвету мы снимемся и уйдем отсюда, а солдаты стрелковой роты зароются в землю по пояс. Всё это кажется просто, когда к этому приучен.
Солдат разведчиков, которые лежат впереди в охранении, не надо учить. Они знают всё наперед. Где лечь, когда встать, когда на рассвете подняться и уйти, оставив пехоту в окопах. Они только предупредят стрелков о своем уходе.
Темная непроглядная ночь нависла над нами. Молодому солдату охота покурить. До немцев рукой подать. А ему что? Ему и перед смертью надыть затянуться махрятиной. Чиркнул спичкой и притулился к земле.
И вот она первая весточка. Впереди на ровном поле с треском разрывается первая мина. За ней летит вторая и третья. Где-то там дальше, в темном пространстве, видны всполохи выстрелов из миномета, размытые в ночном тумане.
Бывают моменты, когда ни местности и ничего вокруг себя не замечаешь, когда твои мысли, как сейчас, заняты минометными разрывами. Спроси в этот момент любого солдата стрелка, где он сейчас находиться?
– А где? Нябось на передовой! Нас вывели, положили, приказали окопу рыть! Вот мы и рыли! Ротный знает, с какого края у нас оборона легла! Пойди да спроси!
А если учесть, что перед выходом на рубеж солдаты и офицеры рот несколько суток не спали, то окружающая их местность пропадает в памяти и в глазах. Все рубежи кажутся одинаковыми. После бессонницы приходит апатия и к немцам и к своим. Где шли? Куда ночью вышли? Где рыли окопы? Жизнь солдатская на три дня!
Просто хочется спать и на все наплевать. Упасть куда-нибудь в канаву, в грязь покален. Пусть думают, что ты убит. Ведь никто из своих и чужих не подойдет и не будет нюхать, пустил ты хлебный дух или трупный запах. Может, кто и взглянет на тебя, проходя мимо. Но ни один не подойдет и тормошить тебя не будет. Валяйся в канаве сколько себе хочешь. Если только ротный станет тебя искать и заденет сапогом под зад или промеж лопаток. Таков закон войны! Ничего не сделаешь!
Между прочим, это один из способов вдоволь выспаться. Проснешься через сутки, явишься к ротному, а он тебя матом обложит. А, что он может? Не может даже, как с плохого козла, клок шерсти содрать! На войне и не такое бывает.
Идет солдат с задания, сошел с дороги портянку перемотать, присел, пригнулся к земле, закрыл глаза на секунду и заснул. Считай, что тебя видели, как ты мертвым в придорожной канаве валяешься. Ты спишь себе в удовольствие, видишь ангельские сны, а тебя старшина в списках крестиком, как убитого отметил. Потом спрашивает:
– Прошкин, где двое суток был?
– Как двое? Ни каких и ни двое! Я прилег и может час, два проспал!
– Ты двое суток у меня харчи не получал! Я тебя без вести пропавшим отметил!

Немецкая линия фронта проходила с севера: Борки, Скубятино, Понизовье, Заики, Свх.Кляриново, Новоселки, Микулино, Рудня, Березино, Дубровка, Красное и Ляды.
2-го (?) сентября Рудню взяли без больших потерь. Полсотни убитых и сотни две раненых. На подходе к Рудне наши организовали легкую артподготовку. Минут на десять, не больше. Стволов по двадцать на километр фронта. Ударили и всё завертелось. Большого дыма над Рудной не было.
Два полка молодых ребят…, как поется в песне, встали и пошли. Немец открыл встречный бешеный огонь. Наши ударили по немецким батареям, через пару минут у него в стрельбе произошел затык. Немецкая пехота, видя, что дело плохо, выбралась из траншеи, сорвалась с места и побежала в тыл. Наши поднялись и без выстрела зашли в Рудню.
Над Рудной появилось два немецких самолета. Они постреляли из пулеметов, чтобы привлечь наше внимание, сбросили листовки, повернули и ушли. В листовках было напечатано обращение к нашим солдатам.
"Мы вам под Витебском устроим мясорубку. Кто хочет остаться жить, кончайте войну, переходите к нам, сдавайтесь в плен. Мы вам гарантируем нормальное питание и жизнь. Данная листовка служит пропуском для прохода в Рудню".
При наступлении, Рудня была обложена нашей пехотой с двух сторон. Наш полк шел левее шоссе, 48-ой обходил Рудню справа из-за леса. Одной нашей роте можно сказать повезло. Она вышла на Рудню со стороны Капустино и прямо по болоту обошла высоту 202. Она незаметно приблизилась вплотную к окопам немцев. После небольшой перестрелки наши солдаты были уже у крайних домов. В это время из-за леса в наступление перешел соседний 48-ой полк. Наши вышли на шоссе и находились на северной окраине Рудни. Немцев в Рудне уже не было.
Потом по дивизии объявили, был издан даже специальный приказ. В приказе было сказано, что в боях за Рудню лично отличился Каверин. А наши солдатики вроде бы были и не причем. Мы спросили потом нашего командира полка, как это понимать. Он помолчал и ответил:
– Так надо!
– Ха, ха, ха! – три раза.
Мы знали, чья собака тут зарыта. Квашнин опять приписал всё своему протеже. За взятие Рудни дивизия была награждена орденом Красного Знамени.
Ни весенний, мелкий дождичек с неба тихо моросит…

Начало октября было ветреным и сухим. По ночам на землю наползали заморозки. Погода вообще была холодная и ветреная, но жить нашему брату на открытой земле было терпимо.
Через пару дней погода испортилась. Всю ночь хлестал западный ветер и к утру нагнал лохматые тучи. Днем немного покапало, а вечером и ночью зашуршали дожди. Они то затихали, то принимались лить с новой силой.
Земля под ногами размякла. Шагнешь по траве, из-под ног всюду сочиться вода. Побуревшая трава выдерживает широкие ступни солдатских сапог, грязь не налипает. А когда вызывают в тылы и едешь верхом, из-под копыт лошади кусками летит земля. Гнать рысью нельзя. Ноги у лошади вязнут. Проехал шагом по травянистому полю, на нем остались глубокие рытвины конских копыт.
Солдатская жизнь под дождем и под обстрелами на передовой особенно невыносима и противна. Мелкий дождь моросит, считай третьи сутки. Солдату в окопе зонтик, как – не пришей кобыле хвост. Поверх шинелей у них висят набухшие от воды накидки. Кусок палаточной ткани пропитанной дождем. Он отвис, отяжелел, прилипает к спине и коленкам.
Посмотришь на солдат в окопах, накидки на них все разные по форме и размеру. На одном она длинная висит до земли, болтаясь в воде хвостом. У другого хвост подобран и затянут шнуром на голове. Зато бока и перед короткие. Ноги до колен наружи. Если накидку разложить на земле то получиться треугольник. Вот и лепят из него солдаты накидки, кому как в голову придет.
Если около вершины в шов пропустить шнурок и затянуть его, то получится капюшон, который надевают на голову. Иногда угол накидки подгибают и собирают вокруг шеи в складки, тогда полы накидки будут короткими до колен. В общем, под накидкой сверху до пояса сыро и тепло. А ниже ремня у солдата хозяйство всегда мокрое.
Шинели тоже короткие. Чуть ниже и выше колен. Я на фронте никогда не имел шинель ниже голенищ кирзовых сапог. Капитан, а так и ходил в короткой шинелишке. Длинная до пят, тогда считалась шиком. Длинные носили тыловики и начальство, на которых их по мерки шили. А мы смертные, нам шинель в могилу по мерке не нужна.
Солдатам и офицерам рот и тому, кто шлялся всё время по передовой, длинные шинели были не к чему, им в атаку ходить, длинные полы мешать будут. Они и у коротких полы во время дождя и грязи подтыкают под поясной ремень.
Ветром чуть подует, мокрые кальсоны к телу прилипают и хозяйство свое не чувствуешь, как будто тебе при раздаче пищи из чайника в ширинку холодной воды нацедили.
– "У кого еще сухо? Следующий подходи!"

Спины у солдат согнуты. Руки под накидкой в рукава шинели подобраны. Винтовка поверх всего, под дождем, на ремне висит. Солдаты стрелки оружие свое от дождя не прячут. Это разведчики свои автоматы держат под накидками. Им нужно, чтобы оружие всегда было готово к бою, содержалось чистым и сухим.
В кирзовых сапогах тоже хлюпает вода. Портянки набухли, пускают пузыри. Руки от холода красные, лица посинели. По верхней губе жижа течет. Стоят солдаты, шмыгают носом. Зачем они эту слизь тянут обратно? Руки из рукавов шинели не охота вынимать! А сверху мелкий дождичек знай, себе моросит.
Достаешь из грудного кармана кусок газетной бумаги, хочешь щепоть махорки мокрыми пальцами завернуть. Куда там, сверху льет, не успел обслюнявить край бумаги, а она размокла. Нагнешься, прикроешься от дождя, вроде и завернул. Сунул в зубы, прикурил, и на душе стало теплее. Ниже пояса вода течет, а в зубах огонек горит, душу греет. Вот вам и осенний мелкий дождичек!
Тыловики в укрытиях сидят. Начальство под накаты спряталось. А солдату что? Ни какого тебе костра в окопе, ни сухого помещения. Сменился солдат с поста, идет в землянку, надо и ему на боку полежать. А в землянке по стенам и с потолка грязная жижа течет, лапник на нарах хлюпает. Ложись на нары, принимай хвойную ванну. Живешь день и ночь в сырости и мокроте. Пространства земли вокруг не видишь. Будь рад, что ты еще жив и в воде по горло плаваешь. А, то будешь валяться за бруствером и не почувствуешь всей прелести жизни и мокроты. В этом, пожалуй, и смысл всей солдатской жизни.
– Этого еще не хватает! По спине вдоль хребта вниз сбегает холодная струя. Где-то в дырявой накидке скопившаяся вода ход себе нашла. По голому телу между лопаток под самый копчик сбегает холодная струя. Не кровь же это сочиться? На войне всякое бывает. Шлепнет пуля – ни полета, ни удара не почуешь. Залезешь рукой почесать на боку, вынул руку, а она в крови, вся красная.
Холодная струя вдоль хребта по канавке бежит. Ни рукой достать, ни дыру в накидке заткнуть. Струя холодит, а ты стоишь, как идиот и ни с того, ни с чего хихикаешь. Солдаты смотрят на тебя, глаза таращат.
Передергиваешь парки вместе с ремнем и на шее затягиваешь веревочку.
– Черт с ней с дырой и струей!
А она тем временем к коленям подбирается. Стоишь, аж зубами скрипишь!
Сейчас рванут немецкие снаряды. Слышен гул. Они на подлете. Сейчас забудешь про дыру, про струю, и про мокрую мошну. Тут гляди, не зевай! А тут ещё, ветер лизнет холодной мокротой по глазам и лицу, зуб на зуб не попадет и ничего вокруг не видно. Куда от разрывов ткнуться?
Положение нашего брата окопника – хуже не придумаешь! Стоишь одной ногой в могиле. Сверху тебя перед смертью холодной струей поливает, а сзади тебя на смерть погоняют. Осенний мелкий дождичек – в бога, в душу, в мать, в перемать!
На войне закон простой. Не выбил немца с рубежа! Потерь в солдатах нет? Все ясно! Пролежал! Не выполнил приказ! Иди под суд военного трибунала!

По приказу дивизии я должен взять языка и к 7.00 доложить о выполнении приказа. Тебя вызовут в блиндаж. Стоишь, что-то невнятное в ответ мычишь, под тобой лужа воды, губы онемели, пальцы не разгибаются.
Помутнели лужи, вспухли ручьи, окопы залили водой, солдаты вылезли наверх, лежат, притулились за бруствером. А дождь шуршит, не переставая день и ночь.
Погодка для нас, для разведчиков, вполне благоприятная и исключительно подходящая. В такую погоду к немцам идти одно удовольствие. Но нужно знать куда идти, где брать языка, чтобы не напороться на мины и на пулеметы. От дождя и холода немцы больше наших дуреют.
Нам выговаривают, мы сорвали указанные в приказе сроки. А что собственно сроки, спрашиваю я. У нас не готов объект. Через пару дней подготовим и тогда попытаемся. При чем тут сроки? Что, кто-то из штабных слово дал, что к исходу вчерашней ночи в 7.00 мы возьмем языка? Нас, почему об этом не спросили?
Немцы без сухого жилья, без соломы на дощатых нарах, без сытой пищи воевать не могут. Они не только воевать, они просто не могут понять, как это русские в такую погоду могут торчать в залитых водой окопах своих. Как они могут жить по пояс в холодной воде?
Через день наступила сухая погода. Сверху не лило. Но земля по-прежнему была пропитана водой. Под ногами непролазная грязь. По утрам густые туманы закрывали лесные пространства и низины. В одну из таких ночей, когда темно, хоть глаз коли, группа разведчиков подошла тихо к немецкой траншее. Ползти было нельзя. Наберешь на себя грязи три пуда. Потом на ноги не поднимешься. Разведгруппа подошла к брустверу и залегла. Надо было перед броском осмотреться и послушать.
Передаю рассказ Серафима Сенько. Как все было:
– "Мы думали, что немцы затаились и ждут, когда мы оторвемся от земли. Потом показалось, что они вот, вот ударят по нам сразу из двух пулеметов. Мы пригнулись и вплотную подобрались к траншее. Накануне здесь все время светили. А сегодня ни одной ракеты. Мы полежали немного и я решил, что пора в траншею идти. Махнув рукой, я перевалился через бруствер и тихо опустился в ход сообщения. Живое место было вчера, подумал я. Траншея вроде выглядела безлюдно. Не ушли ли немцы? – мелькнуло в голове. Может у них смена и в это время окопы пустые? Я толкнул локтем своего напарника и кивнул головой вдоль траншеи. Я еще раз огляделся кругом, и мы всей группой двинулись вдоль траншеи. Сейчас пройдем полсотни шагов, и станет ясно. Брошена она и немец отошел? Но бывает часто все не так, как предполагаешь.
Шагов через двадцать показался боковой ход сообщения. В конце его стрелковый окоп. Подошли тихо, видим, немец сидит. Винтовка промеж ног. Сидит на корточках. Голова пригнута, руки засунул в карманы. Легонько, чтоб не разбудить, потянул за винтовку. Немец отпустил ремень и разжал колени. Спал он в окопе крепко.

Ну, думаю! Теперь можно брать! Когда я его тронул за плечо, он отвернулся и продолжал посапливать носом. Что будем делать? – вопросительно посмотрел я на ребят. Кто-то из ребят ткнул немца несильно пальцем. Он, не открывая глаз, только замычал себе под нос. Я приготовил ладонь, рот ему прикрыть. А он снова притих и спал, как убитый. Бери его за воротник, показал я Аникину, а мы его за полы шинели возьмем. Прошлый раз мы одного тоже, так тащили. Втроем мы его приподняли и мигом вынесли вверх из окопа. Мы на одном дыхании пробежали открытое пространство нейтральной полосы. Нейтральная позади! Ну, теперь, думаю – Всё! Немец в наших руках! Мы поставили его на ноги, а он подогнул колени и опустился на землю, улегся поудобней под березой и не открывая глаз продолжал сопеть. Мы не стали его будить. Думаю, проснется, поднимет крик. Отдышались немного, подвели под него плащ-палатку и доставили сюда. Положили на нары, пусть поспит до вашего прихода".
Мы с Рязанцевым были в группе прикрытия. Мы видели, как метнулись ребята. Мы отходили последними. Так положено отходить группе прикрытия.
– Где немец? – крикнул Рязанцев, когда мы появились около землянки.
– На нарах спит!
– Как спит?
– Буди! Капитан его допрашивать будет!
– Не надо не буди! – сказал я. Я сам спать хочу, а с ним до утра нужно возиться.
– Ну, что капитан? Дело сделано! Чистая работа? Ордена и медали ребятам положены!
– Погоди с орденами! Немца сначала нужно доставить живым на КП дивизии.
– Это, мы щас! Быстро сообразим!
– На кой черт тебе с ним самому возиться? Отправим в дивизию, пусть Клепиков допрашивает его. Нам нужно горло промыть, у нас законный отдых.
– Ну что, согласен? Я сейчас пошлю за старшиной. Пусть тащит горючее.
– Ладно, Федя пусть будет по-твоему! Посылай ребят к старшине! Отправляй немца в дивизию! Отметим это дело!
– Зови сюда Сенько, пусть рядом с нами сидит.
Лицо у немца выражало ужас, испуг и страх, когда его подняли на ноги и он увидел нас на свету. Наверно он думал, что это только сон. Представляю себе его состояние. Земля наверно ушла из-под ног. Мы смотрели на него и покатывались со смеха. Ребята разведчики ржали, как жеребцы. Кто-то даже завизжал от радости, хотя водки ещё не давали. Немца увели. Но смех, вдруг, сам собой прорывался наружу. Некоторые фыркали и катались по нарам от восторга. Но смех этот, вышел нам потом, так сказать, боком.
Вскоре приехал старшина. Мы изрядно выпили по поводу удачного поиска. Кто-то звонил из штаба полка и требовал меня к телефону. Дежурные ответили, что мы отдыхаем после взятия языка.

Когда я подошел к телефону и напомнил начальнику штаба о наградах для ребят, в полку уже разразился скандал.
– Какие вам награды? Немец вчера с вечера бросил траншею и отошел на новый рубеж!
– Вас под суд отдать надо! Вы отход немца проспали!
– Чего там кричат? – обернулся ко мне Рязанцев, когда я закончил с начальником штаба разговор.
– Ты Федя и ты Серафим, какой же мы с вами момент проморгали.
Попутал нас этот немец. Немцы еще вчера вечером из траншеи ушли.
– Как ушли?
– Так и ушли. Только они ушли, вы тут и влезли к ним в пустую траншею.
– Вам медалей не будет. А мне теперь месяц будут втыки давать.
– Ладно. Как ни будь, и это переживем.
Вот так, каждый день на войне. То из-под лобья взгляд и "Ну!" – со стороны начальства, когда на задачу нам надо идти, то угрозы и разнос за отсутствие чутья и за ошибки. Каждому ясно, что мы играем не в шашки, круглыми кругляшками, а живых людей на смерть готовим и шлем. Да и нам с Рязанцевым отведено короткое время. Один, два раза неуспехи, собирайся и сам иди. А то, что мы каждый день торчим на передовой под огнем и пулями, это мы бездействуем. Результат нужен сейчас, подай языка в штаб сегодня. О прошлом никто не думает. Сколько ты на фронте? А завтра, если тебя убьют, поставят другого.
Немец отошел на новый рубеж. Но к удивлению начальства он освободил нам километровую полосу, перешел в сухие окопы. Меня с разведкой сразу же сунули туда. Командир полка категорически потребовал, чтобы я выбил от туда немцев. В дивизии его спросили, кто виноват и кто прозевал отход немцев. Вот капитан! Чем он у вас там занимается?
Мы подошли к немецкой траншее. Немец нас встретил мощным минометно-артиллерийским огнем. У немцев был хороший подвоз боеприпасов. Снарядов и мин он не жалел. Мы потеряли двух человек убитыми и пятерых ранеными.
Земля летела клочьями, вокруг всё ревело. Он не дал нам поднять головы. Сутки продержал он нас около своей траншеи под обстрелом. Мы не могли вынести раненых.
На следующую ночь перед рассветом мы с Рязанцевым и остатками групп вышли к своим. Последующие двое суток мы ползали к немецким окопам, выносили убитых и раненых. Сколько дней подряд и какую ночь по счету он бил по нашим открытым позициям, мы потеряли счет времени. Нам казалось, что мы лежим под огнем целую вечность.
Нервы у ребят не выдержали. Немец нагнал на людей такого страха, что никто не думал выбраться живым. Попробуй, посиди в открытых воронках или окопах вырытых наспех покален, когда вокруг тебя рвутся снаряды и визгливые мины, когда всё гудит в неистовом реве.
Днем наши позиции казались безжизненными. Днем все живое замирало и пряталось. Даже раненые оставались лежать без перевязки. Все дожидались ночной темноты. Если немец замечал малейшее движение, взрывы следовали один за другим.

К нам вперед прислали стрелковую роту. Нам, приказа отойти с рубежа назад не было. Земля кругом пропиталась вонью немецкой взрывчатки. Все нутро выворачивало от этой тошноты. Вечером, когда начинало темнеть, немцы делали перерыв в стрельбе. Им в это время подавали ужин. Наши ископаемые использовали это время. Прибегали старшины, приносили жрачку, забирали раненых и убегали впопыхах.
Нам протягивали новую телефонную проволоку и мы отчитывались перед командиром полка. Мы сидели сутками под огнём. Начальство километров в трех терпело обстрел под накатами. Им тоже было плохо. Накаты в четыре бревна. Возьмет да угодит, какой фугасный и тяжелый. Они там. А мы здесь. Каждому – свое!
Часа через два немцы опять начинали обстрелы. Солдаты, кто как, по быстрому, зарывались в землю. На передовой творился какой-то кошмар. И главное, что мы ни на что не надеялись.
Родина, она дорога тому, кто на ее земле всю жизнь с утра до темной ночи гнул свою спину, кто воевал без отдыха впроголодь, кто чувствовал дыхание близкое смерти. Деваться казалось, было некуда. Вставал и такой вопрос. Мог ли солдат поддаться слабости, встать и податься к немцу. Вполне мог. Я бы никого не стал держать за порки.
А что ждало русского солдата в немецком плену? Европа для русского человека не гожа. Нет ничего милей своей русской земли.
В дивизии каждый день убивало солдат до сотни. Если мысленно прикинуть суточный потери, то за два года боев дивизия потеряла не менее 100 тысяч солдат. Задача простая, арифметическая. Только ведь, ещё в задаче спрашивается: где, кто и когда убит? Сколько тысяч наших солдат, однополчан, отдали свои жизни за Родину? Где фамилии этих ста тысяч убитых? Где их могилы? Мы не знаем даже их имен. Кто должен ответить на этот вопрос?
Здесь за спиной своя родная земля. Жить на чужбине и тосковать о родной земле? А тут в окопе у каждого своя судьба. Есть маленькая надежда. Может и ранит. На войне не всех подряд убивает. Ранит удачно и войне конец! Считай, что ты жив и тебе повезет, надеялся каждый. А русский человек способен надеяться.
Если взять и подсчитать потери, среднюю цифру за день, то по пять человек убитых в день на стрелковую роту окажется не так уж много. Если из практики знаешь, что сотни солдат в роте хватает примерно на неделю, то цифра сто тысяч вполне реальна. В каждом полку в среднем приходится по тридцать-сорок убитых на день. Если спросить ПНШ-1 по учету Васю Пискарева, сколько похоронок, в день он с писарями отправлял?
* * *
Октябрь 1943

Дивизия подтягивалась к передовой. В боевых порядках полка осталось совсем мало солдат. Тыловиков и обозников, если подсчитать, было много. Но они при подсчете штыков в счет не шли, их берегли на развод после войны, в полку ждали из тыла нового пополнения.
Стрелка солдата учить воевать не надо. Прибыл в полк, сунули его на передок и сиди, привыкай к грохоту снарядов. А тыловички, брат, все специалисты, один по хомутам, другой по оглоблям. Тоже нужно уметь выбрать, а то ты и еловую жердь поставишь. А эти по портновскому и сапожному делу. Возьми хоть Есю парикмахера. Убёт его, где возьмешь?
Передовые подразделения вошли в соприкосновение с немцами. Тыловики нарыли землянок, закопались в лесу. Деревень в этом месте не было. Через два три дня передовые подразделения сосредоточились в полосе обороны. Солдаты стрелки отрыли ячейки, через некоторое время на буграх появились ходы сообщения.
Разведчики ленивый народ. Они не охотно берутся за саперные лопаты. Разведчики вольные бродяги, они не любят ковыряться в земле. Если их заставить строить землянку и не дать указание на счет перекрытий и глубины, то котлован они выроют неглубокий, перекрытие положат из жердочек. Такую лазейку и нору оборудуют, что внутрь заползти можно будет только на четвереньках. Не спецы они по строительству и не любят этого дела. Им что готовенькое, брошенное немцами, найти.
– Что это, канаву отрыли? – спрашиваю я. Федор Федорыч молчит.
– А это, что за хворост лежит? Канаву что ль хотите сверху перекрыть?
– Ну да! Потому как ребята считают, что прямое попадание снаряда и мины исключено.
– Я тебя спрашиваю! Почему вместо землянки братскую могилу отрыли?
– Как братскую?
– Сам что ль не видишь? Лег в неё, согнул коленки, а они наружи торчат. Неужель котлован во весь рост лень отрыть?
– Нет охоты зря надрываться. У нас как. Мы тут строим землянку, роем котлован во весь рост, а нас завтра приказом командира полка пихают на другой участок. Там отрыли и иди снова на новое место копай во весь рост. У нашего полкового в голове милашка. Он тискает её и у него в голове каждый день новая идея. Он толком сам не знает кого куда пихнуть.
Вобщем, так капитан! Пусть сперва в обстановке, как следует разберутся, определят для нас место, жердочки тогда мы слать не будем, выроем котлован и поставим палатку. А если сверху что и попадет, то и под двумя накатами не уцелеешь. Поживем, увидим. Обоснуемся на одном месте, через неделю поставим землянку в три наката.
– Зима на носу! Не сегодня-завтра морозы могут ударить. Потом землю киркой не возьмешь. Вечная история уговаривать тебя.
– Вы можете приказать.
– Приказать легче всего. Я хочу, что бы ты сам заботился о солдатах. Будешь рыть котлован, советую рыть его на открытом месте. Славяне вон лезут в овраги и кусты, а ты место выбирай в сторонке от всех, в открытом поле. Днем наши ребята, как правило, отдыхают, а ночью со стороны немцев ничего не видать.
Проход вниз в землянку прикроешь старыми маскхалатами. Пусть их распорют, а старшина у портных на машинке сошьет.
Вот так Федя, тебя тоже заставлять приходится. А пора бы самому обо всем заранее подумать. Рыть будете ночью. Свежие выбросы маскировкой к утру прикрывать. Думаю, за три дня работу успеем закончить.
– Ладно, сделаем! Только не щас! Через неделю, как договорились! – Рязанцев повернулся и ушел.
Я лежал за обратным скатом небольшого бугра метрах в трехстах от немецкой траншеи и осматривал немецкие позиции. Рядом, сзади на корточках сидел помкомвзвод.
По штатному расписанию второй офицер во взводе разведки был не положен. А по делам Рязанцева нужно было иногда подменить, дать ему выспаться и привести мысли в порядок.
В стрелковых ротах и на этот раз не хватало солдат, чтобы прикрыть всю полосу обороны. Полковой разведке поэтому выделили участок переднего края.
На передний край с разведчиками должен был отправиться помкомвзвод. Ему дали два ручных пулемета и десять человек ребят. Самые опытные остались с Рязанцевым, они рыли землянку.
Помкомвзвод и десяток разведчиков должны были прикрыть около километра по фронту.
– По сто метров на брата! – так выразился помкомвзвод, когда отобрали ребят и построили перед выходом в овраге.
– Вот что, Степа, – сказал я помкомвзводу. Сделай три ночные смены и одну на целый день. Поглядывай за немцами перед рассветом. С вечера немцы (сюда) не пойдут. За всю войну не было такого случая, чтобы они на ночь глядя сунулись вперед.
Скажи ребятам, пусть поглядывают и всё примечают. Может на твоем участке можно будет взять языка. Федя тогда со своими придет.
– Обязательно – всякий раз отвечает помкомвзвод. Слово «обязательно» у него употреблялось в смысле:
– Так, точно! Будет сделано! Он сидел на корточках боком ко мне.
Помкомвзвод имел привычку, когда разговаривал смотреть куда-нибудь в сторону, устремив свой взгляд куда-то вдаль. Как будто там, вдали, находился его собеседник. И сколько раз я не пытался заставить его при разговоре повернуть голову в мою сторону, он тут же отворачивал её и смотрел мимо плеча.
– Ты Степа на стрелковые роты не смотри. Немец напрет, стрелки могут драпануть со своих позиций. Ты их не держи. Пусть себе в тыл бегут. Руки у тебя будут развязаны. Если увидишь, что фронт прорван. Собери ребят около себя, местность здесь пересеченная. Танки здесь вряд ли пойдут. Они могут ударить по сухому месту где-нибудь в стороне. Назад не ходи. Отойдешь вперед, вот на тот край болота. Заранее пошли ребят отрыть там запасные ячейки. Болото прикроет тебя с тыла и с фланга. В лоб в атаку на немцев не ходи. Они к тебе не пойдут, стороной обойдут болото. Нам нужны живые люди. Трупы нам не нужны. Пусть славяне бегут. Во время паники немцы тебе фланг свой подставят. Смотри по обстановке. Можешь ударить им в тыл. Тут кусты. Подойти к ним будет удобно. Обойдешь немцев, бей им короткими очередями в спину. Немцы сразу в штаны накладут. Учти! Немец теперь труслив. Это не те, что были в сорок первом. Этих с первого выстрела заставишь руки поднять. Огонька у вас хватит. Два пулемета и автоматы. Всыплешь немцам свинца и по кустам на другую сторону отходи.
Предупреди каждого. Ни какой там паники, дисциплина и порядок должны быть в бою. И нахальства побольше!
Я сказал старшине, чтобы твоим ребятам он выдал ватные стеганые куцавейки. Шинели сдадите ему. Саперные лопаты тоже возьмешь у него. У тебя будет легкий подвижной отряд. Возьмешь по две гранаты на каждого.
Учти! Отойдете в тыл вместе с пехотой. Солдатам ничего, а тебя отдадут под суд. Соображаешь? Ваша задача затаиться около болота.
Как только немцы прорвутся, наши подкинут резервы из армии. А когда положение восстановят и станут разбираться, кто драпанул, и кто где сидит. Окажется, что вы ведете бой в тылу у немцев. Немцы начнут отходить. Вам по кустам вернуться к болоту – раз плюнуть.
Запомни! При подходе наших к болоту, дашь сигнал, две зеленых ракеты подряд.
Все это я говорю на случай, если немцы сунутся в атаку. На войне, Степа, всякое бывает!
Сейчас немцы нас каждый день бомбят. Они боятся нашего нового наступления. Думаю, что в обороне у вас будет всё спокойно. Отправляйся с богом, как в старину говорили.
Помкомвзвод обернулся ко мне на какое-то мгновенье.
– Что, это он? – подумал я. Не всегда удавалось поймать его взгляд.
Лицо его худое и мускулистое всегда было сосредоточено, чем-то озабочено и угрюмо. Волосы и небритая щетина были цвета выгоревшей соломы или пакли. Сам он был похож на кряжистый пень, вывороченный из земли на пахотном поле. Ходил он вразвалку, и чуть согнувшись. Руки у него были сильные, узловатые и мускулистые. Оканчивались они корявыми и толстыми, мозолистыми пальцами. Ладони круглые, как толстые лепешки. Схватит он такой лапой немца. Кости затрещат у прилизанного вояки.
Мне казалось, когда я смотрел на него, вот он русский мужик, на котором стояла наша земля.
Схватит такая рука немца за горло – кровь брызнет сквозь зубы изо рта, глаза вылезут из орбит.
Все до мелочей в этой приземистой фигуре я знаю. Вот только цвет глаз ни разу не уловил. Смотрит он всегда куда-то в сторону.
Ходил он легко и быстро, подметками сапогов не тер, как Федя, земли. В лесу сучка не раздавит, веткой не шевельнет. Весь он был какой-то подвижный и вместе с тем угловатый. Роста не большого, а сапоги сорок пятого размера носил. Ребята его уважали, а некоторые даже побаивались. Что-то такое сидело у него в внутри. Делал он всё быстро и точно, не то, что мы с Федей Рязанцевым. На нас тогда нападала апатия, безысходная грусть и хандра.
Если он рыл землю, вцепившись в черенок лопаты, то работал, как заводная машина. В работе с ним сравняться никто не мог. Бросая по сторонам быстрые взгляды, он всё примечал, и солдаты его понимали без слов. Вообще он был замкнут, и слыл неразговорчивым человеком.
Но когда дело доходило до постановки задачи, он выкладывал ребятам все подробно и со знанием дела. Он выкладывал боевое задание перед солдатами простым и понятным языком. Он, как бы рассказывал малым ребятам сказку. А когда разговор доходил до главного, он вставал и смотрел поверх их голов в синеватую даль. Со стороны посмотришь, можно подумать, что рассказ излагал он ни своим солдатам, сидевшим рядом, а кому-то тому, кто находился в самой дали.
Лет ему было около тридцати. Все мы, кроме старшины, были его моложе.
Худое, обветренное лицо его все время меняло выражение, когда он говорил. То грусть на лице, то полное спокойствие и уверенность, то душевная забота и доброта, то злость и необузданное нетерпение.
По его физиономии нельзя было сказать, что он при этом думает. Он всегда говорил о деле. Он, никогда не был похож сам на себя. Злым я его никогда не видел. Но злость у него к любому делу была.
После изложения поставленной задачи, помкомвзвод обычно замолкал. Он, как бы очнувшись, вспоминал, что он неразговорчивый.
Я был уверен, что помкомвзвод с заданием по обороне участка справится. Разведчикам придется посидеть в обороне, пока в полк не придет пополнение.
У Рязанцева осталась группа в шесть человек. Эти шесть самые опытные. Их нужно беречь, под огонь зря пускать нет смысла. От нас полковое начальство требует свое. А мы не хотим терять зря людей.
Кому охота умирать ради того, чтобы полковым в тылу жилось и спалось спокойней. Мы тоже не лыком шитые, тоже кой-что понимаем!
Солдат в полку не считали. Их подгоняли вперед до тех пор пока в ротах оставалось не больше десятка. Это закон войны.
Когда солдат в ротах нет, когда нечем прикрыть оборону, тогда с начальства какой спрос. Солдаты свой долг выполнили, полегли на поле боя.
Хорошо воевать, когда на головы немцам летят сотни снарядов, когда над ними рушится все и гудит земля. А тут сидишь на одних винтовочных патронах и в сторону немцев ни одного вшивого снаряда, ни одного пушечного выстрела. Артиллеристы знают своё дело. Они берегут матчасть.
А когда тебя вместо орудий снабжают газеткой на закрутку махорки, тут извените, солдат воевать не могёт.
Прошло пару дней. Однажды с наступлением темноты полковое начальство вдруг взбеленилось. Мне по телефону дано категорическое указание выйти на передовую, определить обстановку и срочно доложить. Дело в том, что на участке соседней дивизии немец взял и из передней траншеи отошел. Сделал он это потому, чтобы выровнять переднюю линию фронта или с перепугу драпанул. Сейчас этот вопрос изучается в штабах, и к утру нам скажут определенно. Но сейчас нам главное не прозевать отход немцев.
Меня отправили на передовую. Размотали за мной телефонный провод. Мне приказано докладывать.
Помкомвзвод, встретив меня, доложил, что немцы спокойно сидят на месте и пускают осветительные ракеты. Действительно, из глубины немецкой обороны блеснули вспышки и над нашими головами пронеслись, шурша снаряды. Из передней немецкой траншеи полоснул трассирующими пулемет. Над нейтральной полосой побежали мигающие проблески.
– На нашем участке немцы пока сидят на месте! – доложил я по телефону. – Подождем до утра! Сейчас на дорогах темно. Бежать неудобно. Немцы всегда темноты боятся.
– Ты смотри, там не спи!
– Боятся! – подумал я.
Перед рассветом часа за два на переднем крае у немцев прекратилась стрельба. Я позвонил в штаб полка и доложил о случившемся.
– Когда прекратилась стрельба?
– Только что!
– Смотри на карту. Уточняем тебе маршрут. В головную заставу пошлешь командира взвода. Оставь себе группу охраны пять человек. Командир полка выходит к тебе. Вперед пойдешь вместе с ним. И последнее! Держи связь с головной заставой посыльными.
Ночь была тихая и темная. После обстрелов и грохота тишину воспринимаешь как-то тревожно.
Я подождал командира полка, и мы тронулись вперед по указанному направлению. Я одного не понимал, зачем майор подался с нами в неизвестность. Решил попробовать, как это делается?
Кругом впереди нет никого и ничего не видно. Мы двигаемся цепочкой, обходя кусты и деревья.
Первую немецкую траншею мы перешагнули в темноте. Рассвет незаметно и быстро распластался над землею.
Вот мы подошли к второй немецкой траншее. Еще полсотни шагов и за колючей проволокой немецкие окопы. Пока мы в проволоке проделываем проход, вокруг становится светло. Перед нами заминированная полоса. В земле повсюду набиты колышки и натянута проволока. Искать проходы, у нас нет времени. Разминированием потом займутся полковые саперы. На это немцы и рассчитывали, оторвавшись от нас. Я останавливаю группу и оборачиваюсь к командиру полка.
– Впереди минное поле. Будем обходить или пойдем напрямик. В обход нужно идти вон в ту сторону к болоту. Мы сворачиваем и идем след в след. Острыми щупами будут колоть землю завтра саперы с утра.
– Идти след в след! – подаю я команду.
Командир полка идет сзади и молчит. Мы идем по какой-то изрытой снарядами узкой низине.
Что это? Брошенные ящики из-под снарядов или немецкие гробы, привезенные из Германии для солдат и офицеров? По спине бегут мурашки от вида гробов. А то, что под ногой может оказаться немецкая мина, это нас не беспокоит. Неприятное чувство видеть на фронте гробы.
Пока мы разинули варежку, метах в пяти разорвался тяжелый снаряд. Его можно было бы уловить на слух при подлете. Всплеск огня и дыма и осколки веером разлетелись кругом. Мы даже пригнуться не успели. Взрывная волна ударила сразу по челюсти. Снаряд, как бы облаял тебя.
Пехотная мина, зарытая в землю, неприятней любого снаряда. Она ждет тебя тихой сапой, не шуршит, не гудит на подлете. Идешь по краю минного поля и кишками её чуешь. От одной мысли, что она под ногой, внутри все воротит.
Плывет из-под ног изрытая, бугристая земля. Под ногами то травянистый покров, то ямы и серые выбоины. Мы спускаемся вниз и снова поднимаемся вверх.
Впереди идет группа головного дозора. За ними в пределах видимости следуем мы. Бокового охранения и дозоров мы обычно не ставим. Следов гусениц нигде не видно. Только на дорогах колесная колея.
По всем признакам на местности здесь лежит новая линия немецкой обороны. Мы прошли в темноте и после рассвета всего километров шесть, а кажется, что отшагали больше десятка.
Но что это? Немецкая линия обороны пуста? Мы переступаем через ход сообщения и останавливаемся. Небо совсем просветлело. Кругом хорошо всё видно. Немецкие окопы и хода сообщения отрыты в полный профиль. Боковые стенки и укреплены стояками и за них положены строганые доски. Землянки глубокие, сверху укрытые дерном, потолки в четыре наката.
Нам нужно осмотреть здесь всё, как следует. Впереди могут попасть такие рубежи. Нам нужно знать характер немецкой обороны. У немцев каждая дивизия по своему оборудует траншеи.
Командир полка меня торопит. Мол, хватит лазить. Давай, посылай людей вперед. А я Рязанцеву говорю, – давай, еще там посмотрим. Здесь и там окопы, пулеметные ячейки. Тут укрытие для расчета и огневая для пушки 85-ти. Ни сора, ни мусора, все убрано и чисто. Я показываю на артпозицию и спрашиваю командира полка:
– Почему наши с пушками все время прячутся сзади? Пехота воюет, а эти господа у нас сидят за спиной. Сколько лет воюем, а пушек не видать на передке. Командир полка закуривает папиросу и упорно молчит.
Я смотрю на немецкую траншею. Брустверы обложены свежим дерном. В каждом срезе дерна вбиты деревянные колышки, чтобы при обстреле не стряхивало в сторону дерн.
Трогаемся с места, подходим к кустам. В кустах, параллельно первой траншее, тянется запасная. Она не глубокая, всего покален. С отсыпанной землей в обе стороны, будет по пояс. Но отрыта она не вручную лопатами, а специальной роторной траншейной машиной. Прикосновения лопаты нигде не видно. На всем протяжении и вправо и влево она одинакова, ровна и гладка. Видны лишь следы вращающегося ротора.
– Вот это да! – восклицают солдаты и молча посматривают на командира полка.
– Траншеи на фронте машинами роют!
– Сколько же нужно минут, чтобы километр пройти?
– Тыр-пыр и траншея готова!
– Она как человек шагом идет. Им от Балтики до Черного моря прокопать, что плюнуть!
– Могут! Могут!
– А толку что? Траншеи машиной роют, а драпают каждый раз.
– Я бы в такую траншею садиться не стал. Траншея должна быть зигзагами. А это что? В одном конце сядешь, а с другого на тебя ротный смотрит.
Мы переходим через траншею. Солдаты продолжают рассуждать.
– Смотреть противно! Такая канава нам ни к чему!
– Ладно, заткнись! Разговорились как бабы! – обрывает всех командир отделения. Командир полка молча смотрит на своих солдат. Редко приходится слышать ему солдатский говор. Своего просвещенного мнения он вслух не говорит. Махнул рукой неопределенно вперед, давая понять, что надо двигаться.
Мы снова идем один за другим, раздвигая кусты. Мы лезем через какие-то канавы и овраги. Теперь у нас под ногами проселочная дорога. Сколько мы прошли, где сейчас находимся? Я за картой не следил, сказать не могу.
Мы ждали, что вот-вот наткнемся на укрепленную и занятую противником линию обороны. Но случилось нечто такое, что немцы все бросили и неизвестно куда отошли. Наша задача теперь догонять их спокойно. Видно где-то соседи ударили и отрезали немцам пути отступления.
– Ноги чавой-то не идут!
– Брюхо, наверно, отвисло и отяжелело! – переговариваются меж собой солдаты.
Мы останавливаемся на привал. Командир полка шлет в тыл своего ординарца и вскоре командиру полка присылают жеребца, и он уезжает назад.
Вперед посылают стрелковую роту. Мы сходим с дороги, садимся на бровку, закрываем глаза и ждем, когда подойдут наши обозы.
Я поднялся с земли сел в повозку к нашему старшине и завалился спать. Походная колонна медленно подвигалась вперед по дороге. Повозки то ускоряли свой бег, то ползли еле-еле, то совсем останавливались и собирались в толкучку. Отчего стоим? Никто не знал, никто не выяснял. Стоим, значит надо.
Повозочные, сидя около оглоблей, закрывали глаза и тут же давали храпака.
Лошади в упряжках стояли смирно. Тоже видно спали. Но кое-где лошаденки тянулись к краю дороги, тянули губы, щипали клоки зеленой придорожной травы.
– Эй! Давай пошли! Чего поперек дороги встали!
Повозочные таращили глаза, подбирали обвисшие дудкой губы, трогали лошадей, и обоз снова стуча и скрипя, тащился вперед по дороге.
Лежа в телеге, я открывал глаза, потом поднял голову и огляделся. Сквозь сон я слышал чей-то голос, но не мог разобрать, о чем собственно кричали.
– Что-то у меня голова болит – сказал я поднимаясь и садясь в телеге.
– Пощупай-ка мне лоб старшина. У меня вроде температура. Жарко мне что-то!
Старшина обошел телегу и положил мне руку на лоб. Я почувствовал его шершавую ладонь, она у него была холодная.
– У вас температура большая, гвардии капитан.
– Пока обоз стоит, я сбегаю мигом за фельдшером. Их повозка здесь, сзади недалеко. Я давеча их видел на дороге.
Пока стоял обоз, я перебрался в повозку к фельдшеру.
– У тебя малярия! – сказал мне фельдшер и дал хинина.
– Октябрь месяц! Какая может быть малярия? – ответил я.
С неделю я провалялся в телеге и в санитарной палатке у фельдшера.
При выписке за мной заехал старшина. По дороге он рассказал мне, что взвод разведки понес большие потери. Помкомвзвод получил тяжелое ранение в бедро. Потеряли убитыми четырех человек.
– Как только вы заболели, – продолжал старшина – Рязанцева вызвали в полк и приказали взять высоту. Обоз стоял (три дня) на дороге при подходе.
– А где же пехота была?
– А что там их в пехоте! Подошли к высоте и залегли.
– Рязанцев знал, что на высоте немцы?
– Как не знать. Все знали и видели, как они постреливали. А что он мог сделать, раз командир полка приказал.
Телега долго тряслась и качалась по избитой дороге. Справа и слева стали попадаться камни и пни. Валуны были на разный размер, цвет и оттенок. Они лежали в земле уткнувшись в… Под ними, по-видимому, влага сохранялась, потому что вокруг них росла густая трава.
Вот такой же твердый, как этот камень, был помкомвзвод. А теперь, что? Теперь, он калека!
Не помню точно, как и где мы ехали дальше. Потому что когда тебя везут, за дорогой не следишь. Мысли о другом донимают.
Запомнилось одно. Я велел дежурному солдату, стоявшему на посту, найти Рязанцева и передать, чтобы он построил взвод. Солдат козырнул и побежал искать Рязанцева.
– Постой! Ребят строить не надо. Пусть Рязанцев зайдет ко мне в палатку к старшине.
– Чем воевать будешь? – спросил я Рязанцева, когда он отдернул полу палатки и подался во внутрь.
– Тебе ребята этого не простят. Ты без разрешения дивизии в атаку вместо пехоты ходил.
– Я думал, что командир полка согласовал с ними это дело.
– Тебе Федя, считай, повезло. На высоте ты мог оставить не четверых, а всю разведку в мертвом виде. Тебе что! Твоя жизнь у тебя в руках!
А ребят губить просто так ты не имеешь права. За потери с тебя начальство не спросит. Погибли солдаты? Ну и ничего! Для того и война, для того и воюем! Командиру полка нужна высота, подавай ее сейчас и немедля. А на потери и что будет потом ему наплевать. Брать такие высоты посылают обычно штрафников. А ты лучших ребят уложил. Ты знаешь, почему они туда пехоту не пустили?
– Потому что знали, что она до середины высоты не дойдет. А теперь расскажи, как было дело.
– Как было? Вызвали и сказали, пойдешь и взводом возьмешь высоту.
Я разделил взвод пополам. С первой группой шел помкомвзвод, а я со второй с другой стороны.
Помкомвзвод дошел до половины, а я в это время обходил высоту несколько вправо. Кругом ни выстрела ни какого движения. Я думал, что немцы, увидев нас, со страху драпанули. Поднял ребят во весь рост и мы потопали кверху. Помкомвзвод увидел, что мы поднялись и идем в открытую, решил броском подойти к вершине. Но вышла неувязочка. Мы двигались с ним одновременно. Нам нужно было перебежками, накатом идти. Метрах в ста от вершины по нему полоснул пулемет. Сначала один, потом еще два. Под кинжальный огонь попала группа. Подступы к вершине открытые и гладкие. Днем где ни ткнись, всюду видать. Вертись, не вертись, а все пули твои. Не знаю, как остальные уцелели. Из его группы четырех убило. Из моей, одного ранило. Жалко самого. В бедро его ранило. С наступлением темноты вынесли убитых и раненных. Двое суток держал немец высоту. А на третий день утром сам удрал.
– Не знаю, что тебе сказать Федя. Как ты ребятам в глаза будешь смотреть? Они ведь Федя не дурачки. Не хуже тебя и меня все понимают.
Мы им внушаем, что у нас чистая работа. Нас интересуют только языки. А их, как штрафников гонят на высоту, на истребление. Что-то одно должно быть. Или языки, или в атаку ходить. Тебе что? Орден за высоту обещали?
– Я так и знал!
– Ты же их, как штрафников сунул под пули!
Говорить можно что угодно. От слов отказаться можно всегда. Ты знаешь, почему командир полка при мне не пихает разведку куда попало?
Потому, что я письменный приказ потребую от него. Ты посмотри на него и скажи, кто верит ему?
В его распоряжении может быть подвох и личная выгода. Почему ему комбаты поддакивают. Потому что видят, что пехоту суют без подготовки. Потери никого не волнуют. Чем меньше осталось, тем легче живется. Разве ты сам не видишь, что делается вокруг.
Тебе с командиром полка было спорить не охота. Сколько времени, потом брали высоту?
– Дня три не меньше!
– А людей сколько положили?
– Не меньше полсотни!
– Мы учим разведчиков, чтобы под пули не лезли как дураки.
Рязанцев хотел, было встать и молча уйти от разговора.
– Ты сиди, сиди! Тебе это на будущее, как наука! Разведчик не окопник солдат. Разведчика нужно долго и терпеливо учить и готовить.
Возьми простого солдата. Подведи его ночью к немецкой траншее, он живого немца от корявого пня не отличит. Выведи его обратно и спроси. Видел?
– Видал!
– А чего ты видал?
– Видел, как под проколкой ползли.
– А немца в окопе видал?
– Немца? Нет, немца не заметил!
За сколько времени ты можешь из простого солдата сделать разведчика? Месяц, два, три или полгода.
– Пехотинца делают просто. Спросят во время призыва. Жалобы есть? Нет! Годен к строевой! Можно на фронт отправлять. А разведчик Федя должен многое уметь и знать. Сказал бы я тебе да долго перечислять.
Жизнь опытного разведчика дорого стоит. Жизнь, она Федя, дается один раз. Нам с тобой нужны живые люди, а не мертвые и трупы. Да и сам ты знаешь, у одного получается хорошо одно, у другого другое.
Звезд на небе много, а полярная одна. Аникин видит хорошо, а Коротков любой шорох на сотню метров ухом уловит. Один другого стоит. У одного лучше одно, у другого другое. Серафим может выбрать удачный момент, изловчиться и тихо как кошка опуститься к немцу в окопчик, придавить его на секунду, пока остальные поспеют. А эти двое, что с Сенченковым ходят, могут без звука перейти линию фронта.
В разведке нельзя без умельцев. Но есть и такие, которые все могут. Не буду называть их фамилии, ты их сам знаешь.
У нас, как в сказке про Аленушку. Один брат приложил ухо к земле и слышит, как за много верст всадник скачет навстречу. А солдат из пехоты, что слышит? Как ротный матерится и славяне котелками стучат.
Потерял ты Рязанцев сразу пятерых, и считай обрубил нам руки. Остались мы без рук и без глаз, оглохли мы с тобой Федя. Потерять разведчика легко. Не потерять, вот в чем наша задача. За убитых с тебя никто не спросит. Они на совести твоей будут. Вон командир полка. У него совесть вроде чиста. Послал под пулеметы солдат, а сам Маньку за сиську держит. Вот так, Федя. Мораль тебе приходится читать!
* * *
Глава 35 В обороне после Лиозно
Октябрь 1943

Серым и беспросветно-мокрым выдался конец осени. То холодный и липкий снег, то моросящий дождь, то пронизывающий ветер до костей. Когда погода резко меняется от тепла к холоду, становиться не по себе, – холод добирается до костей.
Но вот к концу месяца немного просветлело. Солдаты зашевелились в окопах. Наш полк располагался, справа от железной дороги, которая проходила на Витебск. Место низкое. Земля пропиталась влагой.
Вскоре проходы землянок стало заливать водой. Пришлось снимать перекрытия, резать пласты из дерна, выкладывать ими вокруг котлованов полуметровые завалинки, и снова накрывать и сверху засыпать землей.
Я находился на передовой в одной из таких, торчащих наполовину из земли, землянок. В середине проход, залитый на четверть водой, по бокам с двух сторон земляные нары. На нарах с каждой стороны по шесть человек разведчиков. В землянке теснота – повернуться негде. Мы находились на передней линии пехоты и занимали отведенный нам участок обороны.
Командир полка рассчитал так: разведчики принесут двойную пользу, если будут сидеть на передней линии, удерживать участок обороны и вести за противником наблюдение. Солдат стрелков в полку не хватало. Давно ждали пополнения, но оно все не прибывало.
Немцы ночью и днем по нашему рубежу вели огонь из артиллерии, минометов и пулеметов. А наши славяне, как всегда, на их стрельбу не отвечали.
Как-то раз в конце недели я пошел в тылы полка, зашел к начальнику штаба и завел с ним такой разговор:
– Вот здесь на углу леса, – и я показал по по карте,
– Стоит сложенная из кусков дерна, небольшая лачуга. В ней сидят наши стрелки солдаты и обороняют участок метров пятьдесят. Прошу поменять нас с ними местами. За лесом находятся немцы и наших впереди, и справа, и слева там нет. Солдат из пехоты там трое. Я с двумя разведчиками займу эту лачугу, а Рязанцев с ребятами будет действовать за лесом и в лесу. Немцев за лесом никто не тревожил, Может нам повезет, и мы там схватим какого одного. Это место для нас вполне подходящее.
Начальник штаба не возражал и дал свое согласие. И мы на следующий день перебрались на новое место.
Я, конечно, думал о своем. Мы сидим в обороне, за языками нас идти никто не торопит. А в одно прекрасное время из дивизии может прийти приказ. Назначат нам срок, сунут в открытое место и скажут, давай языка. А здесь за лесом мы не торопясь, подготовим поиск, облюбуем подходящее место и подготовим объект. Немцев здесь никто не тревожил. Сидят они за лесом спокойно. А у нас одна задача, нам нужно взять языка без потерь. У немцев иногда ротозеи есть.

У нашего начальства на этот счет свои соображения. Они воюют по карте и не имеют понятия, что делается на том или ином участке впереди. Они не задумываются над тем, что люди пойдут на верную смерть. Они это считают просто обязанностью разведчиков. Не хочешь сам умереть, – убей полсотни немцев! У меня на этот счет, – понятия свои! Мне нужно взять языка и сберечь своих людей.
На углу леса стоит сложенная из кусков дерна небольшая конура. От нее лес под прямым углом поворачивает и уходит в сторону немцев. Справа от опушки находится неширокий прогалок. За прогалком по ту сторону мелколесье и небольшие кусты. Оттуда иногда постреливают немцы. Где точно, в кустах или за кустами они сидят, мы пока не знаем.
На следующий вечер к опушке леса подошел Рязанцев с разведчиками.
– Нам щас в лес идти или подождать до утра?
– Ночью там делать нечего! Дождетесь утра! Позвени старшине, пусть палатку для ребят привезет. Поставишь ее вот здесь на ночь, а с утра после кормежки пойдете в разведку.
– За лесом, метрах в двухстах, проходит немецкая линия обороны и траншея. Вчера я посылал туда двоих ребят. Ваша задача с утра почесать лес, выйти на ту опушку леса, выставить охрану и организовать наблюдение. Чуть в глубине леса отроешь одиночные щели на случай обстрела. Раз в сутки будешь посылать мне связного. Я буду находиться здесь, в этом особняке.
На следующее утро Рязанцев ушел и через два дня явился лично, для доклада. Он обрисовал мне обстановку и предварительные данные о немецкой системе обороны. После этого я решил сам сходить туда и посмотреть на немцев.
Мы прошли лес, вышли на опушку и из-за больших елей, за которыми мы встали, осмотрели их переднюю полосу. Смотришь в бинокль, видны каски, пригнутые спины, стволы пулеметов, торчащие над бруствером. Немцы копаются в земле, стоят, сидят, разговаривают. Кое-где видны свежие выбросы земли из траншеи.
Иногда, отрываясь от дел, они посматривают в нашу сторону, таращат глаза – их тревожит безмолвие леса. Странные эти русские. Они не только не стреляют, их вообще нигде не видно. Возможно, немцы тоже на опушку леса смотрят в оптику. Но, где сидят их наблюдатели, мы не знаем. Мы пробуем с Федей забраться повыше на сучковатое дерево и взглянуть на немцев сверху. Но сидеть верхом на сучке неудобно и жестко. Ветви сосны от ветра шатаются. Сидишь, одной рукой держишься за ствол дерева, а в другой руке у тебя бинокль. Объектив все время шатается, местность уходит то вправо, то влево.
Немцы по лесу иногда пускают редкие мины и постреливают из пулеметов. Это у них в обычае. Вроде успокаивают себя и путают наших солдат. Но бьют они наугад. Славяне на этот счет молчуны и безответный народ. В такой стрельбе нет никакого толку. Немцы, те со страха стреляют. А нашим вроде и не к чему зря воздух выстрелами колебать. Немцы в сорок третьем не те стали. А наш солдат стрелок зря ничего делать не будет. Вот, для примера, взять ночью и посмотреть сверху на линию раздела. На нашей передовой полнейшая темнота. У немцев на душе аж тошно становиться. А сейчас, с опушки леса разведчики не подают даже признаков жизни. Передвигаются скрытно, ответной стрельбы не ведут.

– Как думаешь Федя? Может нам по кустам пройти до того бугра? Если тихо пойдем, немцы не заметят.
– Давай сходим!
Мы выходим из-за двух больших елей на открытое место и оглядываемся по сторонам. Впереди, метрах в ста, небольшой бугор, поросший кустами. Киваю головой Рязанцеву, мол, подходящее место.
– Давай пригнемся и сходим туда! Отрываемся от опушки леса и медленно, гусиным шагом двигаемся к бугру. На нас надеты пятнистые маскхалаты. Зеленые марлевые накидки опущены на лицо. В марле проткнуты небольшие дырки для глаз, через них все видно кругом. Поднимаемся на бугор, выходим на ровную площадку, прикрытую со всех сторон мелкими кустами. За нами вслед идут два разведчика. Я велю Рязанцеву послать их за стереотрубой. Пока они ее принесут, на это уйдет часа два, не меньше. Отличное место! – показываю я Феди рукой.
Ребята уходят назад, а мы садимся под куст, откидываем наверх под капюшон марлевые сетки и закуриваем. Пригасив окурок, я приваливаюсь на локоть, закрываю глаза, и на меня наваливается сон. Я с усилием открываю глаза, смотрю на Рязанцева, он тоже привалился к земле и тихо салит. Я протягиваю ноги, ложусь поудобнее и опускаю тяжелые веки. Я знаю, что немцы от нас довольно близко, но с собой совладать не могу. Кругом тишина. Тут нет тебе ни телефона, ни телефонных звонков. Тут ты сам по себе, хочешь – спи, хочешь просто так с закрытыми глазами лежи.
У нас обычно принято, когда мы очень устанем, подаемся поближе к немецким позициям, ложимся спокойно и спим. В таких случаях нас никто не тревожит и не вызывает.
Слышу сквозь сон какой-то назойливый звук. Вроде мина на подлете ворчит. Куда полетит? – соображаю во сне. Что-то она долго воркует? Пора бы ей, мине, ударить или пролететь. Немного пробуждаюсь и слышу, что это Федор Федорыч вполголоса храпит. Вот дает! Вроде не сильно. Пусть поворкует. И я опять засыпаю.
Двое разведчиков вернулись с трубой, пробрались сквозь кусты, глядят, а мы неподвижно лежим на земле.
– Вроде убиты? – шепчет один.
Подобрались поближе, слышат, Федя храпит. Все стало ясно. Начальство притомилось! Положили под куст стереотрубу, присели, покурили.
– Будем будить?
– Пусть поспят! Мы тоже приляжем!
Через час я проснулся, открыл глаза. Огляделся кругом, смотрю – стереотруба лежит под кустом и около нее спят двое разведчиков. Солнце припекает. У одного, аж нос вспотел. Разведчики! Ничего не скажешь!

С нашей стороны вроде бы и нехорошо, что мы завалились спать. Мы с Рязанцевым не солдаты и при исполнении служебных обязанностей. Плохой пример для подчиненных показываем. А с другой стороны, как на это посмотреть. Подошли поближе к немцам, и спать завалились. Нам вроде и немцы не почем. А при выходе к немцам не всякий идет без муки в душе. Иного пробивает мелкая дрожь. Но и потом она проходит. Человек быстро со всем свыкается.
Я разбудил солдат и велел им ставить стереотрубу.
– Вот здесь, на краю кустов! И можете к ребятам в лес отправляться!
Ребята поставили трубу и ушли. Они вернулись на опушку, где находились остальные. Потом разговор их, мне передали.
– Ты чего за дерево встал? От каждой пули к земле приседаешь?
– Вон мы пришли на бугор, смотрим, а капитан и наш любимый Федя спят под кустом. Лежат у немца под носом. А Федя наш, тот аж, как кот во сне мурлыкает. Лежит и храпит. Немцы наверно подумали, что это лягушка в болоте пузыри пускает.
– Ну да?
– Вот тебе и нуда!
Труба обмотана пятнистыми лоскутами маскхалата. Ничего яркого и контрастного нет, если смотреть на нее из близи. Не знаю, видят ли немцы нас в открытом пространстве. Мы шевелимся осторожно, стараемся не делать никаких резких движений. В первый момент как-то неприятно, вроде не по себе, будто кишки прилипли к хребту. Внешне я абсолютно спокоен, не подаю никакого вида. Хотя каждую секунду со стороны немцев может грянуть выстрел.
Смотрю на Рязанцева, он сидит, растопырив ноги. Мы, как будто друг перед другом на пули плюем. Но я знаю по себе, что он тоже ждет первую пулю. Чья она будет? Его или моя? Первые минуты, когда мы поднялись из-за кустов проходят томительно. Но прицельных выстрелов со стороны немцев, кажется нет. Они нас не видят. Это были шальные пули.
С бугорка хорошо все видно. Поворачиваю голову назад, смотрю на опушку, разведчики с опушки посматривают на нас. Пусть смотрят. Когда на тебя подчиненные смотрят, а ты сидишь на открытом месте, впереди – слова не к чему! Доказывать на словах ничего не надо! В нашем деле важен живой пример.
Мы с Федей знаем, как нужно вести себя на открытом месте. Мы сидим, как истуканы, не двигаясь. Один резкий поворот головы или не осторожный взмах руки и немцы нас тут же обнаружат. Мы торчим вроде, как пни из земли. У нас с Федей сидячая, устойчивая поза.
Я сижу за стереотрубой и смотрю в прикрытую зеленой марлей оптику. Слева на право видна немецкая траншея. Чуть дальше, в глубине, невысокая насыпь солдатского блиндажа и минометная ячейка. При выстрелах миномета над бугром появляются всполохи дыма. Вот из траншеи высунулся немец, вытянул шею и смотрит вперед.

Немцы ни одной минуты не могут спокойно посидеть на месте. Все о чем-то болтают и треплют языком. Наши давно бы спать, среди дня завалились. А эти, все время о чем-то толкуют. Из немецкой траншеи слышаться возгласы:
– Ан! Хай! Аляй! и Ля-ля-ля!
В стереотрубу с талого расстояния отлично все видно. У немца прыщ на носу можно разглядеть. Вот, что значит оптика! Так и тянется рука, немца двумя пальцами за нос схватить.
– Федь! А Федь! – говорю я шепотом.
– А, что?
– Как думаешь? До вечера далеко? Может скоро смеркаться начнет?
– А, долго еще сидеть? Может пора уходить? – и Федя, не поворачивая головы, смотрит на небо. Мы живем по дневному светилу. Часов ни у меня, ни у него нет.
Я понаблюдал еще пару часов, сложил стереотрубу, надел на нее чехол и положил под кусты.
– Завтра с ребятами продолжишь здесь наблюдение!
Мы покинули наблюдательный пост, и я ушел к себе, в сложенную из дерна обитель. Рязанцев вернулся к ребятам на опушку леса. Я знал, что он на ночь выставит часовых и завалится спать. Спать будут все свободные от ночного дежурства.
Рязанцева я с поиском не тороплю. Приказа на захват контрольного пленного из дивизии не поступало. Полковое начальство меня не трогает. Разведка идет своим чередом. У нас каждую ночь одна группа выходит к немецкой траншее. Ребята полежат, послушают и перед рассветом возвращаются назад. На следующую ночь, выходит к траншее другая группа. Мы ведем поиск. Нащупываем у противника слабые места.
На четвертый день в кустах, на подходе к опушке леса, разведчики схватили русского солдата. Он шел с той стороны, пробираясь к лесу в сторону нашей обороны. Его быстро доставили ко мне.
Одет он был в солдатскую шинель, но поясного ремня и винтовки при себе не имел. Он чисто говорил по-русски, без всякого немецкого или еврейского акцента. Ребята сказали ему:
– Ну-ка, матом пусти! Если, как ты говоришь, что ты русский? Он выругался, как положено солдату.
– Вроде и, правда, ты свой!
Это был пожилой стрелок солдат, не бритый, как все наши славяне. Он был из соседней дивизии, с которой наш полк наступал неделю назад. Он назвал номер своего полка. Все точно совпало.
Разведчики взяли его в кустах без шума и тут же привели его ко мне. Неделю назад, как рассказал солдат, во время атаки он случайно нарвался на немцев.
– Где именно? – спросил я его.
– Не знаю! Мы с взводом сидели в низине. Когда нас подняли в атаку, я подумал;
– Пока немец не бьет, нужно быстрей двигать вперед. Я шел впереди. За мной паренек молодой.
– Ну и как тебя взяли в плен?

– Как? Вроде очень просто! Я шел, шел! Прибавил шагу. Поднялся на бугор. Смотрю! Вроде наши лежат. Я к ним. А они мне – Хенде хох! Значит – руки кверху. Поднимаю руки, оборачиваюсь, слышу, кто-то сзади сопит. Смотрю тот паренек с нашего взвода. В трех шагах прет за мной. Вот мы и попали к немцам.
– А потом?
– Потом нас взяли, отобрали винтовки, отвели куда-то и посадили в сарай. Дня три или четыре мы там сидели. Как-то ночью вылезли мы через разбитую крышу. Подались к лесу. Вот и добрались к своим.
– А паренек, твой напарник, где?
– А он там. Остался в кустах, сидеть. Я пошел вперед посмотреть. А он лег и небось, дожидается в кустах меня.
Я повернулся к Рязанцеву и мотнул головой. Велел ему быстро послать ребят и обшарить кусты.
Ребята обыскали все кругом но, к сожалению его не нашли.
– Ну вот что, солдат! Придется тебя направить в штаб для допроса и установления личности. Из штаба тебя, сам понимаешь, передадут в контрразведку. Живых свидетелей у тебя нет. Ранения ты не имеешь. Фактов и доказательств никаких. Говоришь ты вроде все складно и гладко. А слова без фактов и доказательств – пустой звук. Туго тебе придется, если из вашего взвода никого в живых не осталось.
– Ты лучше мне вот что расскажи! Какая у немцев здесь оборона? Где укрепления, где болото, по которому ты шел. Где тебя взяли в плен? Где ты в сарае сидел? По карте можешь показать? Обратный путь вспомни, как следует. Вот немецкая траншея. Вот кусты, где тебя мои ребята взяли. Вот карандаш! Бери и на бумаге все изобрази!
– Мы товарищ капитан ночью по болоту и лесом шли. Где мы перешли немецкую линию обороны я не знаю. В лесу и по болоту мы ночью плутали. Я не знал, что здесь в лесу наши стоят. Может, не умею, как правильно все рассказать? Вижу вроде солдаты и наши автоматы. Я из кустов и поднялся.
– Конечно! – подумал я. Солдат ничего толкового не скажет. Где и как он шел? Ночью ничего не видел. Да и внимания не обращал. Это и понятно. Он смотрел, как бы не напороться снова на немцев.
Смотрю на небритое и исхудавшее лицо солдата. Ему лет сорок. Держится он естественно и спокойно. Рад, что добрался к своим. На лице у него иногда мелькает улыбка, глаза загораются радостью. Вернулся к своим!
Жаль мне его. Если солдаты в его взводе остались и подтвердят, что он не трус – страшного с ним ничего не произойдет. В свою роту он обратно не попадет. Не было еще случая, чтобы сбежавший солдат из немецкого плена после проверки возвращался обратно в свою стрелковую роту. Так уж заведено. Я не мог отпустить его на волю, чтобы он самостоятельно вернулся в свою роту. Разведчики повели его в штаб.
Мы каждую ночь продолжали ползать по немецкой передовой. Теперь мы подались левее и ближе к болоту. Поисковые группы уходили туда каждую ночь. Дня через два группа Сенченкова вернулась из ночного поиска и доложила, что за болотом можно спокойно и без потерь взять языка.

Где-то там за болотом проходила дорога. На рассвете в сторону переднего края немцев по дороге прошла немецкая повозка. На повозке ехали двое немцев. Здесь, по-видимому, они на передовую доставляют боеприпасы и продукты. Сенченков предложил:
– Если ночью где-либо взорвать дорогу, то повозка поедет с рассветом и ей придется воронку объезжать стороной. Нужно только выбрать подходящее место, чтобы съезд с дороги подходил близко к кустам. Немцы замедлят ход. Подъедут близко к кустам, в этот момент мы их и возьмем. Захват группа сразу отойдет через лес, а группа прикрытия прикроет отход.
– Как думаешь Федор Федорыч? Сенченков предлагает отличный план.
– Это, не я один. Это, мы всей группой обдумали.
– Думаю, что дело здесь чистое! Ты Федя с ними пойдешь? Или они сами без тебя это дело обделают?
– Пусть сами! Зачем у них хлеб отбивать!
– Только вот что Федя! Ты должен им обеспечить две надежных группы прикрытия. Взрывные работы пусть возьмет на себя Хомутов! Отбери сегодня ребят в группы прикрытия. Соберите всех. Обговорите еще раз план действий по минутам. Каждый должен знать свое место, время, порядок действий и задачи, стоящие перед ним.
– Не будем Сенченков в этот раз тебе мешать. А то ребята подумают, что как только дело верное, командир взвода хочет взять его на себя. Сделаете еще один выход. Закончите подготовку, придете ко мне, обсудим все детали подробно. Может, я критику наведу. Для пользы дела, конечно. И вот что еще! Зачем вам на дороге ночью ямы рвать? Прикиньте, подумайте, возможно, есть другие варианты? Потом выберем один из них и утвердим один вместе.
Группа Сенченкова стала готовить задачу. Захват языка наметили провести через два дня.
Утром меня вызвали в штаб. Начальник штаба мне сообщил:
– Командир дивизии устраивает прием офицеров дивизии по поводу какого-то торжества.
– Будет банкет? – спросил я начальника штаба.
– Не банкет, а прием офицеров, организованно и как положено.
– На сухую, что ль?
– Каждому из вас выдадут по сто грамм водки, хлеба и по куску сала на закуску. Водку, сало и хлеб потом вычтут из вашего пайка.
– А махорку брать с собой? Может папирос выдадут по пачке на брата?
– Не язви! Табачные изделия на приеме не фигурируют! Не все, как ты, курящие.
– А, где будет прием? В сарае, в блиндаже у Квашнина или в кустах, на чистом воздухе?
– Опять ты за свое! Саперы поставили большую санбатовскую палатку, сбили из досок длинный стол, лавки поставили.
– А я думал, будем в строю стоять.
– От нашего полка на прием поедут не все. По списку, туда могут поехать командир полка, его замы, я, ты, два комбата. От командиров рот один делегат. Тебя включили в список. На приеме Квашнин выступит с речью.

– Интересно! Как он будет, так говорить или по бумашке читать? И вообще как-то странно. К командиру дивизии по списку будут пускать.
– Не пускать! А продукты потом вычитать!
– Ладно, поеду! Интересно посмотреть на наше высшее доблестное офицерство!
– Ты, как всегда, иронизируешь капитан!
Дела разведки и подготовку к поиску я поручил Рязанцеву.
– Особенно не торопись! – сказал я ему.
– Сходи сам на место и посмотри! Может, что придумаешь попроще и покороче?
Тут Федя нужна простота и предельная точность. Меня завтра не будет. Нас повезут на прием к командиру дивизии. К вечеру вернусь, обо всем расскажу.
Утром на следующий день начальник штаба позвонил мне по телефону.
– Первый приказал всем офицерам полка привести в порядок свой внешний вид. Ты почистил сапоги и пришил белый подворотничок?
– Сапоги я в воде помою, гуталина нет.
– А воротничок ты подшил?
– Нет, и не думал.
– Это почему?
– Нам, разведчикам, нельзя с белой полоской на шее ходить. И у старшины белой материи нет. Вам, наверно, полковые батистом подшили?
– Придешь сюда, я прикажу, тебе подошьют. В дивизию поедем верхами. Лошадь под седлом, для тебя тоже есть. Давай топай сюда и без опоздания! В дивизию поедем все вместе.
Впереди ехал наш полковой командир. Рядом с ним, стремя в стремя, на боку в седле сидел его ординарец хохол. За полковым, сзади ехали два зама. Я и начальник штаба за ними. А позади нас комбаты и младший лейтенант – представитель от роты. Ехали где рысью, где шагом. В галоп не переходили. Командир полка спиной показывал, что держаться в седле нужно с достоинством и солидно. Он не хотел вспотевшим, как взмыленная лошадь, предстать перед глазами офицеров дивизии и самого. От нас, тоже требовалось степенство и скромность.
В большой санитарной палатке нас, офицеров, сажали по списку. Кто чином больше, садился ближе к алтарю. А нас смертных лейтенантов и капитанов расположили ближе к выходу и концу стола.
На столе стояли латунные гильзы, заправленные бензином и фитилями. Когда их зажгли, мне показалось, что они очень похожи на толстые сальные церковные свечи.
Говорили все мало, входили, здоровались кивками головы. Молчали по всякому, кто из скромности, кто из солидности, а кто просто так, на сухую, не привык говорить.
Там, в начале стола, переговаривались между собой командиры полков. А те, кто сидели на лавке по списку и ближе к выходу, опустили вниз руки и держали их под столом. Они из темного конца стола смотрели на другую, залитую светом половину.

Я посмотрел на лейтенантов, сидевших рядом, около меня. Они не сверкали орденами и медалями. У них в гимнастерках были ввернуты гвардейские значки. Значки выдавали офицерам не сразу по прибытию в дивизию. А солдаты для себя добывали значки, снимая с тяжело раненых и убитых.
Во время ожидания начала торжества на меня посмотрел майор, наш начальник штаба полка. Я ткнул себя пальцем в грудь и показал рукой на выход. Майор отрицательно покачал головой и ладонью придавил воздух, как бы осадив меня к лавке, на место. Сиди, мол, и не рыпайся!
Грустно вот так сидеть и смотреть на ту половину стола. Собрались бы без нас и улыбались бы до самых ушей. А им надо, чтобы мы на них со стороны смотрели.
Сидишь, как в коридоре на прием к зубному врачу, слушаешь разговор, о чем они между собой бормочут. Прислушается, вроде одни и те же слова. "Ты мол! Да я мол! Помнишь, как мы с тобой!" Как старики на завалинке. Зачем нас сюда привезли? Нужно же перед кем-то показать себя в орденах и при шпорах!
За столом с той стороны, если подсчитать, сидят офицеры штаба и служб дивизии, представители артполка, зенитного дивизиона, командиры стрелковых полков, их замы, начальники штабов, полковые артиллеристы и прочие чины из снабжения, их больше полсотни. И нас в темном углу, на отшибе два десятка боевых офицеров со всей дивизии.
Некоторые из наших, вновь прибывшие и молодые от восторга разинули рты и смотрят на доблестное офицерство дивизии.
Из второго эшелона полков и дивизии, здесь собраны не все интенданты и жулики в офицерских погонах. Если к этой полсотни элиты прибавить еще сотню тыловиков в погонах с одним просветом, то легко можно подсчитать, сколько их сидит за спиной окопников.
Нас в дивизии всего десятка три. Это тех, кто воюет и сидит вместе с солдатами в передней траншее. Что же получается? Сколько тыловиков мы имеем за своей спиной? Все они сытно едят, спят в обнимку с бабами. А мы держим фронт, кормим вшей, получаем раны и умираем впроголодь?
Мы знаем, что это наш Долг! Долг перед Родиной, перед нашей русской землей, перед нашей историей и перед всей этой тыловой братией.
Мы простые смертные вместе с солдатами делаем историю. Мы идем на смерть за святую правду. Иначе нельзя. Как мы будем смотреть в глаза своим солдатам?
Но мысли мои прерваны. В проходе с той стороны откинуты полы палатки. Кто-то зычно и громко рявкает, голос басовитый, как у дьякона.
– "Товарищи офицеры! Встать!"
Голосище, подавшего команду, специально подобрали. Чтобы не было писку и хрипоты с перепоя. Мы встаем и выпячиваем грудь.
Квашнин подходит к столу в окружении личной свиты. Тот конец стола расположен в виде буквы "Т". Он обтянут красной материей.

– Товарищи офицеры! Здрась-те! – произносит он баловито и шепелявит при этом.
– Здравия желаем! – орем мы, во всю глотку.
Не помню, о чем он говорил, вернее, читал по бумажке. Речь его мы слушали стоя. Во время его речи у меня в голове застряла какая-то мысль. Всегда так бывает, когда я очнулся, он уже кончил. Когда он кончил, мы захлопали в ладоши, нам подали команду и мы сели. Теперь мы смотрели на командира дивизии.
В палатку гуськом вошли солдаты комендантского взвода и против каждого из нас поставили железные кружки, налитые водкой. Кружки сверху были накрыты куском хлеба и сала. Под закуской на дне плескалась стограммовая порция водки. Тут без всякого недолива, капля в каплю и заметьте – без добавления воды.
Впереди сидящие встали, мы тоже оторвали задницы от лавок и стояли на ногах. Опять что-то говорили и потом мы опрокинули кружки. Мы снова плюхнулись на лавку, положили локти на стол, и прикусывая хлебом, стали зубами отрывать ошметки от куска жилистого сала. А, что нам? Мы были зубастые, бестолковые и молодые.
По правую руку от Квашнина сидел молодой, преуспевающий подполковник Каверин. Это его любимчик, как говорили тыловики. У тыловиков, как и у баб, чесались языки по поводу Каверина. Говорили, что он внебрачный сын Квашнина, что Квашнин привез его с собой и быстро двигал по служебной лестнице.
Квашнин считал его исключительно одаренным и выдающейся личностью. Его замы и начальники служб говорили – Конечно! А среди тыловиков находились и такие, которые могли пустить слушок и он доползал даже к нам, к смертным, в окопы.
Прибыл Каверин в дивизию капитаном, под Духовщиной он был уже майором, а после Рудни стал подполковником, с тремя боевыми орденами, не то что два майора, командиры других двух полков. Рядом с ним на лавке сидела его ППЖ ст. лейтенант мед. службы. Она, говорят, вроде раньше пустое место в медсанбате была, а теперь, смотри, сидит рядом с Квашниным при орденах и медалях. Она теперь состоит в свите самого.
А что мы смертные? Мы землю роем рылом и кормим в окопах вшей. У нашего брата лейтенантов ни заслуг, ни орденов, ни медалей. У нас в груде ввернуты гвардейские значки, для приличия. Я не говорю о себе. Я разглядываю сидящих рядом со мной лейтенантов. У меня Звезда. Я ее под Духовщиной схватил.
За столом идет оживленный разговор, при ярко горящих снарядных гильзах на той половине. А у нас на краю, молчаливый покой. Мы не знаем друг друга. Мы переменный состав в полках. Нас никто здесь не знает ни по фамилии, ни по должности. Нас отмечают полковые писаря по списку, когда считают на роты количество солдатских пайков.

Я вылез из-за стола, вышел из палатки, прикурил и затянулся сигаретой. Часовые, стоявшие у входа, кинулись, было ко мне, хотели сделать замечание, что на открытом воздухе я появился с огнем. Но увидев, что я без противогаза и поняв, что я разведчик, отошли назад и решили не заводить со мной разговор. Я поманил пальцем солдата, стоявшего у коновязи, и велел ему подвести мою лошадь.
– Передай начальнику штаба, что я, уехал к себе!
Вскочив в седло, я не торопясь, пустил лошадь по дороге.
Добравшись до своей лесной хибары, соскочил на землю, кинул повод на руки, стоявшему часовому, позвал ординарца и велел ему садиться верхом.
– Поезжай к старшине! Кобылу в тылы полка сдай! Разрешаю тебе на сутки остаться у старшины в палатке. Отдохни! Потом вместе со старшиной, через сутки, сюда вернешься!
В хибаре вместе со мной находился ординарец и иногда приходил Федор Федорыч. Когда являлся командир взвода, ординарец уходил спать в палатку к ребятам, где сидели и дежурные телефонисты.
Не успел я развалиться на нарах в своей хибаре, слышу за занавеской, перед входом, покашливание нашего старшины. Ординарец уехал. Они видимо встретились где-то на дороге. Тимофеич молча прилез в хибару, достал откуда-то из-под себя обшитую войлоком фляжку и постучал железной кружкой по краю стола. Это он из нее карманный мусор вытряхивал.
Отвернув горлышко у фляги, он нацедил в кружку спиртного и осторожно, молча подвинул мне. Я посмотрел на него, покачал головой, взял кружку, сделал несколько глубоких глотков и вернул ее старшине. Он обхватил кружку своей шершавой ладонью, опрокинул в нее горлышко фляги, нацедил, сколько нужно и молча, вздохнув, вылил в себя. Не говоря друг другу ни слова, мы выпили еще раз и закусили сальцем.
– Ну что, товарищ гвардии капитан? – пробасил старшина, когда я прожевал и затянулся сигаретой.
– Как вас, там угощали?
– Не спрашивай старшина! Там по списку и по сто грамм на каждого, что положено!
– С меня на складе за вас продукты и водку вычли.
– Может еще, грамм по сто махнем? Что-то на душе не спокойно?
– Нынче я получал на складе продукты. Кладовщик отмерил водку на взвод и одну мерку выплеснул обратно в бочку.
– Больше по краям разплескаешь! – говорю ему. А он свое:
– Положено и отбираю!
Я протягиваю ему часы с браслетом и говорю:
– С тебя Филичев четыре фляжки чистого спирта причитается! А ты стограммовой меркой водку переливаешь. Больше по краям разплескаешь, чем обратно в бочку попадет!
– Это казенное! А это свое! А свое, это совсем другое!
Взял у меня часики, прислонил к уху и давай наклонять голову туда и сюда. Это он слушал, не измениться ли звук хода при наклоне головы, как в старых часах.
– Не верти головой! Ходят как надо! Разведчики старые часы в обмен на чистый спирт не дают. Я вот проверю сейчас твой спирт, не подлили ли ты туда водицы?

– За товар первого сорта, я тоже даю не разбавленный! Из этой бочки я для начальства даю.
– Давай лей Филичев четыре фляжки чистого и смотри, чтоб как детская слеза!
Если ребята узнают, что налил разведенного, повесят тебя Филичев на первом суку. И никто не будет знать, где ты отдал концы.
– Так что теперь, товарищ гвардии капитан, у нас есть запас спиртного.
– Разрешите идти ребят кормить?
– Иди старшина! А я отдохну немного.
Прошло три дня. Я по-прежнему находился в своей избушке слаженной из земли и дерна. Рязанцев с ребятами лазил по передку, высматривал и вынюхивал, как квартирный вор, где бы легко, без лишнего шума чего стащить. Ко мне он уже несколько дней не являлся. По-видимому, ничего хорошего пока не нашел.
На третий день он пришел угрюмый и недовольный.
– Ну, что с повозкой? – спросил я его.
– Немецкая повозка на дороге была случайная. После нее на дороге ни свежих следов, ни кого! Трое суток лежали в кустах. Никакого движения! Есть одно место! Давай вместе пойдем, посмотри!
На рассвете мы вышли с ним, и он показал мне свое облюбованное место.
Я отмел его предложение начисто. После выхода мы вернулись на угол леса к себе в домишку. Я улегся на нары, лежал и глядел в потолок. Рязанцев садился на толстый обрубок бревна, стоявший в углу у входа, молча курил и моей оценкой был не доволен.
Самому, что ли мне искать? Или подождать пока он сам найдет? – думал я, разглядывая потолок.
На меня последнее время, иногда, наваливалась усталость войны. Ко всему появлялась апатия, пустота и какое-то безразличие. Три года на передке и все одно и тоже!
– Ищи что-нибудь другое и в другом месте!
– А чего искать? Надо и тут попробовать!
– То, что ты предлагаешь не годиться! Мы понесем здесь большие потери! Нужно найти другое место, где без лишнего шума можно взять языка!
Неужель, у ребят фантазии нет, а у тебя понятия никакого? Мы здесь можем потерять половину людей! А потом, что будем делать?
– Как хочешь! Другого места нету!
– Как это, нету?
После этого разговор прерывался, и на некоторое время наступала пауза.
– Позвони старшине! У Бычкова сапоги развалились. Подвязал подметку проводом и ходит скоблит по земле. Ноги собьет, а ты взводный не видишь.
Ему сапоги нужно заменить немедленно! Позвони старшине, сообщи размер сапог и скажи, чтобы сегодня вместе с кормежкой пару исправных доставил Бычкову.
– Связь не работает! Где-то на линии обрыв! Послали связиста на линию, а его минометным обстрелом прибило. Может, исправят к вечеру.

– Откуда ты знаешь, что связь перебита?
– Часовой доложил.
Опять в голове какая-то ненужная мысль застряла. Три года в боях и чего-то все ждешь. Вот так придешь, ляжешь на нары, уставишься в потолок и в голову лезут всякие мысли. Ну, что капитан? Сколько тебе осталось жить? Когда она, костлявая, навалится на тебя? Сегодня или завтра? Сама-то она не страшна. Ждать надоело. Хорошо и легко когда ее не ждешь!
Вон, как связист! В тылах полка, далеко от передовой, а попал под минометный обстрел, шальная ударила и сразу!
– Стоп! Вроде хорошая мысль пришла!
– Федь, а Федь!
– Ну что?
– Телефонная связь там проходит?
– Где?
– Где, где! Там вдоль опушки, около дороги, за болотом?
– Где ты имеешь в виду?
– У немцев, за болотом, где вы за повозкой охотились!
– Вроде проходит! А что?
– Не вроде, а точно надо знать! Где она и как проходит? Как подвешена? На земле лежит или идет на шестах? Далеко ли от опушки леса проходит? Может где местами на сучках деревьев висит? Сегодня же ночью пошли туда поисковую группу. Пусть полежат, послушают, оглядятся кругом. С тех пор, как вы туда последний раз ходили, считай, дня четыре прошло. Нужно снова все кругом проверить, чтобы не нарваться случайно на немцев. Ночью пусть вдоль дороги пройдут. С рассветом нужно будет эту связь отыскать и оглядеть ее, как следует. Предварительно план поиска будет такой:
– Делаем на линии обрыв провода в двух местах. Чтобы было все натурально и естественно, завалите сухое дерево где-то на линии. Немцы подумают, что обрыв произошел именно от него. На исправление линии выйдут двое. Немцы по одному, как наши на линию не ходят. Первый обрыв мы дадим им исправить. Их нужно успокоить. А на втором мы их и возьмем.
– Мы не знаем, с какой стороны они пойдут.
– Нам Федя этого и не нужно знать. Нам все равно, откуда они появятся. Мы сделаем два обрыва. К каждому обрыву выставим захват группу. Если немцы пойдут с переднего края, то правая группа их пропускает, а левая будет брать. Немцам нужно дать спокойно исправить первый обрыв. Пойдут дальше, увидят, что дерево натянуло провод. Подойдут ко второму обрыву, тут мы их и возьмем. Групп прикрытия буде тоже две. Их задача обеспечить отход и прикрыть с флангов группы захвата. Они возьмут огонь на себя, если на дороге случайно появятся немцы.
К этому плану нужно все заранее изучить и просмотреть. Могут появиться и другие варианты во время разведки. Советую первый выход тебе туда самому сходить. Мне важно знать твое просвещенное мнение. Завтра, когда вернешься обсудим заново план и внесем в него коррекции.

Но не так все случилось, как я предполагал. В нашем деле часто случайность, успех вершит. Федя ночью вышел с группой ребят на дорогу и на рассвете случайно наткнулся на двух немцев, которые по дороге здесь шли. Один из немцев оказал сопротивление, ранил двух наших ребят из автомата, его пришлось пристрелить. Другой, видя, чем это может кончиться, бросил свое оружие и поднял руки вверх. После этого мы имели неделю законного отдыха.
Однажды вечером в походе моей землянки появился наш старшина.
– Ну, как старшина, накормил наших молодчиков?
– Ребята довольны! Я к вам по другому делу.
– Что там у тебя?
– Меня в штаб полка вызывали. Сказали – командир 48-го полка убит. Велели спросить, вы поедете на похороны?
– Какие еще похороны? Ты о чем старшина говоришь? Разве на фронте, здесь у нас, кого всей дивизией хоронят?
– Вы не в курсе дела. Убит Каверин. Вчера снарядом его убило. Начальник штаба велел вам передать, что от разведки одного представителя нужно послать. Похороны с оркестром завтра в 11°° в Леозно. Это тот самый молодой подполковник, которого в полку никто не любил? Родственник Квашнина?
– Он самый, старшина.
Старшина присел на край нар, достал свой кисет в виде женских панталон, со шнурком на поясе. Растянул шнурок, достал щепоть махорки и закурил.
Кисет у старшины был здорово похож на нижнюю женскую часть без юбки. Старшина не любил курить трофейные сигареты. Они пахли веником, как он говорил, и крепости никакой не имели. Мы сидели на нарах некоторое время молча.
Я вспомнил первый момент, когда впервые увидел Каверина. Тогда, он был еще капитаном. В дивизии он появился вместе с Квашниным. Числился в штабе, а появлялся на глаза вроде как адъютантом. Под Духовщиной он получил полк и быстро стал майором. А после Леозно он был уже подполковником. Не долго он поднимался по лестнице. И вот теперь пришел его конец.
Интересные дела, творились тогда на фронте. В боях отличались подставные лица, а те, кто шел на смерть, оставались в тени. Духовщину брал наш полк. На следующее утро в городе появился Каверин. И что вы думаете? В официальных отчетах дивизии взятие Духовщины было приписано этому Каверину.
– На похороны поедешь ты старшина. Будешь, так сказать, представителем от разведки. Надень свой новый картуз. Тыловые все в картузах на похоронах будут. Побрейся, подмойся, одеколоном надушись. А то все время ходишь не бритый и от тебя запах идет, как от солдатской портянки. Ты старшина разведчик. У тебя должен быть гвардейский вид. Потом придешь, расскажешь нам с Федей, что там было.
Старшина с похорон явился трезвый. На поминки к столу его к Квашнину не пригласили. Старшина рассказал:
– Каверина хоронили в гробу, обтянутом красной материей. Венки из лапника наделали. Ленты с надписями подвесили.

Саперы бревна пилили на доски, отстрогали и пригладили их фуганком. Гроб сколотили по всем правилам похоронного дела. Перед опусканием в могилу гроб накрыли гвардейским знаменем дивизии. Оркестр жалобный марш играл на трубах, Батарею пушек сняли с передовой. Боевыми стреляли, когда гроб опускали в могилу. Всю тыловую братию согнали туда. Командиры полков стояли у гроба. Ружейный салют из семнадцати залпов в воздух дали.
– А почему семнадцать? – спросил я.
– Наша дивизия семнадцатая, вот семнадцать и дали. В общем, похороны прошли на высоте! Дело сделано. От судьбы не уйдешь! Кто шибко торопится, тот высоко взлетает и быстро падает! Уж очень жалостную музыку на трубах играли. Квашнина и эту ППЖ Каверина под руки держали.
– А куда теперь его сожительница денется?
– Не знаю! Не могу сказать тебе старшина. Найдет в тылах себе какого старпера.
– Я так, для интереса спрашиваю. Ребята могут вопрос такой задать.
– Ребятам не о сучках старшина нужно думать. Ребятам к смерти нужно готовиться, а не об занюханных бабах думать.
После разговора со старшиной, мы несколько дней простояли на том же месте. Лежим как-то мы с Федей в своей дерновой лачуге, или как мы ее иногда называли – в дерьмовой конуре, и разговор зашел – почему на войне люди друг друга убивают.
– Почему мы на войне убиваем немцев, а они бьют нас? Я понимаю, что они на нас напали, зашли на нашу территорию и мы должны выбить их с нашей земли. Но почему люди вообще друг друга убивают?
– Потому что один хочет показать себя, что он сильней. Вот, например ты:
– Увидишь немца, а он в тебя целиться, а ты первый стреляешь. В Душе у тебя злость и азарт. А когда видишь, убитый немец лежит, у тебя ни злобы, ни гнева, и ты даже сожалеешь, что видишь убитого. Но ты доволен. Он был слабее тебя и ты его убил. Ты можешь в горячке убить и командира полка, который орет и угрожает тебе несправедливо. Но тебя что-то удерживает.
– А немца, что? Взял и убил. С сознанием дела, что выполнил долг перед Родиной. Или еще один пример: помню, где-то после Духовщины задержались мы на открытом рубеже. День был жаркий и даже душный. Кругом тишина. Мы лежали в траве. И от куда-то вдруг на нас налетели слепни. Сядет такой, где на бок, проткнет хлопчатую гимнастерку, кольнет в кожу, чтобы крови напиться. Ты его ладонью, а он взял и слетел. Досада такая! Он тебя укусил, а ты мимо промазал. Ждешь другого. Этого не прозеваешь. Только сел и слегка чуть кольнул, ты его хлоп и зажал между пальцев. Отрываешь ему голову. Вот теперь и рассуди. Он тебя чуть-чуть, а ты ему голову набок. И приятно самому.

Вот так и с немцами мы. Ранит, кого из ребят, берешь винтовку с оптическим прицелом и идешь с ночи куда-нибудь вперед. На рассвете, ловишь двух, трех на мушку, сползет безжизненно немец на бруствер и у тебя на душе удовольствие и покой. За двух раненых наказал жизнью нескольких немцев. На них по немецким потерям, в полк отчет не даешь. Это, так сказать, твои жертвы для успокоения, в отместку. Все делается просто. И не идешь на обратном пути и не орешь, – "Я за Родину отомстил!" Просто взял и убил.
– Ты капитан всех немцев здесь перебьешь! Не останется ни одного.
– Всех, ни всех, а если заняться серьезно? Как ты думаешь? Можно за месяц в немецкой траншее с полсотни уложить? Выделишь мне человек пять ребят выслеживать цели, а я буду приходить и всаживать немцам по пули. Это будет похлеще, чем ты одного живого за месяц приволочешь. Вот так Федя! Командир полка не знает, какие возможности и таланты зря пропадают.
А чтобы без трепотни, скажи старшине, чтобы завтра винтовку с оптическим прицелом сюда доставил. Давай на охоту сходим вдвоём. Ты будешь смотреть в стереотрубу и указывать мне цели, а я буду по одиночным целям стрелять. Промахи и попадания ты будешь видеть в трубу. Давай все готовь. Завтра на практике с тобой все и проверим.
На завтра старшина винтовку только к вечеру привез. Искал, говорит, с хорошим боем. Всю дорогу пока на повозке трясся, держал ее на плече, от ударов берег. Бронебойных патрон целый цинк приволок.
– Ну и куда мы пойдем?
– Пойдем Федя за лес на бугор, откуда в трубу мы с тобой когда-то смотрели. Сегодня ночью пошли туда ребят. Пусть лопаты возьмут и дерна нарежут. Нужно площадку из дерна там соорудить. Уровень ее должен быть чуть ниже кустов, чтобы я мог лежа целиться. Пусть отроют щель на случай обстрела. Днем с опушки леса всех ребят придется убрать. Как только первый немец получит нашу пулю, немцы тут же по опушки артиллерией начнут бить. Им в голову не придет, что мы стреляем с близкого расстояния.
– Вдвоем пойдем?
– Ординарца на всякий случай с собой возьмем. Мало ли, что может случиться? Вот и все! Считай, делю решено! Утром завтра на охоту выходим. Взбодриться надо немного. А то залежались мы, завшивели мы здесь с тобой совсем.
Когда все было готово и когда на рассвете мы вышли, все было так, как я предполагал.
После первого моего выстрела немец остался лежать неподвижно, уткнувшись лицом в невысокий бруствер.
– Давай ищи следующего! – показал я пальцем в сторону немецкой траншеи. Минут через пять Федя показал мне два пальца. Потом он мне на пальцах показал расстояние вправо в тысячных. Я отсчитал от ориентира расстояние вправо, навел прицел на край бруствера и увидел новую цель.
В проходе между двумя стрелковыми ячейками стояли и разговаривали два немца. Какого бить? – подумал я. Тот, что стоит ко мне спиной? Или того, у которого видны лицо, шея и плечи? Пуля ударит без всякого звука. В тело войдет без щелчка. Второй будет стоять и ничего не услышит. Нужно только успеть быстро, перезарядить затвор и вторую пулю пустить. Пока до немца дойдет, что приятель его умирает, он свою получит взахлеб.

Сейчас вопрос. В кого из них делать первый выстрел? Этому, что стоит спиной, можно перебить хребет. Только нужно точно угодить в позвоночник. Попадешь случайно в плечо – немец заорет, как недорезанный поросенок. Этого или того? Танцы или песня? Я махаю Феде пальцем – смотри, мол, делаю первый выстрел! Подвожу перекрестие оптического прицела под того, что стоит ко мне лицом. Тот, что стоит спиной, обязательно повернется в сторону леса. Откуда, мол, смерть целит в него, когда увидит, что тело приятеля вдруг размякло и осело. Такая уж психология у человека. Первое, что нужно узнать, это посмотреть, откуда стреляют.
У меня очень мало времени, чтобы перебросить затвор и подвинуть задней частью тела перекрестие оптики на новую линию прицела. И так, решено!
Я делаю глубокий вздох и с задержкой медленный выдох. Плавно тяну на себя спусковой крючок. У него ход несколько миллиметров, а я чувствую, как долго он скользит и жду когда оборвется. После удара приклада в плечо, перекидываю пальцами затвор и подаю тело чуть в сторону. В разрыве оптики очертания второго немца. Делаю вздох и снова медленный выдох. Смотрю на точку прицела, она стоит на месте. Веду спусковую скобу, и после выстрела опускаю голову на подстилку из дерна. Слегка поворачиваю голову в сторону Феди и жду, что он мне на пальцах покажет.
Он некоторое время, не отрываясь смотрит в трубу. Я лежу на подстилке, прижимаюсь щекой к холодному дерну. Мне головы поднимать и высовываться сейчас нельзя. Малейшее движение и немцы могут нас заметить. Вот Федя откинулся от окуляров. Они находятся ниже кустов. Только штанги возвышаются чуть над кустами. Они стоят неподвижно. Никакого движения с нашей стороны. Пусть немцы думают, что выстрелы идут с опушки леса. Те из них, кто стоит в стороне, их слышат.
Я вскидываю брови и устремляю глаза на Федю. – Ну, что там?
Федя улыбается и показывает мне два пальма. Он отмахивает мне ладонью, мол, потом расскажу и припадает к окулярам трубы. Я конечно от обиды вздыхаю.
Не интересно, вот так стрелять. Ловишь немца на мушку, делаешь выстрел и кина никакого! А самое интересное, начинается после того, как пуля в него вошла. А так, ты вроде стрелял в чучело вместо мишени.
Лежу и думаю. Нужно какой-то способ найти, чтобы представление самому смотреть после выстрела. Нужно поставить рядом вторую стереотрубу. Сделал выстрел, опустил вниз голову и по наведенной трубе лежи и себе смотри. Вот это будет наглядно и интересно!
Убить немца дело не хитрое. Интересно, что будет потом. Как немецкие собратья поползут к нему? Как будут испуганно выглядывать на миг из-за бруствера. Разные можно увидеть рожи, в такой момент с их стороны.
Главное хребет у них со страха согнется, страх в глазах и пугливое озирание по сторонам. Потом, остервенелый налет на опушку леса начнется.
Немцы воспрянут духом, выставят свои рожи, а ты не торопясь, выберешь себе еще одного и шлепнешь его бронебойной. Глядишь и дыра в каске с вмятиной появится у немца на лбу. Главное ведь не попадания. Главное посмотреть на представление и на артистов.

Я дергаю за штанину Федора Федорыча и делаю ему знак рукой, что охота закончена. Показываю на трубу и жестом даю ему понять, что нужно сворачивать и в чехол класть трубу и треногу. Он укладывает трубу в брезентовый мешок, кладет его под кусты и накрывает ветками. Мы некоторое время лежим и курим в рукав, отмахивая дым, чтобы его не было видно немцам.
К вечеру мы возвращаемся через лес к себе. Идем торопливо, разговаривать не когда. Нужно ухом ловить гул снарядов. В любую минуту мы можем попасть под артобстрел. Потревожили немцев маленько. Они, как муравейник всполошились и бьют. Но ничего! Через пару дней они успокоятся, и стрелять перестанут.
– Ну, что Федя? – спросил я, когда мы вернулись к себе.
– Троих убрали?
– Когда ты первому врезал, он даже подпрыгнул и ртом воздух зевнул. Второй успел повернуться в профиль. После выстрела у него каска с головы слетела. Ты ему в каску долбанул. Винтовка на бруствере осталась лежать, как и лежала, а он потихоньку стал сползать на дно траншеи. Потом трое немцев к нему подбежали. Один из них вскоре поднялся и, пригнувшись, назад побежал. В это время ты меня за порки потянул.
– Ну, вот, теперь мне скажи! Можем мы за месяц опустошить немецкую траншею?
– Да! Стрелять ты умеешь, капитан!
– В училище научили. За год учебы курсант тринадцать патрон для боевой стрельбы получал. А остальное время, так, в холостую щелкал затвором. Подойдет иногда взводный, наденет на прицельную планку стереоскоп и подает тебе команду
– Взять прицел! Делаем выстрел! Щелкнешь бойком, а он смотрит куда после щелчка у тебя ушел прицел. Вот, так нас учили в училище Федя!
Дня два мы с Федей проспали на нарах. На третий день пришел приказ. Дивизия снялась и мы перешли в наступление. В наших рядах были убитые и раненые. Потеряли хороших ребят. Убитых хоронили без жалостной музыки, без красного знамени и гробов. Разведчиков клали в могилу, в чем были одеты. Солдатская шинель, она и тут укрыла тело солдата бойца.
При выходе на новый рубеж Рязанцев берет языка. Рыжего, небольшого роста, настоящего "Фрица". Нос у него картошкой, вроде, как после драки припух.
– Ткнули, что ль его по морде?
– Нет, товарищ капитан, раз под ребро прикладом сунули. Сопротивляться хотел. А по носу не трогали!
– Ну ладно! Видно у немца такая порода.
По телефону докладываю в штаб полка, что взят язык. Начальник штаба полка звонит в дивизию. На проводе дежурный разведотдела переводчик Сац. Сац говорит майору:
– Немец, наверно, сдался сам? Добровольно перешел на нашу сторону! А вам капитан докладывает, что взял языка. В связи с нашим наступлением переходы немцев на нашу сторону участились.
Майор берет другую трубку и передает мне разговор.

– Сац утверждает, что не вы немца взяли, но он сам на нашу сторону перешел! Вот Сац не верит, что вы его взяли в бою. Сац велел пленного без задержки переправить в дивизию.
– Откуда он знает, если сидит черте где?
– Велел? Я построю разведчиков, а он пусть явиться и допрашивает пленного при всех ребятах. Посмотрим, как он начнет здесь, вилять хвостом. А пока немец останется у меня.
– Ты, что гвардии капитан, обиделся?
– Ну, за чем же, гвардии майор? Пусть он придет сюда и в присутствии всех допросит этого немца. А разговор, я прошу доложить начальнику штаба дивизии. Ребятам и Рязанцеву за этого немца положены награды. Рязанцев за Духовщину ничего не получил. А сколько он там был под огнем впереди стрелковых рот. Первым вошел в Духовщину и медали не дали. А Сац, протер порки в блиндаже и Красную звезду имеет. Разве это справедливо?
– Ладно, гвардии капитан. Не кипятись!
На этом разговор по телефону был окончен.
Начальник штаба был порядочный человек. Я сказал ему в конце разговора:
– Мало ли, что немец на допросе покажет. Он за свою шкуру со страху может чего угодно по наводящим вопросам Саца наговорить. Выходит там, в дивизии пленным немцам больше верят. А наши доклады принимают за вранье.
Начальник штаба был человек! Вон попробуй с командиром полка поговори! Он тут же все повернет и вывернет в свою пользу.
На войне ведь как? Кто-то угодные кому-то слова говорит и на них политику строит. А кому они поперек горла, тот должен заниматься черной работой.
На следующий день за мной прибежал телефонист.
– Вас требуют к телефону! Начальник штаба ждет на проводе!
Начальник штаба мне сообщил, что Рязанцев и трое ребят представлены к награде.
– Давай отправляй своего рыжего "Фрица"! Переводчик официально извинился. Начальник штаба дивизии в курсе дела.
– Побоялся Сац, идти на передок, подумал я. Шкуру свою в тылу под накатами прячет. Мне что? Мне за ребят обидно! Они своей жизни не щадят! А Сацы, там всякие, политику строят.
* * *
– – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

Перешагнув через чистую немецкую траншею, я прошел шагов пять вперед, огляделся кругом и сел на старый, высохший пень на открытом месте.
Кругом тишина, даже листва не колышется, ни отдаленного гула, ни всплеска мины, ни одного винтовочного выстрела. Как будто всё замерло и чего-то напряженно ждет.
– Федь! А, Федь! – говорю я Рязанцеву.
– Пошли двух ребят в полк, надо доложить, что мы немецкой траншеи достигли. И пусть спросят, нам здесь оставаться или дальше идти.

А остальным ребятам скажи, чтобы спустились в траншею. Чего они у тебя все поверх земли торчат? Немцы могут в любую минуту вернуться. Наши тоже иногда от страха бегут. Бросят траншею, ротному шею намылят, а потом лезут по кустам брошенную траншею у немцев отбивать. У немцев это чаще случается. Не думали мы в сорок первом, что немцы будут так драпать от нас.
Я сижу на высохшем пне, смотрю себе под ноги и думаю:
– Мне одному недолго спрыгнуть в траншею, если вдруг появятся немцы.
Проходит час, другой. По-прежнему кругом всё тихо и почти недвижимо. То война, кругом вой и грохот стоит, пули и мины летят. То вот, как сейчас – полное затишье. От такой тишины глаза слипаются, мозг перестает работать.
Через некоторое время появляются связные.
– Чего там? – спрашиваю я.
– Нам велено дождаться подхода стрелковой роты. За стрелками тянут провод. Сюда дадут телефонную связь.

– Вам товарищ гвардии капитан, велели со штабом связаться.
Немецкая траншея отрыта в чистом поле. Извилины ее идут параллельно обрубу кустов и леса. Передний бруствер замаскирован свежим дерном под цвет окружающей травы.
Между траншеей и лесом находится низинный участок поля, полоса земли шириной пятьдесят-семьдесят метров. Если смотреть на траншею со стороны нашего переднего края, где сейчас наша пехота сидит, то будет казаться, что траншея проходит по самому обрубу леса.
Это зрительно и ввело в заблуждение наших минометчиков и артиллеристов. Когда они занялись пристрелкой траншеи, то все снаряды и мины легли по краю кустов. А до кустов больше полсотни метров. На войне и в этом деле есть свои хитрые приемы.
Примерно еще через час к траншее подошла стрелковая рота. Это наш первый батальон. В нем всего полсотни солдат. Следом за ротой, через некоторое время, появились связисты.
Разговор по телефону короткий. Я получаю приказ выдвинуться вперед, перерезать шоссе, закрепиться на нем, выслать связного и ждать подхода нашей пехоты.
Боевая обстановка ясна! Кто находится правей, кто левей – неизвестно. Где находятся немцы, в полку тоже не знают.
Обстановка на войне быстро меняется. Мы должны двигаться вперед, как бы с завязанными глазами, тыкаться на ощупь, авось повезет.

Нам известно одно, что некоторое время назад где-то здесь, на этом участке, 158 Московская дивизия Безуглого с двумя танковыми ротами армейского резерва прорвала фронт и ушла к немцам в тыл. Сейчас она действует где-то впереди по тылам противника. На участке прорыва немцы сбежали. Где теперь находятся немцы, никто точно не знает. 158-я с боями продвигалась вперед и понесла значительные потери. Нас предупредили, что люди 158-й могут выходить из окружения.
На флангах у нас постреливают немцы, а где они точно сидят – никто об этом не знает. При движении вперед мы можем запросто влипнуть в засаду.
Наш полк получил приказ прикрыть весь участок прорыва. Командир полка сделал просто, возложил выполнение этого приказа на меня. Иди и прикрой! Вот и весь разговор при отдаче боевого приказа.
Мне приказано находиться во взводе разведки, выдвинуться вперед и перерезать шоссе. Где-то здесь находится участок прорыва. Но какой он ширины, нам этого не дано разведать. Возможно, мы уже вошли в него.
Солдаты-стрелки уже занимают траншею. Сгорбились, насторожились. Но когда они узнали, что разведчики уходят вперед, лица у них просветлели, пехотинцы разогнули спины, таращили на нас глаза.

У солдат-стрелков с души, как бы тяжелый камень свалился. Еще бы! За спиной разведчиков можно сидеть!
Я подаю команду. Федя поднимает разведчиков. Мы пересекаем низину и уходим в кусты. Маршрут движения можно выбрать и другой. В кусты не идти, а свернуть круто влево и выйти на полевую дорогу, которая огибая угол леса, идет в нужном нам направлении.
Где мы пойдем, это сейчас не важно. По кустам мы будем идти скрытно, а на дороге нас будет видно издалека. Везде можно нарваться на немцев.
Перестрелка может быть короткой, кому как повезет. У меня сейчас одно желание – пройти тихо и незаметно, не вступая ни в какие стычки. С немцами мы можем встретиться везде, в любую минуту, неожиданно попасть под огонь или обойти их тихо стороной.
Хорошо идти, когда ты всё знаешь и видишь. А тут на душе кошки скребут, когда вот так вслепую пялишь глаза, а тебя стерегут.
Кругом тишина и полная неизвестность. Тишина хуже грома и рева, она действует на нервы. Впереди только голые кусты, и опавшая листва шуршит под ногами.
Если немцы, при встрече, будут, как и мы, находиться на поверхности земли, то они нам не страшны. У нас автоматы и по паре гранат. В ближнем бою, метров с десяти, у нас огневое преимущество. А вот, если мы нарвемся на немецкие окопы и пулеметные гнезда, то мы понесем значительные потери. Убитые и раненые свяжут нас по рукам.

Смотрю на Рязанцева. Федя лениво шагает рядом. Раздвигает руками кусты, смотрит угрюмо, немцы его не интересуют совсем.
– Вот выдержка! – думаю я, и замечаю в его лице явное неудовольствие.
Я тоже иду и не приседаю. По внешности моей не видно, что каждую минуту, секунду, каждый новый шаг, на вдох и выдох я встречную пулю жду.
Мой Федя видимо недоволен, что я пошел не по дороге, а по кустам. Я чувствую это и говорю:
– Можно принять левее! Выходи на дорогу!
Мы проходим по кустам еще метров сто, и они внезапно обрываются. Впереди открытое поле и проселочная дорога вдоль опушки леса.
Рязанцев не останавливаясь, а нужно бы оглядеться, вываливает на дорогу и топает вперед.
Мы обходим край поля, дорога идет вдоль опушки леса. Рязанцев приближается ко мне и трогает меня за рукав. Я тут же останавливаюсь и оглядываюсь по сторонам, пристально смотрю вперед, шарю глазами вдоль дороги. Немцев нигде не видно.
Я поворачиваюсь к Рязанцеву и вопросительно смотрю на него.
– Тебе, капитан, выпить надо! У нас с тобой бутылка шнапса есть. Ребята в траншее пошарили и несколько бутылок нашли.
– Давай хлебнем по маленьку! Чтоб на душе было спокойней и веселей, – и он подмигнув мне, достал из-за пазухи бутылку немецкого шнапса.
Я посмотрел ему в глаза, как бы спрашивая:
– А ты уже хряпнул?

Перед моими глазами уходящая дорога и протянутая с бутылкой рука. Красивая цветная этикетка с надписью не на нашем языке. Я еще раз взглянул на Рязанцева, у него на лице довольная улыбка.
Вот почему ты идешь спокойно и выдержка у тебя.
– Пей, капитан! Не тяни напрасно время!
– Ты, я вижу, уже успел лизнуть?
– Малость для пробы! Рот ополоскал! Надо же определить, может отравленная.
Я сплюнул на землю, огляделся по сторонам и сказал:
– Давай, открывай!
У Рязанцева на душе отлегло. Он уже, наверное, полбутылки высадил. То-то у него улыбка довольная и земли под собой не чует.
Рязанцев вынимает тесак, срезает ветку, очищает ее от сучков и протыкает пробку во внутрь. Я беру у него из рук бутылку, запрокидываю голову, делаю несколько глубоких глотков.
– Пей, пей! Мне половину оставь!
По внутренностям льется приятная влага с привкусом тмина, градусов в тридцать, не больше.
– Пей, пей! Меньше половины мне оставь! Почитай, я уже половиной бутылки горло промыл.
Объем немецкой бутылки – семьсот пятьдесят. Я делаю передых и снова припадаю губами к зеленой бутылке. Рязанцев понимающе смотрит на меня.
– Теперь на извозчике можно ехать до Витебска!
– Все помаленьку хлебнули, один ты у нас ни в дугу остался.
Вот теперь можно спокойно идти на шоссе.

Вообще-то это было в первый раз, когда я в разведку шел в приподнятом настроении. Три года непрерывной, беспросветной и тяжелой войны. Постоянное непосильное напряжение, жизнь без проблеска и без всякой надежды. Сколько можно вот так, под пулями и снарядами ходить? Мы, наверное и были созданы, чтобы за тенью смерти ходить.
После двух опрокидываний на душе просветлело. Вроде, как медаль за усердие дали. По всему телу растеклась незримая лёгкость и неземная благодать. В таком ангельском состоянии и умереть не страшно. А ведь не убьют, и не ранят.
По законам войны смерть надвигалась, когда ты измотан, опустошен и падаешь от бессилия и усталости. Для меня сейчас, командир полка и немцы вовсе не существуют. Двумя опрокидываниями бутылки я снял с себя заботы и сбросил тяжесть войны.
Дорога идет вдоль опушки леса. Мы идем, разговариваем с Рязанцевым и посматриваем вперед. Теперь я уверен, что с нами ничего не случится. Нас может остановить только танковый выстрел в упор. Вместо сосредоточенного внимания, у нас в душе спокойствие и безразличие ко всему.
До выпивки сознание работало предельно чутко и остро, выхватывая каждую мелочь на ходу. Теперь мои мысли вертятся внутри. Теперь я рассуждаю большими и общими категориями. Вроде, как наш командир полка Григорьев. Он конкретно, никогда ни о чем не говорит. У него на языке только одно. Он изрекает только:
– Давай!
Видно, он всё время пребывает в ангельском, поддатом состоянии.

Внешне я был совершенно трезв. Мыслил легко и свободно, и даже с размахом. Разведчиков мне было не жалко. Я думал о них примерно так:
– Все за одного и каждый сам за себя.
По земле я шел твердо, бодрым шагом, пружиня сильными ногами. А что? Хорошо!
Я больше не мучился мыслью, что мы – профессиональные смертники и убийцы, что нас специально посылают на смерть. Теперь, я посылал всех куда подальше.
Лёгкий хмель в голове держался недолго. Я шел рядом с Рязанцевым и в ответ бросал ему короткие фразы. Но о чем он говорил, я по-честному не вникал.
Это неплохо, думал я, что мы сегодня немного поддали. Нужно лично убедиться и побыть самому в этом состоянии. Опытные жулики и воры, выпивши, наверное, на дело не ходят. Работа есть работа! Попробуй, залей глаза и улови мысль. А в деле нужна тонкая, быстрая, неуловимая мысль. Выходит, что разведчикам нельзя давать спиртного за два дня до выхода.
У Рязанцева вывеска покраснела. Он бутылкам счет потерял. За руку его не возьмешь и от бутылки не оторвешь. Федя не просто командир взвода, он, прежде всего, сам разведчик. И если он захочет выпить, шагая рядом с тобой, то он обдумает всё ловко и хитро, выдует из горла прямо на ходу, ты и не заметишь.
Поперек нашего пути видна какая-то канава. Дорога вильнула в сторону на отлогий переезд. Я проверяю направление по компасу, мы переходим канаву, поднимаемся по косогору вверх, продираемся через кусты и неожиданно ступаем на шоссе.

– Вот так! – ловлю я себя на мысли. Издали шоссе не заметили.
Мы пробуем ногами асфальт. Шоссе не широкое. Двум машинам разъехаться трудно. Я подаю команду рассредоточиться и приказываю Рязанцеву занять круговую оборону.
– Пошли в полк связного. Пусть доложит, что мы вышли на шоссе.
Связной скатился вниз под бугор. Его фигура мелькнула за кустами, и через некоторое время он исчез из вида.
Я обошел разведчиков, осмотрел сектора обстрела, поставил каждому задачу на случай появления немцев.
Полковая разведка – это не просто взвод солдат-стрелков, оцепивших участок шоссе. Разведчик – это боец-одиночка, умеющий всё или почти всё, он может встретить немца в любой обстановке. Разведчик во время боя многое решает сам. Моя задача в засаде на шоссе – общее руководство.
При появлении на шоссе обоза или пехоты, мы не только должны удержать свой рубеж, а взять языка. Здесь всё проще. Здесь мы скрыты от противника. Здесь брать проще, чем из немецкой траншеи, из-за колючей проволоки.
Здесь я могу послать в обход двух-трех. Немцы увидят, что кругом обложены, побрасают оружие, лапы поднимут вверх. Здесь у нас явное преимущество. Мы сидим в засаде, а они у нас будут на виду. Сколько нас здесь? А немцы у нас все на счету! Подам команду – бери на себя пятерых – и каждый возьмет пятерку. На выгодной позиции можно и одиночный Фердинанд поджечь. Была бы на то Божья воля, в смысле, везение.

Часа через два вернулся связной. Нам было приказано оставаться на шоссе и завтра ждать подхода пехоты. Шоссе сдать стрелкам, а самим двигаться вперед к перекрестку проселочных дорог.
При выходе на перекресток ждать подхода нашей пехоты и батареи полковых орудий. Участок прорыва немецкой обороны теперь уточнен. Перекресток дорог является последней точкой отсчета при выходе 158 с.д. в глубокий тыл противника. Справа и слева от перекрестка дорог могут находиться немецкие части прикрытия.
52-му полку приказано сосредоточиться на этом участке, занять оборону и не дать немцам закрыть участок прорыва и выйти на шоссе.
Мы прошли по шоссе несколько вправо, свернули на проселочную дорогу и пошли в направлении перекрестка дорог. Я посмотрел на карту. Участок, где должен занять оборону наш полк, был расположен в узком пространстве между двумя опушками леса. Проселочная дорога, проходящая здесь, идет в район высоты 305.
Мы спустились с не крутой насыпи шоссе. Прошли метров триста, и подошли к немецкому блиндажу. Около блиндажа – артиллерийская позиция и брошенное дальнобойное орудие.

Длинный ствол круто поднят вверх, рядом валяются ящики с головками от снарядов и длинные латунные гильзы, набитые бездымным порохом в виде макарон. Снаряды уложены в ящики, а гильзы кучей валяются на земле. Рядом на земле стоят ящики с белыми мешочками дополнительных зарядов. Вскрытых ящиков кругом очень много. По-видимому, солдаты 158 с.д. здесь побывали.
Старший сержант Сенько сбегает по ступенькам в проход блиндажа и из-под земли кричит:
– Товарищ гвардии капитан! Большой блиндаж! Человек на двадцать! На полу свежая солома! Вот поспать бы сейчас! Может, поставим часовых, чтобы никто не занял?
– Не суетись! Нам на перекресток надо идти!
Сенько вылезает наверх. Я подаю команду, мы сходим с дороги и идем вдоль опушки леса.
Смотрю снова на карту, до перекрестка метров двести. Впереди между двумя выступами леса неширокое открытое пространство. Над поверхностью земли торчит врытая в землю бревенчатая изба. Видна только крыша. Подходим ближе.
Я смотрю на врытую в землю избу и думаю: что это, убежище от бомбежки, постоялый двор или контрольный пункт на перекрестке дорог? Подходим еще ближе. Тишина, ни движения, ни встречного выстрела. Обходим избу молча кругом.
Вот проход, идущий вниз, входная дверь в конце прохода закрыта. Крыша избы из почерневшей дранки. В крыше нет отверстий, не видно бойниц. В чердачном окне темнота. Стекло покрыто толстым слоем пыли.
Киваю головой. Разведчики занимают места по углам избы, автоматы берут на изготовку.
Двое ребят тихо спускаются по ступенькам в низ прохода, подходят к двери, останавливаются, прислушиваются. Мы наверху стоим начеку.

Все ждут, когда эти двое толкнут дверь ногой вовнутрь, и она, скрипнув, откроется. Разведчики наверху затаили дыхание, приготовились.
Рукой подаю знак стоящим перед дверью. Все видят мой лёгкий взмах кисти. Один из двоих, что внизу, слегка нажимает на дверь. Дверь не заперта. Она тихо скрипит и открывается вовнутрь. Пока всё тихо.
Первый из разведчиков делает шаг вперед. Вот он исчезает в темном пространстве прохода. За ним вовнутрь избы быстро подается другой. А их место снаружи занимают двое других.
Смотрим в дыру прохода и терпеливо ждем. Наконец, один из разведчиков появляется в проеме двери и спокойно говорит в полный голос:
– Там люди, товарищ гвардии капитан. Бабы, старухи и двое стариков с бородами. Говорят не по-нашему, непонятное что-то лопочут.
– Вот жалость! – восклицает кто-то из ребят, – весь шнапс выпили, а там молодухи!
Я киваю Рязанцеву следовать за мной. Мы спускаемся, не торопясь, по ступенькам узкого прохода. Федя следует вплотную за мной.
Разведчики, стоящие по углам, опускают автоматы, но остаются на месте. Без команды они со своих мест не имеют права сойти.
Нагибаюсь в дверях под низкой притолокой и сразу из света попадаю в темноту. Молодые бабенки стояли у стены, старухи и старики сидели на узлах и тюках. Они сгрудились в углу и прижались друг к другу. Как рыбья стая мальков сбились в одну кучу от щуки.
Спрашиваю по-русски. Все молча, исподлобья смотрят на меня. Я повторяю вопрос – никакого ответа.

– Вы что? Глухие? – возвышаю я голос до крика и для понятливости пускаю в их сторону трёхэтажным матом.
– Кто такие? Почему здесь находитесь?
Они в ответ бормочут не по-нашему.
– Все-таки наш мат действует на них – делает заключение кто-то из стоящих у двери солдат.
– Кто такие? – спрашиваю я их по-немецки.
В ответ опять невнятное бормотание.
Немцы – не немцы, скорее, из Прибалтики литовцы.
На стариках и старухах черные длинные одежды не нашего, не русского покроя. Да и рожи не те. Не славянского мордоворота.
Две бабенки, сидящие впереди у стены одеты в национальные юбки с фартучками и кофты с оборочкой. Поверх надеты безрукавные душегрейки с вырезом на грудях. Одна из молодух подалась к двери и застыла на месте. У нее толстая задница и крутые бедра под юбкой. Стоит, переступает с ноги на ногу, как молодая необъезженная кобылица.
Я спрашиваю их еще раз, но по-немецки, кто они, откуда и почему находятся здесь. В ответ слышу непонятную гнусавую речь старика. Бабенки молчат.
– Видать, вон та стерва немецкого хахаля поджидала! Как скрипнула дверь, она тут же и выскочила вперед! – сказал солдат, вошедший в избу первым.
– А что, это идея! – подхватил я.
– Давай, капитан, ее в дивизию отправим, там с ней быстро разберутся! – сказал Федор Фёдрыч.
– Ты, Федь, самого главного не уловил! Солдат нам хорошую идею подал, а ты – в дивизию!
– Давай выйдем, наверху потолкуем.

Я поворачиваюсь к солдатам и говорю:
– Останьтесь здесь, Всех держать на местах и не разрешать шевелиться! Кто шевельнется – разрешаю стрелять!
Мы вышли наверх, и я сказал Федор Федоровичу:
– У меня, Федя, план, а ты говоришь – в дивизию. Давай присядем вот тут, закурим, я тебе план изложу.
– Посадим в избу на ночь наших молодцов. Старикам и старухам жестами прикажем сидеть и не двигаться. В избе должна быть полнейшая тишина. Прикажи от моего имени, пусть им покажут ножи, что кто шевельнется или пикнет – тут же прирежут. Самим тоже сидеть тихо.
Сейчас вокруг избы по углам стоят ребята. Ты их снимешь. Всех лишних отправь в лес, вон туда. На лесной дороге выставишь группу захвата. Не исключено, что с наступлением темноты к этим бабенкам явятся два немца. Немцы к избе могут подойти с любой стороны. Думаю, что ночные гости к перекрестку дорог явятся обязательно. Видел, как эта стерва нервно топталась на месте?
Итак! Четверо в избу, трое вместе с тобой в засаду на лесную дорогу. Двоих положи вот здесь, около избы под кустом. Они пропустят немцев вовнутрь, а обратно чтоб немцам не было хода.
Я буду находиться с отдыхающими в ельнике. По боевой тревоге – сбор всех в густом ельнике, сигнал – две красных ракеты. Если придется вступить в бой с превосходящим противником, рубеж обороны – на опушке ельника.

Передай всем, что с наступлением темноты ожидается взятие контрольного пленного. Связь со мной будешь поддерживать посыльными.
Да, вот еще что! Выдели мне одного, чтобы всё время был при мне. Ординарца, сам знаешь, у меня теперь нету.
Особо предупреди двоих, которые будут лежать около избы под кустом. Ни одной живой души они не должны выпустить на волю. С прохода глаз не спускать. Распоряжений больше нет. Давай, действуй, и поскорее!
От врытой в землю избы под прямым углом расходятся во все стороны дороги. Одна идет назад, в сторону шоссе. Там, на шоссе сидит наша пехота. Другая, левая, изгибаясь не круто, уходит в лес с густым ельником и сосняком. Прямая, по ходу идет по открытому полю через прогалок в сторону высоты 305. А правая, переваливаясь через невысокую гряду, уходит в кусты, откуда постреливают немцы.
Главное не в том, что на одной из дорог должны появиться одиночные немцы, главное то, что мы должны продержаться здесь до подхода пехоты и нашей артиллерии. Мы должны удержать перекресток, потому что в армию доложили, что перекресток в наших руках.
По высоте солнца можно было сказать, что до вечера осталось немного. С наступлением темноты немцы не сунутся сюда, не в их привычке завязывать бой, на ночь глядя.
– Что будем делать с этими? – мотнув головой в сторону избы, спросил Федор Федорович.

Я посмотрел на него, перевел взгляд в сторону серой крыши и подумал:
– Почему эта семейка оказалась здесь, на нашей белорусской земле? Кто они, эти пришельцы? Безземельные переселенцы или колонизаторы, помещики из Литвы?
Хотели, наверное, прибрать к рукам наши русские земли. Когда-то в далекие времена, в средние века Великое Литовское княжество царствовало здесь.
Вернулись на свои, так сказать, исконные владения. Эту мерзость надо давить на нашей земле, чтобы отбить всякую охоту занимать здесь поместья. Расстрелять их недолго. Подождем до утра.
– По всему, Федя, видно, что сидят они здесь не день и не два. Помещики в Россию пожаловали. Эксплуататоров здесь не хватало. На чужую землю позарились. Наши славяне на них должны были спину гнуть, а они пришли вотчины свои возделывать. По законам военного времени всем захватчикам, в мундирах они или в юбках, положена пуля в лоб. "Рот не разевай на чужой каравай!"
Витебск и земли с окружными городами в средние века были захвачены Литвой. В 1670 году с окончанием Ливонской войны все эти земли по договору были возвращены России. Видать, старички эти следом за немцами явились сюда. Поделили нашу землю на фольварки и поместья.

Это не важно, что они не военные. Они, как оккупанты, тоже подлежат уничтожению. Другое дело, когда мы придем к ним в Литву. На их земле мы не имеем права тронуть их пальцем. А здесь они не пленные и не местные жители. Они – оккупанты, и нечего с ними возиться. Сегодня они нам нужны для приманки. Другое дело, когда мы однажды в деревне ночью вместе с немцами взяли француженку-проститутку. Та занималась честным трудом и на имение не рассчитывала. А этих гнид нужно давить.
Со свободными от вахты ребятами я отправился в густой ельник. Там, за ельником, в глубине леса валялись какие-то ящики. Я велел ребятам принести пустых ящиков и сложить лежанку. Валяться на холодной земле нет никакой охоты.
– Сходите, взгляните, что там за склад. Ребята вернулись и показали консервные банки, бутылки анисовой тридцатиградусной и несколько буханок хлеба.
– Там у немцев брошенный продуктовый склад! До склада недалеко, каких-то метров сто, не больше. Я посылаю туда еще ребят, чтобы они притащили всё сюда, в ельник. Сюда в ельник из чужих солдат никто не войдет. Это наша территория, и часовой никого из наших полковых сюда не подпустит. А на склад может припереться завтра всякий народ. Это ничейная территория и общее достояние в виде трофеев.
На складе кругом валяются разбитые ящики. Тут же на земле стоит железная печка с трубой и вмазанным котлом. Немцы здесь грели воду, разогревали консервы, варили еду и сидели за длинным обеденным столом. Поодаль – яма и целая набросанная куча пустых консервных банок.
Посланные разведчики быстро перебрали все ящики и вместе с банками и бутылками приволокли их в ельник. В ельник ни один офицер или солдат не сунется. Здесь разведчики стоят. Так что закусь и выпивка у нас опять появились.

Я накладываю на добытое запрет, приказываю послать за старшиной и сдать ему всё на хранение.
– Мимо вашего рта ничего не пройдет. Все получите сполна, как только встанете на отдых.
– Вы, трое, всё заберете, отнесете, сдадите старшине и немедленно назад. Через три часа вы с этим заданием должны управиться. Я лёг спать, проспал три часа, меня разбудили, я встал на ноги и отправился к Рязанцеву.
– Ну, как тут у вас? – спросил я его.
– Тихо пока! Рязанцев лежал под елью метрах в десяти от дороги. Трое разведчиков расположились впереди. Только я опустился около Рязанцева, как один из них метнулся в нашу сторону и шепотом доложил:
– Кто-то по дороге сюда идет.
Мы поднялись с Рязанцевым и шагнули вперед к дороге. По дороге в темноте лесного прогалка в нашу сторону двигалась одинокая фигура человека. Темный силуэт шел в нашу сторону спокойно, уверенно и совсем не пригибаясь.
Впереди у дороги лежат двое наших ребят. Немец пройдет еще метров десять, и его сейчас возьмут. Вот он вышел на поворот, и сзади него выросли две неслышные фигуры. Один из ребят приближается к немцу и трогает его за плечо. Другой берет его за руку, и все трое приседают в кустах. На дороге нет никого. Через некоторое время к нам приближается третий из наших.
– Есть один! – докладывает он тихо.
– Куда его?
– Веди туда, в ельник!

– А мы, Федя, вернемся сюда. Поставь на дорогу другую пару, пусть посидят у дороги до утра. Может, еще один придет.
На разведчиках летние маскхалаты. Сразу и не поймешь, русские мы или немцы. Если надеть нам немецкие каски, то мы молча точно за немцев сойдем.
Немца приводят в ельник. Я предлагаю ему сесть на ящик.
– Садитесь!
– Вы курите? – спрашиваю я.
Немец достает сигареты, я беру из его рук пачку, закуриваю сигарету, кладу пачку себе в карман и говорю ему: Данке шон! Он смотрит на меня невинными глазами, удивлен, что исчезла пачка. На лице у него знак вопроса: кто я? На мне маскхалат и до самых глаз опущен капюшон. Ночью в лесу попробуй, разбери, кто мы такие.
Во всяком случае, мне кажется, что он не принимает нас за русских. Ребята взяли его тихо, беззвучно и молча. Такая у них привычка. Немец он смотрит на меня, как будто мы ангелы смерти. Я достал одну сигарету, дал ее немцу, щелкнул зажигалкой и протянул руку, чтобы ему прикурить. Он прикуривает и смотрит вопросительно мне в глаза.
Ребята видят мою игру, улыбаются и молчат, как будто набрали в рот воды. Им интересно, что будет дальше. Мы сидим, курим, и в это время возвращается Рязанцев и Серафим Сенько. Ребята ему шепчут что-то на ухо. Рязанцев прыснул со смеху.
– Ты мне своим фырканьем всю игру испортил. Вечно что-нибудь перебьешь.
– Слышь, капитан! Как ты эту милашку раскусил?
– Это не я. Это мне рядовой Данилов идею подсказал.

– Вот это дела! Немец сам к нам пожаловал! Ребята говорят, ты здесь консервы и шнапс обнаружил? По полбутылки нужно бы на брата! А то в горле всё пересохло. С позавчерашнего дня во рту росинки не было. Болотную воду пить – сам понимаешь!
– Бутылку на троих я оставил для всех. По банке консервов – на двоих. Остальное отправил к старшине на сохранение.
– Слушай, и жадный ты стал, гвардии капитан! От двухсот пятидесяти ни внутри, ни в одном глазу ничего не будет! Я обернулся к Рязанцеву:
– Ты вот что, давай. Пошли двух ребят, пусть волокут немца в полк и в дивизию. Его допросить срочно нужно. Может ценные данные даст. Я его допрашивать не буду. Я вторые сутки как следует не спал. Мне нужно выспаться. Завтра горячие дела будут. Ребят из засад и из избы сними. Поставь парный пост часовых на опушке леса. Дверь колом через ручку снаружи закрыть. Если сунутся через дверь – дайте очередь из автомата по крыше. Пусть бабенки, старики и старухи сидят тихо внутри. Остальным всем отдыхать до утра. На рассвете меня разбудите.
Перед самым рассветом на перекрестке дорог появились наши стрелки, и прикатила батарея пушек калибра 76 мм. Когда рассвело, я снял своих разведчиков, поднял спящих ребят и отправился искать штаб полка. Я хотел получить для разведки разрешение на отдых.

Начальник штаба, как мне сказали, находился в том самом блиндаже у брошенного дальнобойного орудия. Мы пошли вдоль опушки леса.
Блиндаж, как я посмотрел, был большой и крепкий. Накаты из толстых бревен, каждое в обхват. Вот почему майор со своими штабными перешел шоссе и занял это блиндаж. Здесь можно было сидеть и не бояться любого обстрела. Командир полка со своим окружением остался по ту сторону шоссе.
При подходе к блиндажу мы сразу попали под минометный обстрел немцев. Миномет бил веером одиночными. Мины рвались с небольшим интервалом вокруг блиндажа. Немец как бы загонял всех в блиндаж.
Когда мы подошли к узкому проходу, уходящему под накаты, я увидел, что не только в блиндаже, но и в проходе набилось полно всякого народа. Рядом проходил неглубокий извилистый и узкий овраг.
Я посмотрел в проход, там, тесня друг друга, жались под дверь связные стрелковых рот, телефонисты и полковые артиллеристы. Ни мне, ни моим ребятам не было свободного места даже в проходе.
Я подал разведчикам команду рассредоточиться вдоль оврага. А мины, завывая, шарахались почти рядом. От каждого такого взрыва мурашки бегут по спине. Хрякнет одна такая под ноги и, считай, твоя песенка спета. Осколки веером с визгом летят то справа, то слева. Все это действует на нервы, и уйти из-под обстрела нельзя. Никому не охота получить прямое попадание мины.

Я шагнул в проход и попытался протиснуться в блиндаж. Оттолкнул двух солдат, а на третьего закричал, потому что он, как клещ, вцепился в переднего.
Мне нужно было пройти к начальнику штаба, сличить по карте расположение наших двух рот, батареи пушек и минометов, нанести позиции немцев на флангах полка. Но повторяю, не тут-то было.
– Кто там рвется ко мне? – услышал я голос майора Денисова из глубины блиндажа.
– Это капитан-разведчик. – ответили солдаты, стоявшие в дверях.
– Оборону заняли стрелки? Пушки подошли? – услышал я снова голос майора.
– Заняли! Подошли! Крикнул я поверх голов и солдатских касок.
– Ты там, наверху подожди! Я сейчас с командиром полка свяжусь! Переговорю по телефону! Майор стал звонить, а я пнул ногой последнего. Он обернулся и я спросил: – чья это шушера набилась здесь?
– Это связные начальника артиллерии.
– Анекдот! По двадцать человек связных таскает за собой, а в ротах по полсотни солдат, не больше!
Ко мне подошел Рязанцев.
– Что, капитан, будем делать?

– Вот, видишь, мордастые долбоеды набились в блиндаж. Их и колом не вышибешь оттуда. Их, Федя, стрелять надо. Какая от них польза, дармоеды и долбоеды одни. Пушки выкатили вперед, а снарядов у них нет. Ну их к черту, Федя! Ты рассредоточь и отведи подальше ребят. Нам лучше поскорей уйти отсюда. Подожди пару минут, сейчас майор с полковым разговаривает.
Я сел на край спуска в блиндаж, свесил ноги в проход, достал сигареты и закурил. Рязанцев, пригнувшись, пошел вдоль оврага. Я крикнул ему вдогонку: «Ребят подальше в сторону отведи! Пусть лягут в открытом поле!».
И в этот момент из верхней части двери блиндажа вырвался непонятный гул, и над головами стоявших в проходе вырвалось пламя. Огненный шлейф с огромной скоростью вырывался наружу и в конце загибался вверх. Внутри раздался вопль, визг, раздирающий душу крик. Прощались с жизнью человек тридцать. Взрослые мужики визжали как дети. Ни одного низкого, басовитого крика. Крик отчаяния – это неописуемый звук. Это не вопль живого, это крик мертвого. Похоже было, что свинье всадили острый нож под сердце.
Все, кто был в блиндаже, в одно мгновение оказались объятыми раскаленным пламенем. Это был настоящий ад-преисподняя. Блиндаж и люди внутри были объяты пламенеющим ревом. Что горело внутри, никто не понимал.

Мне ударом пламени опалило брови и веки. Обожгло волосы на руках. Я сделал резкое движение, рывок назад и через спину и голову перевалился в овраг. Я броском откинулся от прохода, когда услышал гул и визги из подземелья. Я скатился подальше в овраг, а пламя уже вырвалось наружу. Я еще кувыркался на дне оврага, не успел подняться на ноги, а пламя, набирая силу, ревело и гудело, клокотало, к небу неслись человеческие вопли.
Начальник штаба и телефонист, сидевшие за столом в дальнем в углу, сгорели и обуглились. У стола мы обнаружили два трупа. Кто из них кто, сказать было нельзя. Нос, уши, глазные впадины и пальцы на руках, всё сгладилось и приняло тёмно-коричневый оттенок.
Эти, шоколадного цвета, обгоревшие фигуры остались сидеть за столом. На фигурах ни сапог, ни одежды не было. Рука одного лежала на столе, вероятно, ладонью придерживала карту. Но ни пальцев, ни карты, ни стола не стало. Ни погон, ни званий, ни заслуг – мертвый все теряет.
Остальные двадцать с небольшим получили ожоги лица, шеи, ушей и рук. Ожоги тут же у всех на глазах покрылись водяными пузырями. У одного выбежавшего из блиндажа не видно было глаз на лице, вместо лица – месиво из красного мяса и слизи. А другой выбирался из блиндажа по спинам и головам упавших в проходе.
В дверях произошла страшная давка, давили, топтали друг друга, не щадя, сапогами сдирали до кровавого месива руки упавшего на колени. А у этого, посмотришь, всё перемешалось, где брови, где нос, где уши, где рот, только глаза одни живые и страшные, расширены и смотрят в упор.

На этого страшно смотреть. Вместо волос у него на голове терновый венец из кровавых полос, сквозь которые просвечивает обнаженная кость белого черепа. Он, видно, сорвал с головы свой картуз и успел надвинуть его на лицо до подбородка.
Этот прикрыл лицо ладонями и растопыренными пальцами. У него обгорели руки, а на лице отпечатались все десять пальцев. У этого, как у испанского гранда, стоячий воротник из водяной колбасы, обвитой вокруг шеи.
Из блиндажа они карабкались и безжалостно давили друг друга. Двое солдат, которых я оторвал от двери, ходили за мной как жалкие псы. У них на лице были настоящие слезы счастья. Они как бы по очереди нагибались, пытаясь целовать мне руки.
Некоторые пострадавшие, очумев от пережитого и от страха, ходили и мотали головами. Потерявшие зрение стояли на дне оврага, беспомощно растопырив вперед руки. Обгоревшие и пострадавшие были отправлены в тыл, в медсанбат.
Некоторые из несчастных попали по дороге под мины, которые бросал немец. Картина была кровавая, потрясающая и ужасная.
После, потом я встретил одного офицера из обгоревших. Это был начальник артиллерии полка Славка Левин. Обожженные руки его не выдерживали холода, и на морозе быстро наступало обморожение.
Что же произошло? Немцы на пол насыпали толстый слой пороха, опростав снарядные гильзы. Под столом они слой этот увеличили в несколько раз.
– Ну, что, Федь? А ты был не доволен, когда узнал что майор и тыловая братия заняли этот блиндаж. Нас в блиндаж не пустили. Нам повезло, что мы лежали в овраге под минометным обстрелом.

Майор мне крикнул тогда: ты, капитан, их не трогай! Из прохода не вытаскивай! Ты там, у входа подожди.
– Теперь можно подумать, что он хотел их всех забрать с собой в могилу.
Через некоторое время за мной прислали связного и меня вызвали к командиру полка.
Я взял с собой двух разведчиков и отправился за шоссе. Командир полка боялся, что немцы могут по шоссе пустить танки и отрезать его вместе со свитой.
С той стороны шоссе, в канаве на обратном скате была отрыта землянка. В ней помещался командир полка и еще кое-кто из тыловых.
– Возьмешь с собой разведчиков, пойдешь на перекресток. Вернее, с разведкой позади пехоты организуешь заслон. Они расположены вот здесь – и он ткнул в карту пальцем, а ты – метров пятьдесят позади них.
Твоя задача – задержать людей, если они побегут во время немецкой атаки. Это единственный выход. Рубеж надо во что бы то ни стало удержать. Если немцам удастся захватить перекресток и выйти на шоссе, то мы поставим под удар других и стрелковую дивизию Безуглова.
Нам категорически приказано держать этот рубеж. Связь со мной будешь держать через посыльных. На телефонную связь не рассчитывай. Третий раз меняют провод, сплошные обрывы. По шоссе немец бьет почти беглым огнем. Всё понял?
– Всё! – отвечаю я, и возвращаюсь на передовую.

От шоссе в сторону опущенного в землю дома идет не высокая гряда. Артдивизиону противотанковых пушек, приданному полку, приказано окопаться вдоль дороги на гряде. Шесть пушек 85 мм зарывают в землю, располагая в один ряд. Стволы пушек почти касаются земли, над землей щиты выступают сантиметров на десять.
День проходит быстро, как в галопе. Ночью резко холодает. К утру выпадает первый снег. Все вокруг покрывается белой порошей. Что вчера было черно, сегодня бело режет глаза. Что вчера было видно по темному контуру, теперь засверкало ослепительной белизной. Слой снега не большой. Следы на земле остаются черными. Утро проходит в томительном ожидании.
Я с ребятами располагаюсь на опушке леса около густого ельника. В глубине леса куча пустых проверенных нами ящиков. Среди пустых ящиков нашелся один с бутылками шнапса, другой, с открытой крышкой, до половины заполненный банками мясных консервов.
Что это? Случайно нашими ребятами забыто или принесено и оставлено как отрава, или это предметы, доставленные для обитателей дома? Сейчас важно, что это попало в наши руки. Рязанцев ходит гоголем, потирает руки, причмокивает языком, поглядывает на меня.
– Без разрешения ничего не трогать! – подчеркивает он строго, поглаживая ладошкой круглые бутылки. Разведчики таскают пустые ящики на опушку леса и укладывают их рядом друг к другу дном вверх в один слой на земле.

Они выкладывают из ящиков как бы помост. На нем мы будем посменно спать. Лежачее место кругом огораживается срубленным ельником. За ельником не видно, что на ящиках делается – когда тут спят, а когда тут пьют.
Важно, чтобы посторонние славяне, стрелки и артиллеристы о шнапсе не узнали. Дойдет до командира полка, вызовет и прикажет всё до последней бутылки своему денщику по счету сдать. Рязанцева с досады понос пробьет.
Место в полста метрах от передовой и в полсотни шагах от противотанковых пушек. Разведчики попарно сидят на постах. Остальные на ящиках в загоне справляют праздник седьмое ноября. Белые сухие ящики. Кругом зеленые елочки, как под новый год на елочном базаре. Тут тебе и выпить, и закусить! Красота!
Ночь проходит тихо, без тревог, в приятном забытье. Мы заслуженно организовали на передовой себе отдых, хотя на этот счет от командира полка согласия не имели. Он там с бабой в землянке спит. К нему на ночь ППЖ из медсанбата является.
Язык, пойманный нами на дороге, был сразу отправлен на допрос в дивизию. А мы, хоть и торчим сейчас на передовой, но ведем скрытный образ жизни и никому не подчиняемся. Нам положено было бы сейчас находиться в тылу.
За оборону и позиции пехоты мы не отвечаем. Куда и когда наши будут бить из пушек, это тоже не наше дело. Мы своим присутствием показываем, что драпать славянам будет некуда, дорога в тыл перекрыта.

В общем, мы были наблюдателями, и потому нам выпить и закусить было и можно, и положено. Такие у нас в разведке были традиции, после взятия языка нам положен был отдых.
Мы же не сукины дети, чтобы ходить по позициям и будить часовых. Пусть спят, пока немец не стреляет. Наше дело петушиное – пропел, а там хоть и не рассветай. Мы в чужие дела свой нос не суем. Мы должны во время встать на ноги, когда немец подымет стрельбу.
А до тех пор можно лежать на боку. Выдержит пехота или побежит? Мы их автоматами не обязаны загонять назад в окопы. Мы не способны на такое подлое дело. Наше дело командиру полка доложить, что линия обороны немцами прорвана, что пехота сбежала, и что немецкие танки идут на шоссе. Славяне, стрелки перебегут через шоссе, там их сам командир полка может встретить, если раньше всех не даст тягу. Пусть разбираются сами.
Отсюда, лёжа на ящиках, если раздвинуть ветки, всё отлично видно. Торопиться не следует. Немец с танками в лес не пойдет. Даже из танков он будет бить по дороге и по бегущим. А мы вроде в стороне.
Со страха обычно бегут прямой дорогой. Со страха не сворачивают в сторону и в обход. Немец будет бить по драпкомпании. А мы останемся в лесу, у него в тылу незамеченными. Наше дело выждать и поймать айн (один) момент.
Нас шестнадцать, с полсотней немцев мы можем ввязаться в драку. С полсотней плюгавых фрицев мы запросто разделаемся. При соотношении больше, чем один к трем, мы в бой не вступаем и лесом уходим.

– Немец бьет по пехоте, а мы на ящиках лежим! Всем ясен наш план? – обращаюсь я к ребятам.
До утра было достаточно времени, чтобы после полбутылки обсудить все военные вопросы. Нам сейчас положено вручать ордена и медали, а нас в насмешку загнали пехоту с тыльной стороны прикрывать. Ни одна штабная шкура сюда не пойдет. Пусть думают, что мы, как идиоты, охраняем пехоту.
Я беру бутылку и пускаю ее по кругу в одну сторону. Рязанцев пускает свою ей навстречу. Все видят, по сколько надо хлебать. Мы пьем из расчета по полбутылки на брата. До утра на чистом морозном воздухе можно выспаться и протрезветь. Круг за кругом гладкие бутылки плывут по рукам.
Утро приходит, как обычно с рассветом. В течение дня выясняются некоторые детали. От перекрестка вправо по дороге в кусты далеко не уйдешь. Как только какой-нибудь солдат пытается приблизиться к кустам, следует пулеметная очередь и падает подстреленным. Из кустов бьют прицельно и точно.
То ли солдаты из любопытства шарили вокруг, то ли по запаху учуяли съестное. Вот и решили пошарить по кустам. В общем, за день выяснили, что в кустах засели немцы. А сколько их там, и почему они упорно сидят в кустах – об этом я подумал, но выяснить не попытался.

Чтобы установить все точно, нужно разведку боем провести, а это приведет к большим потерям. Пустить группу солдат для прочесывания по кустам значит послать их на верную смерть, под пулеметный огонь поставить.
Я пошел к командиру батареи и предложил ему ударить из противотанковых орудий по кустам. Он отказался, ссылаясь на нехватку снарядов. «Что зря бить в темную, по немецким окопам мы все равно не попадем, если цель скрыта в кустах». Я посмотрел на него, повернулся и ушел к ребятам, на опушку густого ельника.
К вечеру меня вызвали на командный пункт командира полка. Я не застал его. Пока я шел и петлял в темноте, его вызвали на КП дивизии. В землянке сидел какой-то нацмен майор. Он вежливо поздоровался со мной, спросил, много ли людей в полковой разведке. Сказал, что в политотделе знают о нашем пленном. Чего-то кружит, и куда он клонит? – подумал я.
Я спросил его, кто он такой. Он охотно ответил, что из политотдела дивизии. Его послали в полк познакомиться с делами и обстановкой.
– Тебе, майор, нужно на передовую идти, а не сидеть здесь в землянке под тремя накатами. Здесь ничего не узнаешь и ничего не увидишь.
– Я не могу сейчас уйти отсюда, мне из дивизии должны позвонить. Командир полка просил передать вам вот это – и он протянул мне исписанный листок бумаги. Внизу стояла подпись командира полка.
Наш замполит вошел в это время в землянку, увидел меня и сказал:

– Да, да! Командир полка приказал тебе, капитан, взять второй батальон, провести его через линию фронта, выйти скрытно к подножью высоты 305 и штурмом овладеть вершиной, если там располагаются немцы.
– Ну что? Как ты думаешь, лихо задумано?
– Вы что-то перепутали! – ответил я. Я не командир батальона и не зам. командира полка. Как вы знаете, я – разведчик. Я могу провести ночью в тыл к немцам батальон, разведать высоту, сказать комбату, есть ли на высоте немцы, а брать штурмом высоту я не обязан и не буду. Пусть ее берет комбат. Сколько у него солдат? Полсотни будет?
– Ты же знаешь, капитан, что он малоопытный.
– А вы на фронте давно?
– Давно!
– Вот и ведите их на высоту в атаку! Что вы здесь сидите?
Мое дело – разведка, и я не хочу за других дерьмо чистить. Вот когда я буду ротным или комбатом, я свою роту сам на штурм поведу. На войне каждому свое, опытный он или малолетний. В общем, я довожу батальон до высоты. Поднимаюсь лично с разведгруппой к вершине, обнаруживаю немцев и, не медля ни секунды, возвращаюсь к подножью.
А вас, майор, в дивизии я раньше не видел. Думаю, что в дивизии вы свежее лицо. А у нас по армии насчет разведчиков специальный приказ есть, где нас использовать, и на штурм ходить этим приказом нам категорически запрещено. Опыт тут ни при чем. Вы, вероятно, в курсе дела. А, может, вы замполитом в батальон назначены и по скромности своей в штаны накакали?
– Ну, ладно, капитан! Видно, ты упрямый.
– Смотря в чем. – ответил я.

Комбат, старший лейтенант, стоял у входа в землянку. Его для получения задания тоже вызвали сюда.
– Вот комбат! – показал мне посыльный полка.
Старший лейтенант приблизился ко мне.
– Ну что, старший лейтенант, много у тебя в батальоне солдатиков, и какое оружие?
– Русских девять человек, остальные сорок – казахи и узбеки. Солдаты – сами понимаете!
– А всего сколько же?
– Всего около полсотни.
– А офицеров?
– Офицеров нас трое. Два лейтенанта и я.
– Да, войско у тебя и впрямь отменное.
– Ну что ж, пошли к твоим солдатам. Я взглянуть на них хочу.
Второй батальон был в резерве и находился около шоссе. В полутьме шагах в двадцати раздался храп и кашель. Солдаты лежали на земле, изредка шевелились, побрякивая котелками. Им не говорили, когда и куда они пойдут. Они не знали, что будут шагать друг за другом, вытянувшись цепочкой, в глубокий тыл противника, и что их там бросят, и что они исчезнут с лица земли. Пожалуй, не следует им говорить, подумал я, так будет спокойней.
– Строй их в затылок друг другу в одну линию и не растягивай шибко! – говорю я комбату. Пока солдат подымают и строят, я сажусь на кочку и курю. Потом я обхожу строй солдат, предупреждаю строго: кто будет курить, греметь котелками и пустыми банками или кашлять во время движения, расстрел на месте без слов и предупреждения. Они понимают, что с разведчиками шутки плохи.

– Куды-то нас с собой поведут полковые разведчики? – переговариваются старики.
– Поговори мне еще в строю! – одёрнул их Сенченков, который идет с нами в тыл.
Я с группой в шесть человек ухожу вперед, впереди нас, метрах в двадцати идет головная застава из трех разведчиков. На нас на всех одеты новые белые маскхалаты. На фоне выпавшего снега нас не видеть. Да и глазу непривычна свежая пороша. За нами, держа дистанцию метров пятьдесят, идут два разведчика. Они ведут по нашим следам батальон.
Из наших жизнью рискуют эти двое. Мы идем на отрыве от батальона. И в случае обнаружения мы можем метнуться в сторону и залечь на снегу. Сзади батальона топают еще двое наших ребят. Их задача всем солдатам стрелкам понятна. Мы не спрашивали у солдат батальона, есть ли среди них калеки и больные. Только заикнись!
Какой-то странный запах. Как будто пахнет свежей краской. Я иду вдоль строя. Рядом шагает комбат. Я останавливаюсь, принюхиваюсь, делаю несколько шагов назад. У одного из солдат из угла мешка стекает на шинель тоненькая струйка чего-то жёлтого. Я подхожу ближе, поворачиваю его спиной к себе, у него весь бок в свежей масляной краске.
– Что это, комбат?

– Это они ящик с консервными банками нашли. На банках написано по-иностранному и пахнет вроде подсолнечным маслом. У одного я их выкинул. А этот припрятать успел.
– И у многих эти банки с краской в мешках?
– Думаю, целый ящик.
– Давай, выгружай! И действуй побыстрей!
– Скажи, кто оставит, выведу из строя!
С краской вскоре все было покончено. Разведчики держались за животы. "А что было бы, если в темноте ее наешься?".
Когда колонна тронулась, разговоры прекратились. Мы шли, не торопясь, внимательно смотрели вперед и по сторонам, постоянно оглядывались назад.
Темная живая цепочка, извиваясь на белом снегу, подавалась вперед по нашим следам. Стрелки шли друг за другом на расстоянии вытянутой руки.
Я несколько раз останавливался, приседал к земле, меня накрывали одеялом, подшитым сверху белой простыней. Я разворачивал карту, зажигал карманный фонарик, ориентировал карту по компасу и проверял азимут нашего движения.
Мы прошли уже приличное расстояние, минули лес и теперь находились в открытом поле. По моим расчетам, мы должны пройти еще одно поле и войти в лесной массив. Там, за лесом и находится высота 305.

– Мы идем по немецким тылам. Стрелки гремят кружками, дребезжат котелками – жалуется подошедший разведчик. Он ведет за собой пехоту. Эту пару ребят приходится периодически менять. Солдаты стрелки действуют им на нервы. Каждая пара подвергается риску.
– Дребезг котелков действует мне на нервы! Так и хочется полоснуть из автомата по этому сброду!
– Стрелять нельзя! – приказываю я.
– Приходится терпеть! – согласился он.
С приближением к опушке леса каждую минуту ждем встречной очереди из пулемета. Поле ровное, ни низинки, ни бугорка. Но на этот раз всё идет хорошо. Впереди лес, с души снимается тяжкий груз ожидания. Никто не шипит и не ругается на солдат батальона. Среди тёмных стволов елей солдатские шинели сливаются с лесом и тают в ночи.
Прибавляем шаг. Идем напрямую. Интервала между нами и батальоном нет. Спускаемся и поднимаемся по лесным складкам местности. Высокие сосны и ели тихо уплывают назад. Так двигаемся чуть больше часа.
У меня теперь есть часы. Разведчики преподнесли. С того немца, который к бабе шел, сняли. Через некоторое время неожиданно выходим на опушку леса. Куда идти?
Мы стоим метрах в ста от угла леса. Дорога полем в направлении подножья высоты проходит где-то здесь, за углом. Сейчас ее занесло белым снегом, от поля ее с такого расстояния на глаз не отличишь. Идти прямо с выходом на дорогу или свернуть в овраг и обойти высоту с другой стороны? Тут, с правой стороны к высоте можно выйти лесом. Стою и решаю.
Я заранее не планирую, как пройти весь маршрут. По карте видно одно, а на местности все по другому. Преодолев определенный отрезок маршрута, я на месте решаю, куда нам идти и как быстро двигаться. Так лучше сообразовать все с обстановкой.

Идем лесом, я показываю рукой вправо. Вот долгожданный спуск вниз. Небольшая ложбинка. За ней скат, уходящий в высоту. Небольшие редкие кусты повсюду торчат по склону. Высота покрыта снегом. Белый скат ее уходит куда-то в небо, вверх. Комбата с солдатами оставляю внизу по краю оврага. Собираю разведчиков и веду вполголоса разговор.
– Тремя группами будем двигаться к верху. Сенченков с ребятами справа, я с группой Камышина посередине, а ты, Данилов, со своими вправо, в обход высоты. Подниматься будем медленно, не забегая вперед, не отставая на подъеме. Другого мнения нет? – спрашиваю я. Отдельные предложения тоже отсутствуют? Значит, идем до вершины в открытую и никому не стрелять.
Мы идем медленно, сохраняя дыхание и силы. Где-то там впереди наверху чувствуется вершина. Мы ее не видим, она сливается с белой порошей, но мы ее чувствуем каждым дыханием и каждой печенкой.
Сверху неожиданно раздается немецкий оклик. Говорят двое, направляясь к нам. Мы, как по команде, ложимся и замираем. Окрикнувший идет и всматривается в белую пелену – прикидываю я. Сейчас он подумает, что ему просто показалось. Каких-то еще пара брошенных в нашу сторону слов.

Я жду очереди из немецкого автомата и взлета осветительной ракеты. Но ни тугого выстрела ракеты, ни резкого выстрела пули пока нет. Мы лежим еще некоторое время, выбирая момент тихо подняться и легко сойти вниз, к подножью высоты. Нужно только дать время, чтобы немцы успокоились и решили, что им показалось, что кто-то тут есть.
И в это время прямо на меня из-за куста вывалила огромная фигура немца. Он попятился задом, поддерживая на весу запутавшийся в кустах между голых веток, телефонный провод. Я только успел в его сторону рукой показать, как двое разведчиков метнулись к нему, схватили его за руки и в рот воткнули тряпичный кляп. На него накинули простынь и тут же положили на брюхо, подмяв под колено, за куст.
Рядом свободному разведчику я показал на катушку с телефонным проводом и движением руки дал понять, что ее надо размотать и провод положить дальше. Он подхватил катушку и, поддерживая провод, стал спускаться вниз, подергивая на себя телефонный провод.

Ко мне броском перекинулись ребята из соседних групп. Они легли за кустом по правую сторону от провода. Немца, которого укрыли простыней, осторожно за руки и за ноги волоком спустили вниз. Я тоже несколько отполз, поднялся и отошел в сторону. Встав на колени, чтобы было видно, я затаился, смотрел вверх и ждал. Сверху, держа провод в руке, спускался второй немец. Он что-то крикнул вдоль провода своему напарнику вниз, но, не получив ответа, почувствовал натяжение провода в руке и стал спускаться молча вниз. Его пропустили и тихо последовали за ним. Отойдя за куст метров двадцать, чтобы сверху, с вершины не увидели возни, разведчики с разбега сбили его с ног, и он с перепугу не пикнул. Два немецких телефониста были в наших руках.
– Вот это дела! – сказал кто-то из ребят и шмыгнул носом.
У нас, у разведчиков были свои правила и понятия. Мы, например, зимой, уходя на задание, всегда брали с собой пару новых маскхалатов и пару простыней. Мало ли как все сложится. Каждый нечаянно может порвать свой маскхалат. На группу из шести всегда есть один запасной. При выходе на задание я не напоминал ребятам на счет маскировки. Каждая вторая тройка знала, что необходим один новый комплект.
– Надеть на немцев маскхалаты! – подал я команду вполголоса. Мы в это время уже спустились к подножью высоты. Я буду разговаривать с комбатом, а вы с немцами держитесь в стороне. Ему не нужно знать, что мы здесь взяли пленных. Сенченков и Филатов, пойдете со мной! Остальным ухо держать востро!
Я окинул взглядом оставшуюся группу – немцев от разведчиков не отличишь. Заходим в лес. Славяне сидят, опершись спинами о стволы деревьев. Кое-кто уже и посапывает, губы дудкой, кое-где храп раздается.
Слава Богу, ночь в ноябре длинная. До рассвета еще далеко, пехоте еще хватит времени выспаться и занять высоту. Нахожу комбата. Показываю на высоту.

– Ну вот что, гвардии старший лейтенант. На вершине у немцев наблюдательный пункт. Начальство сидит. Два пулемета и человек двадцать охраны. До вершины можно идти спокойно. Если котелками не будете греметь. Как только пройдете кусты, приготовиться к атаке. Советую вершину брать охватом. Меньше потерь будет.
– А вы разве с нами не пойдете?
– Ты опять за свое? По-моему, тебе все ясно. В штабе полка об этом договорились. Я, старший лейтенант, свою работу сделал. У меня люди особые. Я не могу своими людьми рисковать. Я тебя подвел к высоте. По немецким тылам ты прошел без потерь. Теперь очередь твоя. Наша работа кончилась. Веди своих солдат на высоту. Ты на этот счет имеешь от командира полка приказ. Возьмешь высоту, глядишь, и Красное Знамя получишь. У тебя приказ высоту брать есть?
– Есть!
– А у меня такого приказа нету! Тебе это понятно?
– Понятно! Они по-русски ничего не понимают, как мне ими командовать?
– Это я тебе растолкую. «Давай, давай!» – Это они у тебя понимают?
– Ну! Это понимают!
– Ты, лейтенант, надеюсь, умеешь ругаться?
– Ну да!
– Скажешь им: «мать-твою-мать!». Они это сразу поймут.
– Ну да, поймут!
– А ты знаешь, как командир полка по телефону руководит боем?

– Давай! Мать твою так! А то расстреляю! Вот и вся тактика и весь боевой приказ. Ты, наверное, думал, что на войне все по науке и по уставу. У него грамотенки, наверное, всего пять или шесть классов. Он не любит всякие ученые книжки читать. Ну, давай, действуй! Жму твою руку. Желаю успеха.
– Слушай, капитан, а откуда ты знаешь, что наверху КП и сидят немцы?
– Ну ты, парень, и гусь! Вон, идем. Там провод с катушкой и аппарат есть немецкий. Я тебя с вершиной соединю, ты сам у них спроси. Ну как, будешь с немцами по телефону говорить?
– Да ладно, я так. Думал спросить тебя для проверки.
– Сенченков! – позвал я командира разведгруппы.
– Пойдешь в головном охранении, по старым следам не ходи. Путь держи напрямую. Азимут, дистанция двадцать метров.
Мы шагнули в овраг, завернули в излучину, и батальон стрелков исчез на повороте за елями. Идти было легко, не было тягостного чувства, что за тобой идет стадо коров с дребезжащими котелками на шее. Мы быстро прошли лес, вышли в открытое поле.
Когда мы шли к высоте, то по времени могло показаться, что мы сделали километров двенадцать. Теперь на обратном пути и восьми, вероятно, не было.
Всё было тихо, мы прошли и поле, и лес. Теперь мы находились на опушке у правой дороги, которая от опущенного в землю дома уходила в кусты. В те самые кусты, где засели и откуда постреливали немцы.

Мы оказались на одной линии кустов, торчавшей над землей крыши и наших противотанковых пушек. Куда, собственно торопиться? – подумал я. Надо передохнуть. И я остановил разведчиков. Здесь наши рядом совсем. Считай, из тыла немцев мы вышли.
Нам оставалось повернуть вправо, через гребень, где стояли наши пушки. За пушками густой ельник, там находится Рязанцев с остальными ребятами. Считай, теперь мы дома.
Я остановил разведчиков и подал команду «ложись». А сам про себя подумал – действительно надо передохнуть. Сейчас, как только придем, командир полка опять куда-нибудь сунет. Третьи сутки на исходе, а мы все на ногах.
Какая бы мысль не пришла командиру полка с похмелья в голову, меня тут же найдут и пошлют в первый батальон помогать держать оборону. На кой черт мне вся эта братия? У стрелков есть комбаты, замполиты, командиры рот, а организацией обороны должен заниматься вечно я.
Кто я? Зам. у командира полка или посыльный на побегушках? Был бы я замом – сбегал, на боковую и спи. А я всё время на передовой и все дыры свои командир полка хочет заткнуть разведчиками.
Командир полка сам в батальон не пойдет. Начальник штаба в немецком блиндаже сгорел, зам по политчасти на передовую носа не кажет. Комбаты, как ребятишки, ни на что не способные, прикидываются бестолковыми, мол, опыта войны не имеем. Вот он и дергает меня.

– Ложись! Отдыхай! – пояснил я свою команду.
Немцев тоже положили. Ребята привалились на них. Я лег на спину и закрыл глаза. На опушке тихо, ясный день на небе, даже пригревает. Лежу на спине с закрытыми глазами, а сам думаю:
– Рязанцев со своими ребятами находится в густом ельнике. Сейчас придем туда, нужно будет старшину срочно вызвать, пусть жрачку несет, ребята голодные.
Может, я заснул, может, в полусне на секунду забылся. Открываю глаза. Смотрю, надо мной чистое небо, ни серых холодных облаков, ни хмурого горизонта. Выпавший накануне снег повсюду растаял. Солнце лезет в глаза.
И меня вдруг что-то от земли вверх подбросило. Вскакиваю на ноги – прямо передо мной длинный танковый ствол торчит. Поворачиваю голову – черны с белым кантом кресты на боках. Как он мог подойти? Никто рокот мотора не слышал. Вот, оказывается, почему все время из кустов постреливали. Били из пулеметов прицельным огнем, чтобы к ним вплотную подойти не могли. Они не давали себя обнаружить.
– Танки! – подал я ребятам команду. Одним вздохом, одним порывом ветра, налетевшего на опавшую листву, разведчики повернулись и были уже на коленях. Все смотрели на танки. Их было два. Два тяжелых Фердинанда. Один стоял впереди, другой несколько левей и сзади.
Если мы не уйдем с опушки леса в сторону шоссе, то мы попадем под огонь нашей артиллерии. По опушке могут ударить реактивные установки. А они, известно, бьют по площади.

По танкам могут промазать, а нас разнесут в клочки. Оставалось одно. Бежать под стволами у танков и преодолеть триста метров открытого пространства. Первыми пустим ребят, которые поволокут пленных немцев.
Из танков пока нас не видят, у них внимание сосредоточено вперед. Те, кто первыми пойдет, у них есть шанс проскочить невредимыми.
– Вы двое, берите немца за руки и бегите в сторону шоссе! – говорю я и делаю знак другим оставаться на месте. Пленные видят, что это немецкие танки, но в то же время понимают, что на них надеты русские маскхалаты. Первого немца рывком поднимают и ставят на ноги. Я даю команду – пошли! И они бросаются вперед поперек стоящих танков. Немец цепляется ногами! Первая пара, пробежав сто метров, падает на землю. Танковый пулемет поворачивает ствол в их сторону, пускает длинную очередь и всё трое, вздрогнув, оседают к земле. Средний пытается приподняться, новая очередь успокаивает его. Наши двое, что лежат по бокам, замерли и не двигаются. Выжидают? Убиты? Ранены? – мелькали в голове мысли. Вот тебе и легкая добыча! Одного языка уже нет. Теперь нужно пускать другого. Башенные люки танков закрыты. Но я вижу, как смотровой перископ начинает поворачиваться в нашу сторону.

– Внимание! Всем приготовиться! Сенченко, ты страхуешь немца сзади! Бежать под самыми стволами танков. Не вздумайте ложиться или драпать по диагонали к стволам. Все видели, что из этого вышло? Если немец упадет, задние тут же хватают его за ноги.
– Внимание всем, – подаю команду.
– Вперед!
Триста метров мы пробежали за один удар хлыста. Немцы из танков пустили очередь, когда мы промелькнули у них под носом, у самых гусениц. А в спину нам не прозвучало ни одного выстрела.
Я прыжком скатился в канаву и обернулся назад. Белых халатов на поле не было видно. Где немец? – промелькнуло в голове. В такой ситуации ребята могли схватить кого-нибудь из своих за руки и приволочь сюда. Все дышали прерывисто, хватая воздух открытыми ртами.
– Где немец? – спрашиваю я. Все молчат.
– Где немец? – заорал я.
– Вот он, товарищ гвардии капитан – похлопав немца по плечу, показал Сенченков.
На душе у меня сразу стало легче. Собираюсь с силами, сжимаюсь в комок – вспоминаю последний момент перед рывком через открытое поле.
А может, лучше бы в глубь леса уйти? Переждать там? Что-то наши из пушек и реактивными не стреляют. Думаешь, как лучше, а выходит все наоборот. Пустил двух ребят с языком, потерял людей зря.
– Сенченков! А где первые двое с немцем, что на поле легли?
– Они здесь, в овраге. Немца убитого приволокли.
– А ребята ранены?
– Нет! Они без царапины.
– Отправь пленного в штаб полка. Всем остальным идти в густой ельник!

Отдышавшись в канаве, мы поднимаемся. Обходим стороной открытое поле и, пригибаясь за гребень, выходим на огневые противотанковых пушек. Со мной остались трое. Остальные ушли к ящикам, в лес.
– Почему не ведете по танкам огонь? – кричу я, забегая, пригнувшись, на огневые позиции.
– Где ваши офицеры?
– У нас бронебойных нет. Командир батареи побежал в штаб, чтобы снарядов подвезли.
– Ничего себе, прохвосты! Немцы на танках идут, а он по другую сторону шоссе прячется! А это какие снаряды?
– Это все осколочные.
– Наводи по стволу! Заряжай по гусенице осколочным!
– Гусеницу не возьмет!
– Наводи! Я приказываю!
Наводчик и заряжающий припали на колено и умоляюще смотрели на меня. Как будто я их хотел схватить за шиворот, приподнять над бруствером и показать немцам. Смотрите, мол, вот они! Дайте им свинца порцию!
Я выхватил из кобуры пистолет, рыкнул на них, но они не подались к затвору ни на сантиметр. Я взглянул на разведчиков, стоявших рядом и державших на изготовке автоматы, и увидел, что они улыбались.
Действительно, на эту трясущуюся у пушек прислугу было жалко смотреть. Я сплюнул на станину пушки, сделал два выстрела по стальному щиту и покачал головой. Пули ударились и завизжали рикошетом.

Я подумал: несколько выстрелов из шести противотанковых пушек и гусеницы у переднего могли сползти. Этих несчастных трусов нужно бы расстрелять на месте.
Но у меня не поднялась рука выстрелить в русского человека. Голос мой не слушался меня, был какой-то сиплый и хриплый. Я еще раз плюнул, убрал пистолет, подошел к краю бруствера и стал смотреть на танки.
Перед фронтом шести противотанковых пушек стояли два тяжелых танка. Стоял собственно один. Второй был сзади, прикрываясь корпусом первого.
Были бы сейчас бронебойные – дать залпом по первому и дело с концом. Он даже бы и не рыпнулся. Я с пулеметами держал танки под Белым. А эти с пушками навалили в штаны. Мать их в затвор!
По дороге между нами и танками из-за крыши опущенного дома показался гусеничный трактор. На прицепе он вез за собой 152-ух миллиметровую гаубицу. Тягач, по-видимому, возвращался к своим. Где сейчас 158-я дивизия с танками и пушками, что ушла вперед? Вон ее первый вестник на тракторе появился.
Водитель сидел за рычагами, посматривал вперед на дорогу и покуривал. Ему ни к чему, что справа стоят два немецких танка. Он ни на кого не обращает внимания. Тракторист уверен, что он шлепает по освобожденной земле.
– Дай две очереди трассирующих по трактору с опережением. Может, увидит, очнется! За гулом мотора – кричи не кричи – всё равно не услышит.
Сенченков пустил две короткие очереди поперек дороги. Трактор гремел, водитель, как сидел, так ничего и не увидел. Передний танк повел стволом в сторону и вниз. Опустил дульную часть на нужный уровень.

Сейчас он его разбудит. Блеснул выстрел. Из ствола вырвалось облако дыма. Мы, как привороженные, смотрели на трактор и на тракториста.
Снаряд ударил беззвучно. Потому ли, что расстояние было небольшим? Выстрел и взрыв прогремели почти одновременно. Водитель свалился набок и стал медленно падать к земле. Как в замедленной съемке. Может, это было и не так, но мне именно так показалось.
Упав на землю, он подскочил на месте, сделал перебежку и снова припал к земле. Второй выстрел пришелся в бак с горючим. Тягач сразу вспыхнул, выплескивая веером пламя и дым. Выпустив облако черного дыма, он продолжал гореть и урчать на месте.
Вот удобный момент ударить нашим из пушек. Но разве у наших хватит духу собраться и выстрелить в этот момент?
Я стоял за бруствером и смотрел на танки. Если они захотят ударить сюда, то я просто присяду. Перед выстрелом он довернет ствол сюда. Разведчики, видно, поддались трусости пушкарей. Они пригнулись к земле и попятились задом. Все ждали, что танк теперь ударит сюда.
– Куда попятились? – крикнул я.
– Если они тронутся с места и поползут сюда, мы всегда успеем отбежать к опушке леса. Ищи нас потом в лесу. А на этих прохвостов нечего смотреть. Они землю готовы есть, видишь, как они на брюхе ползают вокруг лафетов? Им бежать некуда. Им пушки бросить нельзя.

Мои слова подействовали и на тех, и на других. В бою всегда надо чуть-чуть. Одно брошенное слово может сделать панику или поднять дух.
В это время со стороны зарытого дома послышалась пушечная стрельба. Там стояли наши полковые семидесяти шести. Всплески огня и дыма, перебежки солдат были видны в том направлении вдоль дороги. Я вскинул бинокль и посмотрел туда.
В узкое пространство между двумя опушками леса вползали немецкие танки. Один, два, три, десять. Они шли по дороге, по которой только что прошел наш гусеничный тягач. Передние танки крупные, похожие контуром на эти, а задние, в пыли и в дыму, другого калибра и поменьше.
На войне бывают нудные моменты. Никаких тебе героических дел и боевых эпизодов. Немец бьет из всех видов стволов. А мы сидим под огнем в окопах и не смеем поднять головы.
А здесь – стоило нам перевалить через шоссе, не успели одного расхлебать, как тут тебе, пожалуйста, лезет одно хлеще другого.
Не думайте, что слова о войне можно высосать из пальца или придумать. Нужны конкретные факты безо всяких гнусных крылатых слов и литературных оборотов. А то и война будет звучать фальшиво и дешево.

Если бы у меня была возможность когда-нибудь потом объехать все эти места, я бы показал вам заросшую яму, где была опущена в землю изба. Ящиков и пустых бутылок, я думаю, не осталось. А вот могилы солдат и сгоревшего майора я смог бы найти. Майора и солдат похоронили вместе. Тогда на фронте всё было быстро и просто.
Убило офицера рангом повыше, он собственно, и не воевал, а роют могилу. Погибли солдаты стрелковых рот – лопаты в землю не воткнут. Живые оставшиеся солдаты зря силы тратить не станут. Вонять можно и без полковой жалостной музыки.
Из двух первых разведчиков оба вышли невредимыми. Им даже пулями не порвало маскхалаты. Пленный немец, конечно, погиб. Вот судьба, скажу я вам! Думал ли этот немец, что будет расстрелян своим пулеметом за то, что проявил старание и рвение, служа Великой Германии и своему фюреру?
Одного из разведчиков отправили в медсанбат. Он бежал из под танка с навылет простреленной грудью и с двумя пулями в плече. Его оправили в госпиталь. Дальнейшей судьбы его я не знаю. Обычно разведчик возвращался из госпиталя в свой полк. Этот ни вскоре, ни потом назад не вернулся. Помню его в лицо, а вот фамилии его не помню.
Но вернемся к танкам! Мимо меня пробежал с окровавленной рукой старший лейтенант артиллерии. Первый раз я видел артиллеристов на линии огня вместе с пехотой. Командир батареи семидесяти шести. Он был из нашей дивизии. Своих артиллеристов офицеров мы знали в лицо.

Чуть сзади него бежали три раненых солдата. Старший лейтенант был без шинели, а из рукава гимнастерки у него сочилась кровь. Он придерживал раненую руку, как бы боясь, чтобы она не оторвалась и не упала в грязь.
– Пушки разбило! – крикнул он на ходу, поравнявшись со мной. Он, видно, подумал, что я останавливал всех бегущих, собираю их и гоню назад.
Разведчики, стоявшие сзади, смотрели на меня. Чего же ты ждешь, капитан? Передовая прорвана. Танки идут сюда. Сейчас начнется мордоворот. Никто мне этого не говорил, я по глазам все это понял.
– Смыться всегда успеем! – сказал я, как бы рассуждая вслух. Лес рядом, всего двадцать шагов. Пусть подойдут поближе. Вон два «Фердинанда» стоят и боятся подойти. Никакой паники! – крикнул я.
Солдаты артиллеристы и стоявшие рядом разведчики, переглянулись. Шутит гвардии капитан или правда нужно стоять? А у меня в такие моменты появлялась какая-то особая злость. Я готов был лезть к чёрту на рога.
Солдаты всегда, когда болит душа, глазами щупают своего командира. Стоит ему вздрогнуть, они уже драпают впереди, и их не догонишь. Стоит ему сказать хохму, у них с души свалилась тяжесть, и они разогнули спины.
Я разрываю пакет и накладываю на руку старшего лейтенанта.
– Ну-ка быстро замотай! – говорю я Сенченкову. Да затяни покрепче!
– Пойдешь вот здесь кустами к шоссе, – говорю я старшему лейтенанту. Там на обратном скате в овраге командный пункт нашего полка.

– Добежишь туда, передай обстановку! У этих засранцев с противотанковыми, бронебойных снарядов нет. Видишь, они перед пушками ползают на корточках.
– Какой разговор! Лично обо всем доложу!
– А вы, ребята, топайте побыстрей. Там за шоссе перевязочный пункт, сразу за канавой.
Раненые подались вперед.
Обстановка аховая. Здесь, на фланге два «Фердинанда» стоят. Чего они ждут? Почему вперед не лезут? Там, по дороге целая колонна немецких танков идет. Здесь, на перекрестке дорог они должны встретиться. Эти два ждут, чтобы не ударить по своим. В дыму и пыли опознавательные знаки плохо видно. Вот-вот колонна танков должна показаться у дома.
Добежал старший лейтенант до командира полка или еще нет? Вот еще с десяток раненых пробежало мимо. Раз раненые бегут, значит, танки им наступают на пятки. Солдат на фронте бегает редко. Бежит, когда деваться от верной смерти некуда. Вот тот момент, когда казалось, что все потеряно и все рухнуло.
Нам, разведчикам трогаться с места нельзя. Мы с передовой должны уйти последними. И тут из-за шоссе, где стояли наши тылы, земля поднялась на дыбы, воздух задрожал от рева реактивных снарядов.
Вы никогда не чувствовали своей шкурой и всеми позвонками скрежет и рев бушующего пламени реактивных снарядов. Особенно вблизи. Когда этот рев заглушает пушечные выстрелы и разрывы снарядов.

Налетевший рев и скрежет выбивает мозги и всякие мысли. Он на миг останавливает бегущих, он к земле пригибает стоящих, он лежащих заставляет на брюхе ползти. Мы невольно вздрогнули и пригнулись, но остались стоять.
Я следил, куда полетят реактивные снаряды. Звук их я слышал не раз. Раза два бывал под разрывами снарядов. Снаряды летели к земле. Скорость полета у них гораздо ниже, чем у обычных пушечных.
Пушечный снаряд можно увидеть, когда болванка ударяет в землю. Гаубичные я несколько раз видел на излете, когда они пролетают над головой мимо тебя. А «Эрэсы» видно на взлете с лафета и на снижении, когда они падают в землю.
Вот они проревели над нами. Их цель была в какой-то сотне метров от нас. Удары один за другим слились в сплошной неистовый грохот. Десятки молний одновременно обрушились на крышу врытого дома и на танки, что уже урчали за ней.
Хорошо, когда наперед все известно. Когда ты знаешь, что никого не ранит и не убьет, что и ты останешься живой. А когда над крышей и над танками, которые обходили ее, взметнулись огненные брызги и облака черного дыма, когда в узком пространстве между лесом загорелась летевшая к верху земля, места себе не найдешь. Так и стоишь, как дурак, ничего не соображая.
Грохот взрывов вдруг оборвался, и зловещая тишина воцарилась кругом. Никакой тебе похоронной музыки, никаких слез и всхлипов, ни малейшего звука, как будто ты и не на войне.
– Разрешите, товарищ гвардии капитан, в танках трофеи проверить! – услышал я сзади себя загробный голос кого-то из разведчиков. Кто-то вызвался, не долго думая, отправиться туда. Эта мысль вернула меня к тишине и к действительности.
– Да! Да! – подхватили остальные.
– Подходящий момент, товарищ капитан!
– А то потом будет поздно! Может, фрица живого добудем!
– Не торопись! – прохрипел я. Может, наши дадут еще один залп! Мне ваши трупы не нужны! Мне нужны живые люди, а не бутылки со шнапсом. Через час разрешу. А сейчас еще раз и не заикайтесь! Ясно?
– Ясно! – отозвался кто-то.
Густые облака дыма и языки пламени плясали над танками.
– Там пехота теперь по танкам шарит. – протянул кто-то.
– Какая пехота? Ее теперь за шоссе ищи!
– Так танки горят! Все ценные вещи огнем испортит!
Я оглянулся вправо. Посмотрел быстро туда, где только что стояли два «Фердинанда». По ним залп не давали, а их и след простыл.
Немцы на танках теперь научились пятиться задом. Увидели реактивный залп, и – задом, задом, да и в кусты! Вот бы нам сейчас пару таких воротил! – подумал я. Можно было бы с разведкой до Витебска махнуть! Фронт открыт. А наши с пехотой топчутся на месте!
– Разрешите, товарищ гвардии капитан! Залпа больше не будет!
– Ладно, черт с вами и вашими трофеями! Идите! Отпускаю пять человек!

Когда примерно через час обратно вернулся сержант Сенченков, на роже его было выражение неудовольствия.
– Ты чего хмурый такой?
– А что, товарищ гвардии капитан! Просили вас сразу отпустить? Пришли к танкам, а там пехота и эти, из противотанкового дивизиона. Стрелять по танкам – снарядов нет, а трофеи собирать они первые.
– Как же они прошли туда? Я все время стоял здесь, на передней позиции.
– Они кругом ползком обошли нас. Вот как обидно! На ногах трое суток, пленного взяли – без медалей и трофеев! Даже выпить нечего от такого огорчения! У старшины резервов нет, и теперь придется жить на сухую. А у ребят от такой неудачи душа болит. Хоть бы грамм по двести на брата – немного разговеться!
– Не надо так сильно переживать. Может, у старшины что и осталось. Ты мне лучше скажи, все люди оттуда вернулись?
– Остались двое. Хотели еще в одном танке пошарить. Надежд никаких. Я сам все танки обшарил. Вот, кроме нескольких пачек сигарет ничего не нашли.
– Ну ладно, пойдем на ящики в ельник, а то скоро стемнеет.
Мы повернулись и пошли. По дороге нас нагнали те, оставленные двое.
– Ящик шнапса! Где взяли? – спросил, обернувшись к ним, Сенченков.
– Если, сержант, рассказать – не поверишь!
– Пол-ящика шнапса?
– Конечно!
– Ну и где?
– Обшарили мы все. Нигде ничего. Славяне раньше нас все обчистили. В танках всегда навалом трофеев. Не могли они быть пустыми. Я выругался и говорю Хомуту: «нужно топать назад, а то искать будут».
– А кто такой Хомут? – спрашиваю я.
– Это он, товарищ капитан, Анохин.
– А почему же «Хомут»?
– Это кличка у него такая, секретная.
– Ну и ну!
– Идем уже к себе. Решил оглянуться. Вижу – солдат с ящиком идет. Держит его двумя руками. Смотрю – в сторону, в сторону, уходит от нас. Слышу, вроде бутылки в ящике побрякивают. У меня аж дух сперло, душа дернулась, ноги задрожали. Как же так, уходит такая добыча. Включаю седьмой ржавый, аж в мозгах заскрипело. Нагибаюсь к Хомуту и шепчу ему на ухо: «Я бегом и выйду ему навстречу. А ты дугой его сзади обходи». Забегаю вперед и останавливаюсь. Жду, пусть сам в упор подойдет. Видимость небольшая. Дергаю затвор автомата и ору как будто часовой: «Стой! Стрелять буду! Кто идет? Хенде хох!».
– Свой я! Чего орешь?
– Какой свой? Раз от немцев топаешь. Сказал, стрелять буду! Для солидности даже пустил вверх одну трассирующую.
– Почему один на ночь глядя шатаешься? Власовец? Перебежчик? Шпион, диверсант?
– Я с артдивизиона! Свой я!

– Какой ты свой? Прихвостень немецкий! Где твоя винтовка? Номер говори!
– Винтовка там. Около пушек на позиции.
– Мину в ящике тащишь! Артиллерию нашу взорвать хочешь?
– Бутылки с вином это.
– Врешь, ползучий полицай! Сейчас отправлю в контрразведку. Там из тебя быстро правду выбьют.
– Да не шпион я.
– Давай одну бутылку! Я сейчас проверю, шнапс это или горючая смесь.
– Как я тебе дам? У меня две руки заняты, сам бери.
– Давай, браток, ящик подержу – говорит подошедший сзади Анохин.
– Солдат, не долго думая, передал ящик в протянутые руки, зацепил одну бутылку и передал мне ее на пробу. Я взял бутылку левой рукой и, извиняясь, стал жать ему правую. Жму, трясу, говорю спасибо. Он руку тянет к себе, пытается оглянуться. А я держу его и тяну на себя. Когда он повернул голову в сторону ящика, а его и след простыл.
– А этот, что с тобой из артдивизиона, тоже с тобой?
– Я его совсем не знаю.
– Ну, вот что, служивый, придется тебя арестовать. То он с тобой, то ты его не знаешь? Мы некоторое время стояли и молчали.
– Ладно, черт с тобой! Отпущу тебя. Ты, видно, парень свой. Топай к своим, да не говори никому, что я отпустил тебя. У нас в заградотряде строго на этот счет. Подумают, что ты к немцам перебежать собрался. Давай иди!
– Ну и как солдат? – спросил я.
– А что ему? Он так и не понял, что ему мозги вкрутили. Сказал спасибо и пошел в дивизион. Тыловики заградотряда боятся. Как что, их сразу на передовую и в пехоту.
– Ну и ну!
Мы простояли на этом участке еще два дня. Из резерва к фронту подошла другая дивизия, нас сменили и отвели на другой участок. В полках у нас осталось по полсотни активных штыков. Семнадцатая гвардейская нуждалась в пополнении.
А как же тот зарытый дом? Что там осталось? Что случилось с батальоном, который остался у подножья высоты 305 и должен был брать высоту? О том и о другом будет рассказ особый.
* * *

– курсивом выделен зачеркнутый текст
12.09.1979
Ноябрь 1943

Немцы, сбитые с рубежа, отступили на Витебск. Мы идем по дороге, посматривая по сторонам. Слева, край леса стоит вдоль дороги, а справа открытая местность медленно уплывает назад. Место для рубежа немецкой обороны здесь не подходящее. Где попало, оборону они не будут занимать. Им выгодные рубежи нужны. А тут слева лес, а справа бугры и болота. Встречных выстрелов пока не слыхать. Так что мы идем, не озираясь и особенно не прячемся.
Впереди километрах в двух по карте виден крутой овраг. С той стороны оврага господствующая местность. И лес обрывается при подходе к оврагу. На этой линии по-видимому и закрепились немцы.
Слышу сзади какой-то топот. Оборачиваюсь назад, вижу по дороге вслед за нами кто-то скачет трусцой на лошаденке верхом. Видно за мной из штаба нарочного послали вдогонку. На повороте он нас нагоняет, и не слезая с лошади обращается ко мне.
– Товарищ гвардии капитан! Вас в штаб полка срочно вызывают!
До рубежа, на который мы должны выйти, идти осталось немного. По предварительным данным немцы должны закрепиться где-то недалеко впереди. И сейчас, при подходе к немцам, впереди нас на дороге наших нет никого.
Нам нужно где-то здесь на подходе к немцам выбрать себе место для землянки или найти готовый блиндаж. У немцев они вдоль дорог попадаются часто.
На ходовых дорогах всякое может случиться, может быть, вынужденная остановка или произойти какая авария. А немцы на ветру, на открытой дороге в стужу не могут сидеть. Они там и тут вдоль дороги строят укрытия и блиндажи.
Пока на новый рубеж не вышла наша пехота, нам нужно где-то здесь отыскать себе пустой, брошенный немцами, блиндаж. Потом бегай, ищи! Славяне расползутся по линии фронта, не только землянки и блиндажи позанимают, все дыры и норы займут.
Мне нужно вернуться назад, а Федя пусть топает вперед и в метрах пятистах от немецкой обороны ищет готовое укрытие для разведчиков.
Если я так срочно нужен им в штаб, могли бы с нарочным прислать мне оседланную лошадь. Вестовой развернулся, и криво сидя в седле, смотрит на меня и ждет, что я скажу. А мне нет охоты пехом топать по дороге и назад потом сюда возвращаться. Я выругался, конечно. А связной опять за свое.
– Товарищ гвардии капитан! Полк, следуя на марше, получил пополнение!
Теперь мне понятно, зачем вызывают меня. Обычно из сотни прибывших солдат мы отбираем в разведку двух, трех или чуть больше. А в этот раз по словам связного в разведку изъявили желание пойти сразу десять человек.
В полковую разведку мы берем исключительно добровольцев. При отборе ребят мы обращаем внимание на физические данные. Проверяем их на слух. Испытываем реакцию и зрение. Остальному, они потом научаться. Главное – было бы желание!

Я велел Рязанцеву топать вперед и при подходе к немцам заняться поиском блиндажа.
– Если сойдешь с дороги, оставь на дороге двух разведчиков. Пусть они на дороге ждут нас. С собой в штаб полка я возьму сержанта Сенченкова.
Связной повертелся в седле, ударил сапогами в бока своей тощей гнедой кобыле и рысцой затрясся обратно по дороге. А мы с Сенченковым пеший потопали назад.
Пополнение дают на ходу. Что это значит? В наступление сразу перейти нельзя. Мы не знаем системы немецкой обороны. Наступление вообще нужно готовить долго. Люди, оружие, боеприпасы, питание, снабжение и направление удара! Просто так, на ура, немцев с рубежа не собьешь! Может просто решили пополнить полки и занять оборону километра на два по фронту. Сейчас в ротах осталось мало солдат. Считай в полку две неполных стрелковых роты.
Мы прошли по дороге километров пять. Здесь дорогу пересекает небольшая низина. За низиной болото. Она заросло и теперь покрылось снежной пеленой. За болотом пригорок и сплошная стена старого леса. Деревья высокие. Чтобы взглянуть на их макушки, нужно запрокинуть голову далеко назад. Где-то здесь в сторону уходит лесная дорога. Нам нужно свернуть на нее и пройти через лес. За лесом находится небольшая деревня. В ней и расположен наш штаб полка.
Проходим лес – впереди открытое поле. У дороги стоит одинокий сарай. За сараем видны побелевшие от первого снега крыши.
Привалившись к стенкам сарая, сидят и лежат солдаты нового пополнения. Они все без винтовок, с пустыми вещмешками. Это маршевая рота.
В деревню, где находится штаб, им хода нет. Туда солдат вообще не пускают. К сараю подвезут кормежку, винтовки и патроны. Здесь им выдадут лопаты, каски, противогазы и прочую солдатскую амуницию. Отсюда, от этого сарая солдатики начнут последний свой путь.
– Кто тут добровольцы в полковую разведку? – подхожу к сараю и спрашиваю я.
От стены отделяются несколько человек. Одеты они в бушлаты, на ногах у них сапоги. Остальные, что сидят у стены, в шинелях и в ботинках с обмотками.
– Отойдем в сторону! Откуда прибыли?
– Мы из десантной бригады! – отвечает старший сержант.
– А почему вы в пехоту попали?
– После неудачного десантирования нашу бригаду расформировали. А наш батальон не успели поднять в воздух. После этого бригаду расформировали и всех кто остался, отправили в пехоту на фронт.
– Ты тут потолкуй с ними! – обращаюсь я к Сенченкову.
– А я зайду в штаб и оттуда к нашему старшине загляну. Он должен где-то здесь около штабных околачиваться. Скажу, чтоб оружие на ребят получил.
– Списки на вас в штабе есть? – спрашиваю я ст. сержанта.
– Есть! Писарь приходил утром сюда и всех нас переписал, кто захотел пойти в разведку.
– У кого какие вопросы будут, вот у нашего разведчика Сенченкова спросите.

После разговора с начальником штаба и оформления списка у полкового писаря, я разыскал старшину и велел ему получить на вновь прибывших все необходимое.
Когда старшина все получил, мы поехали к сараю, где нас ожидали, прибывшие в разведку. Раздав автоматы, боеприпасы и накормив молодцов, мы двинулись по лесной дороге.
Я сидел на повозке за спиной старшины. Сенченков шагал рядом, он трястись на телеге отказался. Шествие замыкало новое пополнение, которое чуть сзади и в ногу шло.
Сенченков приблизился ко мне, наклонился, держась за край телеги и тихо спросил:
– Чего они в ногу идут? Разведчикам так не положено!
– Пусть в ногу идут! У них видно аэродромная привычка. Поживут среди наших, пообвыкнут, всему научаться и в ногу перестанут ходить.
Пять километров мы как-то прошли незаметно. До того места, где мы расстались с Рязанцевым идти оставалось немного. Два, три поворота дороги, вот и кусты, где мы повернули обратно.
Проходим вперед еще метров пятьсот, на дороге двое ребят нас дожидаются.
– Вперед ушла небольшая группа поиска. Ей поручено проверить рубеж обороны немцев. Ребята из поиска еще не возвращались – докладывают мне оставленные на дороге.
– А, где Рязанцев и все наши?
– Вот чуть вперед и вправо свернете по тропе!
Кругом открытое поле, снежные бугры и низины. По земле стелится мелкий шуршащий снег.
– Не знаешь? Ребята, для взвода блиндаж, где нашли?
– Точно не знаю! Но видал, здесь около дороги толкутся.
Я объявляю привал.
– Сходи кто-нибудь один из вас туда и узнай, куда нам с пополнением и с повозкой ехать?
Здесь в кустах под обрывом тихо, намело толстый слой снега. Заваливаешься в снег, сидеть мягко и удобно. Где-то правее нас гудят немецкие самолеты. Бомбежка то утихает, то нарастает с новой силой. Разрывы и гул самолетов слышны то далеко, то совсем близко.
До сих пор мы передвигались только ночами. Сегодня при подходе к немцам, мы сделали дневной переход. И по дороге нас как следует ни разу не бомбили. Попали мы однажды, и то потери понес обоз.
День приближался к концу. Надо идти, решаю я. Мы поднимаемся с места и неровной толпой снова выходим на шоссе. Старшина с повозкой теперь поскрипывает сзади.
Придорожная канава, кусты и голые белые бугры уплывают назад. Ни справа, ни слева – ничего примечательного. Кругом открытое пространство, серый, покрытый снегом неясный горизонт и больше ничего.

Поперек дороги проходит неглубокий овраг. По дну оврага течет незамерзающий прозрачный ручей. Через овраг в створе дороги перекинут хорошо сохранившийся мост. Мост собран из толстых тесаных бревен и обшит струганными досками. По бокам перила сделанные из квадрата. Это не наша, это немецкая работа. По такому мосту могут вполне пройти тяжелые танки. Но почему при отходе его не взорвали немцы? Видно паника у них в это время была?
Нам навстречу бежит посланный солдат и машет рукой, чтобы мы никуда не сворачивали и стояли на месте.
– Щас покажу, где объезд! – кричит он.
Крутые скаты оврага у самой воды заканчиваются небольшой ровной площадкой. Чуть в стороне от моста, под крутым скатом оврага врыты рубленные из толстых бревен землянки. Накаты над ними солидные, бревна не в обхват. Тут и стокилограммовая не возьмет при прямом попадании! Около землянок стоят наши ребята. Хомутов ходит вокруг со щупом, проверяет, не заминированы ли эти сооружения. Ребята увидели нас и машут нам, показывая, где спуск с шоссе.
Здесь же рядом из-под земли торчит козырек из толстых бревен. Он сделан в два слоя накатов. Это укрытие для автомашины и прицепа.
– Отлично! – прикидываю я. Здесь старшина с повозкой и лошадью своей разместится. Видно у немцев здесь стояла зенитка для охраны моста.
Если по карте взглянуть, то полоса нашей обороны должна пройти по открытой и невыгодной местности. Отсюда, этот рубеж ляжет метрах в трехстах. Штаб полка сюда не полезет, а пехота будет располагаться чуть впереди.
Место приличное и подходящее для взвода разведки.
Наша пехота на передний рубеж еще не подошла. Ни слева, ни справа от нас сейчас нет никого. Но это нас мало волнует.
У ненцев под Витебском дела не совсем блестяще идут. Удар за ударом и они на новый рубеж отступают. Хотя они довольно мощно и огрызаются каждый раз, но с пехотой у них повсюду одни прорехи. Так что им теперь не до засад и не до активных действий мелкими группами. А о контрнаступлении и не приходиться говорить. И потом он привыкли, что мы при подходе к ним упорно молчим. Можно нарваться и потерять остатки пехоты.
Немцы последнее время понесли большие потери. У них основная задача закрепиться на новом, заранее подготовленном, рубеже. Так что нам вылазок их особенно опасаться нечего. По военной науке мы должны бы выставить охранение. Но мы считаем, что одного часового у блиндажа поставить вполне прилично.
На полях и буграх кругом лежит белый снег. Слой небольшой, всего сантиметры. Наши обозники еще не сменили телеги на сани. Наш старшина тоже ездит пока на колесной повозке. Тимофеич по запаху снега знает, когда на санях возка подойдет и ляжет зима. Его торопить запрягать сани не нужно.
На поля и бугры хоть снега выпало мало, но земля успела застыть. Верхняя кромка промерзла штыка на два, на три. И ее не возьмешь просто так саперной лопатой.
Мы заняли два блиндажа, выставили часового и объявили отдых до подхода нашей пехоты. К вечеру из поиска вернулась группа разведчиков.

Они подошли к немцам в районе дороги и установили, что противник закрепился на заранее подготовленном рубеже. Теперь нам нужно было привести разведку переднего края противника по всей ширине полосы выдвижения нашего полка. По карте эта полоса у меня была отмечена.
Ночью, когда стемнело, мы пустили вперед две поисковые группы. Участок полка простирался от дороги вправо и уходил в стороны километра на три.
На следующую ночь на исходный рубеж подошла наша пехота. Мы развели роты по переднему краю и солдаты приступили к рытью траншей. Они потыкали землю лопатами и в дело пустили взрывчатку, кирки и ломы. Пока в полку узнали, что на переднем крае грохочут взрывы и идет расход взрывчатки, пока издали категорический приказ прекратить расход боеприпасов, пока он дошел до передовой, солдаты успели взорвать верхний слой и в дело пустили лопаты.
За два дня пехота израсходовала месячный запас боеприпасов и взрывчатки, можно сказать – приказ выполнили и взрывы прекратили.
У разведчиков были свои заботы. Нам нужно было подготовить новое пополнение. Десантник и разведчик близкие по профессии люди. Но работа полкового разведчика имеет свои тонкости и особенности. Десантника просто так, сразу за языком не пошлешь. Его надо учить, тренировать, прививать особые приемы и навыки. Ему нужно дать время освободиться от старых привычек и освоиться с новой работой и боевой обстановкой.
Заниматься с ними нужно конечно меньше, чём, скажем, с солдатом из стрелковой роты. Десантник многое умеет, быстро все схватывает и улавливает на ходу.
Полторы, две недели – срок небольшой! Разжижать мозги вновь прибывшим нельзя. Нужно, чтобы каждые сутки были насыщены до предела. После этого их можно будет по одному добавлять в боевые группы и пускать на передок.
Передний край обороны немцев проходит по той стороне крутого оврага. А передняя линия нашего полка расположена на голом снежном скате, который снижается в сторону немцев. На свежем снегу четко видны свежие выбросы земли и землистого цвета протоптанные солдатами тропинки.
Теперь по этим тропкам, сгибаясь от пуль, бегают наши славяне. Наезженная часть дороги кончается у моста. Сюда в сумерки и ночью подъезжают ротные повозки. Они подвозят своим солдатам харчи и другое разное барахло.
Шоссе, или как по карте значиться – улучшенная дорога, тянется дальше, но впереди она уходит под снег. Так, кой где, укрытые снегом, видны придорожные бугры и канавы.
Если от нашего оврага пойти вправо, по протоптанной солдатскими ногами тропе, то она приведет к позициям первой стрелковой роты. А если с этой тропы еще раз свернуть правее в сторону, то другая тропа, уходящая дальше, выйдет на снежный уклон километрах в двух правее шоссе. Держа в руках телефонный провод, который лежит поверх мерзлой земли, можно добраться на самый правый фланг обороны полка, во вторую стрелковую роту.
Здесь голый скат понижается отлого вперед и подходит к крутому оврагу, за которым сидят в обороне немцы.

Эта тропа протяженностью длинная и не так испачкана солдатскими ногами. Кой где по цвету, она сливается со снежной порошей лежащей на земле.
Днем на фоне белого снега все живое и темное прячется. Не дымят солдатские землянки, ни шатаются поверху сами солдаты. Только с наступлением сумерек и темноты передний край нашей пехоты оживает.
И как обычно в первый момент темноты начинается движение по тропе туда и обратно. Пригибаясь и горбясь от пуль, в тыл подаются легкораненые. Им навстречу ведут новичков, несут жрачку, патроны и носилки, чтобы забрать тяжелораненых.
Днем по передним позициям рот немец усиленно ведет обстрел из артиллерии. За сутки на передке всякое случается. Немец конечно ведет прицельный огонь, но попасть в солдатский окоп не так просто. И все же шальные залетают иногда.
За сутки пехота в каждой роте теряет по два, три убитых и до пяти, шести раненых. У немцев на рубеже штабеля снарядов лежат. Артиллерии сосредоточена достаточно. Только на мощном огне они еще удерживают свои рубежи. А если бы посадить им в траншею, как у нас, одну пехоту, они бы не продержались бы здесь и пару дней.
Немецкий солдат без мощной поддержки артиллерии с одной винтовкой воевать не может. В этом, пожалуй, и суть, что за загадка такая – русский солдат!
На мерзлую землю незримо падает мелкий, колючий снег. Его в темноте, когда идешь, глазами не видно. Его ощущаешь лицом, подбородком и когда он нос и губы щекотит. Видимость никуда!
Но зато теперь с убитыми возиться не надо. Ни каких тебе похорон и могилы рыть не надо. С убитым на морозе ничего не случиться до самой весны. Это живого солдата мороз и снежный ветер хватает за бока, лезет холодной рукой под рубаху, ломает хребет.
Вспоминаю, как в детстве, пацаны за шиворот наложат холодного снега и чувствуешь, как он достает тебе до самого хребта. Изогнешь спину, а он еще ниже подался.
Славяне не будут для мертвых долбить мерзлую землю. По приказу на живого взрывчатки не дают. А у солдат на передке земляных работ по горло. Стрелковые ячейки нужно ходами сообщения соединить, котлованы под землянки долбить.
Убитым что! Их мороз не берет! Убитых просто вываливают и кладут позади траншеи, чтобы не мозолили глаза живым. Завтра к утру труп будет беленький, а потом его засыплет и припорошит сверху снегом. Так что через пару дней он из вида совсем пропадет.
Живые видят все это и знают наперед, что их, вот так тоже назад отволокут и до весны в снегу лежать оставят. Но каждый надеется, что его ранит, а не убьет. На долгую жизнь в окопах рассчитывать нечего! Пристынут, примерзнут трупы к земле, потом их ни лопатой, ни киркой от земли не оторвешь.
С неба сыплется мелкий колючий и холодный снег. Пехота сидит на голом, открытом склоне, который понижается в сторону немцев. Все поле, до самого гребня, просматривается со стороны немцев. Пока в стрелковых ротах идет возня и ковыряние в земле, разведчикам в нейтральной полосе делать нечего.

Когда солдаты закончат копаться в земле, немцам надо дать некоторое время несколько успокоиться. Через недельку можно будет пустить поисковою группу в нейтральную полосу. Прошло еще несколько дней. Мы сидим на нарах в землянке, разговор идет так себе, не о чем.
– Не сходить ли нам сегодня Федя с тобой в окопы к пехоте. Посмотрим, как они устроились, оглядим переднюю линию их обороны. Все равно нужно когда-то ее нам с тобой всю пройти. Без этого нельзя начинать выходы под немецкую проволоку.
Посмотрим где наши, где немцы сидят. Важно почувствовать нейтральную полосу. Возьмем с собой Сенько и сержанта Павлова из вновь прибывших. Обойдем за ночь наши окопы. Когда-то надо нам свою работу начинать.
– Я согласен! – говорит Рязанцев.
В сумерках мы выходим и идем по тропе на передок. Красиво смотреть! По всему открытому фронту нашей обороны над поверхностью снега в нашу сторону летят трассы горящих огненных пуль. Но вот эти пчелки начинают жужжать и гудеть рядом поблизости, только и смотри как бы они не обожгли и не ужалили тебя. И вся красота их полета сразу пропадает. Начинаешь сутулиться и припадать носом к земле.
Идешь по тропе, и бывает, реагируешь на них по-разному. Впереди топает Рязанцев и если он при подлете их, на них плюет, то все идут и никто не сгибается.
Но стоит ему чуть вздрогнуть и согнуть свой хребет, остальные не могут, выпятив грудь идти им навстречу. Кто-то дрогнул и остальные к земле припали. Все мы идущие по тропе и под пулями между собой связаны электрическим полем.
В стрелковых ротах солдатские ячейки соединены короткими ходами сообщения. Сплошной ротной траншеи пока еще нет. Нам приходиться идти вдоль окопов поверху, то посматривая на солдат, которые роются в земле, то на летящие пули с немецкой стороны.
Не будешь прыгать в окопный проход, чтобы по нему пройти каких-то десяток метров и потом снова из него вылезать. А ходить, вот так, по поверхности земли вдоль линии обороны не очень приятно. Все время приходится на пули смотреть и ждать, чтобы шальная тебя не ударила.
Командир роты идет вместе с нами и показывает свой участок обороны. Но вот мы доходим до последних ячеек первой роты. Мы прощаемся с лейтенантом, он прыгает к солдатам в окоп, а мы идем по открытому полю. От него нам нужно попасть во вторую стрелковую роту.
– Учти Федор Федорыч и ты Сенько! Завтра поведете ребят по переднему краю пусть перед новичками особенно не хорохорятся. При сильном обстреле приказываю в солдатских окопах переждать!
Во второй роте примерно та же окопная обстановка. Мы прошли по всей линии обороны нашего полка. Теперь я ясно представил картину переднего края, нейтральной полосы и где немцы сидят. Подступы к немецким позициям с нашей стороны, совершенно открыты.

Немцы за оврагом занимают господствующую местность. Сидят они в надежных укрытиях, заранее построенных и оборудованных по всем правилам инженерного искусства.
Наши солдаты торчат по пояс на голом и открытом пологом снежном скате. А немцы зарылись и сидят наверху. Им видно всё и удобно вести обстрел наших позиций.
Какая глубина обороны у немцев, мы пока об этом не знаем. А переднюю немецкую траншею с нашей стороны видно хорошо. Перед передней немецкой траншеей вдоль всей линии обороны проходит глубокий овраг. Это мы видим и по карте он четко обозначен.
Смотрю по карте – овраг с крутыми скатами, глубиной метров десять. Берега, где крутые, где замытые. По дну оврага течет не то речушка, не то приличный ручей.
Немцы уверены, что мы здесь в наступление с хода не сунемся. Мы просмотрели свою линию обороны, и нам предстояло теперь заняться прощупать немецкий передний край.
Разведчики народ не разговорчивый. Все больше про себя думают и молчат. Чувствуют, что начинается серьезное и опасное дело. Дня через два придется идти под немецкую проволоку.
– Ну что? – спрашиваю я Федю, когда мы возвращаемся к себе, снимаем сапоги, разматываем потные портянки, чтоб дать немного ногам отдохнуть.
– Да так, ничего! Обычное дело!
Под "обычным" делом нужно понимать, – Немцы постреливают, бросают мины, бьют из артиллерии и снова пускают трассирующие из пулеметов по нашим позициям.
А наши, как правило, на немецкую стрельбу не отвечают. Окопник солдат из винтовки по пушкам не будет стрелять. Он ждет, когда наши из артиллерии или из пулеметов ответят. А пулеметчики считают, что нужно землю снарядами ковырять. Нечего зря жечь стволы. У ручных пулеметов прицельный по точности ресурс короткий. Вот и не отвечают наши стрелки. А вообще-то правильно делают.
Уходили мы из окопов второй роты, командир роты жалуется – комбат по телефону орет. Почему наши ответный огонь из стрелового оружия не ведут? Попробуй, высунься! Сразу полроты придется в снег за окопы вытаскивать.
Я сказал ротному, – передай своему комбату, что разведчики начали работу и не велели стрелять.
Вооружение стрелковой роты небольшое. Ротный миномет и два ручных пулемета системы Дегтярева на пол сотню солдат. А это считай километра полтора обороны по фронту.
Я тоже иногда думаю. Зачем солдату винтовка? Возьми сейчас ее у любого, открой затвор и посмотри на ствол. Там не только три канавки слева, вверх, направо не увидишь, там просвета вовсе нет. Я не видел ни разу в течение нескольких лет, чтобы сидя в окопах солдат из своей винтовки когда ни будь стрелял или целился.

И я все время шляюсь по передку. Частенько приходится выходить с ребятами в нейтральную полосу и под немецкую проволоку. И из своего пистолета я никогда не стрелял. Из Парабеллума и Вальтера я стрелял и то для пробы. Парабеллум – это вещь! Вот зараза, бьет хорошо!
Через пару дней с приближением сумерек, мы зашли в окопы к стрелкам первой роты. Понаблюдали за немцами перед выходом. Посидели, покурили, откашлялись. Мы пришли сюда с небольшой группой ребят, чтобы пойти в овражек к немцам. Ребята там уже раз побывали и доложили, что место там подходящее.
Здесь в окопах нас разыскал старшина. Он принес мешок с продуктами, а Валеев, как всегда, держал за спиной термос с горячей едой. Мы вышли в окопы раньше, чем у старшины похлебка была готова. Нам нужно было засветло понаблюдать немецкий передний край. И вот теперь пока хлебали, ели и снова курили, прошло не меньше чем два часа.
Кругом потемнело, и видимость пропала. Посмотреть вперед – впереди все серо и какой-то мутью размыто. Видно только пули искрятся и горят на подлете.
Старшина собрал свои вещички в мешок, Валеев хлопнул крышкой термоса и надел лямки за спину. И они подались назад.
– Ну что Федя? Наверно и нам пора идти? Я кивнул головой в сторону немцев и ребята нехотя поднялись. Мы вылезли из окопов и лениво, во весь рост, тронулись в перед. У них задание подобраться к краю обрыва и пролежать там до утра. С рассветом они должны вернуться назад. Нужно посмотреть и послушать, что делается ночью в немецкой траншее. По самому ли краю обрыва проходит она?
К утру, разведчики возвращаются и докладывают: – В одном месте на дне оврага стоит небольшая группа деревьев. Белые заснеженные стволы и покрытые белым инеем ветви сливаются с окружающей овражной местностью. На той стороне по самой кромке оврага проходит немецкая траншея в полный профиль.
Вот собственно всё, что мы на сегодняшний день знаем о немецкой обороне и их переднем крае. Мы покидаем стрелковые ячейки и возвращаемся к себе в овраг.
У нас с Рязанцевым небольшой отдельный блиндаж с деревянными нарами, примятой соломой и немецкими вшами. В углу небольшой столик стоит и вдоль стены широкая струганная лавка. Я кладу карту на стол, сажусь на лавку и рассматриваю участок обороны немцев перед фронтом нашего полка.
Рязанцев лежит на нарах и пускает дым в потолок. Он не любитель разглядывать карту. Разные завитушки и пересекающиеся линии действуют на нервы ему. Карта, это, мол, дело твоё, капитан!
Я не настаиваю. Я знаю его склад души, характер и привычки. Сигарета погасла и он лежит, подложив руки под голову. Это мы с ним обсуждаем задачу и обобщаем данные о немецкой обороне. Он молчит. А мы вроде как бы мысленно обсуждаем план поиска на завтра.
– Говоришь, траншея по самому краю оврага идет?
– Идет!
– Немцы ночью ходят по траншее?
– Движения ночью нет!

– Ты хочешь сказать, что немцев в траншее не видно? Может, вообще их там нет?
– Есть! Вроде стреляют!
– Стрелять могут и из глубины обороны! И не везде, не по всей траншее сидят? У них солдат не хватает. Как ты думаешь?
– Тоже, так думаю!
– Траншею им рыли заранее саперные части. Рубеж заняли, а солдат на всю траншею могло и не хватить. У тебя возражения есть?
– Нету!
– Ты спишь, что ль? Или не желаешь говорить?
– Нет, я так!
– Ты будешь молчать! А я буду язык трепать?
– Я думаю капитан! А ты давай говори!
– Я тоже думаю, и хотел бы твое мнение знать. А то, что я не скажу? ты в ответ
– Ну! Да! Конечно! И вроде так!
– Если у немцев солдат не хватает, они могут заминировать часть траншеи. Ты с ребятами сунешься туда и попадешь на мины.
– Это так! – позевывая, отвечает Рязанцев.
Я встаю из-за стола. Моему терпению больше нет пределу. Я выхожу в проход блиндажа и велю часовому позвать мне старшину Тимофеича.
– Скажи ему, что по срочному делу!
Федя по-прежнему лежит на нарах и смотрит в потолок. Я понимаю, у него сейчас на душе тревога и сомнения. Он знает, что ему завтра предстоит идти в немецкую траншею. А это дело не простое! Я знаю по себе. Иногда нападает такая тоска, что от нее некуда деться и не хочется разговаривать.
По его ответам я чувствую, что у него именно такая пора.
В блиндаже появляется старшина.
– У тебя новые маскхалаты в запасе есть? – спрашиваю я.
– Есть! Товарищ гвардии капитан! С десяток абсолютно новых наберется.
– Ты вот что Тимофеич! Нужно в сан роте достать штук шесть солдатских одеял. Обшить их с двух сторон чистыми простынями. Лестницу нужно заранее подготовить. Сделаешь из жердей и кругом обмотаешь бинтами. Лестница должна быть легкой и прочной. Высота – метров пять, дня через два она должна быть готова. Изготовишь ее, под навесом у себя, ее держи. Как только нужна будет, от меня получишь команду. Одеяла завтра к вечеру доставишь сюда. Мобилизуй на эту работу новеньких. А сержанта Павлова и его напарника не трогай, они завтра вместе с нами пойдут. Все ясно?
– Можно идти? – спрашивает старшина.
Я молча киваю головой в сторону Феди и пальцами показываю, что мол, нужно полфляжки водки сюда принести.
На поясе у старшины болтается обшитая сукном немецкая фляжка. Я трогаю ее и провожу пальцем по середине ее.
– Ты бы нас с Федей покормил, что ли! Я проголодался что-то ныне!
Тимофеич понимающе кивает головой, поворачивается и выходит наружу.

Так он Феде, если тот и будет просить, не даст. У нас сейчас период подготовки к ночному поиску и водку старшина никому не выдаёт. Даже те положенные ежедневно сто грамм, он сливает и держит у себя неприкосновенным запасом. Только я один могу разрешить старшине.
Через некоторое время старшина возвращается, ставит на стол налитые котелки, кладет нарезанный хлеб, сало на закуску и стучит по краю стола своей неизменной железной кружкой.
– Извините, товарищ капитан, ничего другого готового нету!
– Я вижу, старшина у тебя спиртное на поясе во фляжке болтается.
– Да так, самая малость. Валеев спрятал, а я в телеге нашел.
Я подмаргиваю старшине и киваю головой в сторону Феди.
– Федя слазь! Хватит валяться! Тимофеич опохмелиться маленько нашел.
– Слазь! Тебе душу поправить надо для пользы дела.
Федя охает, вздыхает, поднимает голову, переваливается через борт, (нары у немцев с небольшим бортом, чтобы на пол не падала солома) спускает ноги на пол и нехотя подходит к столу. На лице у него страдание и невыносимая мука. Старшина наливает полкружки, я двигаю ее к краю стола, он смотрит на нее, как змей на лягушку.
– Давай не задерживай!
Он как бы нехотя протягивает к кружке руку и запрокинув голову одним глотком опрокидывает ее. Вздохнув облегченно и привалившись к стене, он запивает из котелка, который на столе с водой стоит. Потом берет кусок хлеба и сала, держит его в руке и посматривает на меня. Я киваю головой Тимофеичу и тот наливает Феди еще порцию. После этого мы с Тимофеичем выпиваем и оставляем Рязанцеву на третий глоток. У Феди глаза глядят веселей, но он делает вид, что стесняется.
– Давай, давай, дохлебывай! Нам со старшиной и по разу хватит!
– Ну что? На душе стало веселей? Может теперь, по делу поговорим? А то у тебя на сухую разговор никак не клеился!
– Щас покурю! И обо всем поговорим!
Феди легче жить. Глядишь, перебросится словцом со старшиной. Тот тайком нальет ему полкружки. Выплеснет Федя водку в себя, и завалится на нары спать до утра. А я не мог, вот так, легко очистить свою душу от обид и всякой скверны. Всякие тяжелые мысли даже после выпивки не покидали меня.
– Доложи мне подробно, что там в овраге? Уточни глубину, ширину! Где обрывистые и где пологие скаты? Думаю, что лезть нужно ребятам там, где самый крутой обрыв, где немцы наверняка нас не ждут, для этого я и заказал старшине изготовить лестницу. Федор Федорыч прокашлял и подробно изложил свои взгляды на немецкий овраг. Язык при этом у него нисколько не заплетался, а даже наоборот, он все излагал обстоятельно и подробно.

– Овраг не широкий. Местами шириной метров до двадцати. Скат со стороны немцев высокий и обрывистый. Есть пологие места, где можно подняться наверх легко. Глубина оврага метров пять, не больше. Подняться к немецкой траншее можно, но не везде. В траншее, где подходят обрывы, немцев не видно. На счет лестницы, я согласен. Поставим ее под самый отвесный край оврага, где человек вообще не сможет подняться к краю траншеи.
– Уточни про траншею! – перебиваю, я его.
– Траншея идет по самому краю. Движения немцев ночью в траншее не видать. Может, сидят не высовываясь? А по делу должны быть у них впереди наблюдатели. В одном месте на дне оврага ближе к нашей стороне стоит группа деревьев, за которыми можно укрыться. Наблюдение вести из-за них хорошо. Впереди заснеженные стволы, мелкие кусты и белые ветки. На дне оврага снега больше, чем при подходе в поле и на открытых буграх. Спуститься в овраг, сесть за деревья – место хорошее. Сидеть благодать! Пули летят высоко.
– Скажи-ка Федя! А на день там можно остаться и продолжать вести наблюдение?
– Думаю, что можно!
– Я старшине одеяла обшить простынями заказал.
– Я слыхал. Это дело полезное! Может мы, днем туда под деревья махнем.
– Днем идти туда бесполезно. А с ночи остаться, пожалуй, вполне!
– Я в этом смысле и говорю, что днем.
– А я хотел Сенько с его группой послать под деревья.
– Нет уж, ты сейчас реши кого посылать под деревья. Чтобы потом Сенько не обиделся, что я отбил у него хорошее место.
В это время в проход блиндажа просовывается ст. сержант Сенько. Сенько высокий, широкоплечий, здоровый парень. Движения у него неторопливы. Во всем теле чувствуется ловкость и сила. У него мгновенная реакция, когда дело касается разведки или доходит до броска. Он хочет что-то сказать. Я делаю ему знак рукой, мол, подожди, и приглашаю присесть к столу.
– У тебя чего ни будь срочное?
– Нет.
Старшина молча поднимается, подвигает железную кружку, колотит пальцами по фляжке, но она уже пустая. Старшина поворачивается и выходит наружу. Вскоре он возвращается и наливает Сенько полкружки спиртного.
– Давай Серафим! Выпей и закуси, ты наверно голоден. Мы уже приложились.
Сенько морщится, заедает салом с хлебом и затягивается сигаретой.
– Ну, что хорошего там, на участке второй роты? – спрашиваю я, его.
– На моем участке голо, хоть шаром покати! Негде с ребятами зацепиться, чтобы вести наблюдение. Можно, но только из стрелковых окопов.
– Это верно! У тебя там голое поле. Ни кустов, ни прошлогоднего бодуля.
– Вчера ходили к оврагу. Полежали немного. Вчера почему-то тихо было. Обычно они сидят в траншее и всю ночь болтают – А-ля, ля! А тут тишина! Ракеты пускают, стреляют из пулемета, а разговора не слыхать. Какие-то немцы не нормальные пошли?
– Ты вот что Серафим! К оврагу больше не ходи. Посади ребят своей группы в окопы второй стрелковой роты и пусть наблюдают за немцами из окоп.

– Возьми стереотрубу, но ни днем, ни ночью с немцев глаз не своди! Так и передай своим ребятам. Вообще-то лучше сесть где-нибудь в отрыве от нашей пехоты. Возьми взрывчатки у старшины. Тимофеич, для тебя специально достанет.
Взорви верхний мерзлый грунт и отрой окоп человек на пять в стороне. Старшина даст тебе пару простыней, чтобы во время рытья прикрывать на день свежую землю. Потом он тебе ротный миномет достанет. Погоняй немцев по передней траншее, посмотри, где они зашевелятся.
– Там правее роты есть небольшой лесок. Но видно это участок соседнего полка. Мы хотели туда пройти посмотреть, что там делается.
– Мы потом Серафим туда сходим. Нам сейчас нужно на своем участке наблюдение установить.
– А ты Федор Федорыч готовь свою группу. Даю тебе два дня на подготовку, а потом ночью вместе в овраг под деревья пойдем. Одеяла у Тимофеича взять не забудь! На сегодня вроде все!
– Тебе Тимофеич строгий приказ. Никому водки, ни под каким предлогом! Раненые, если будут. Им разрешаю с собою за все дни отдать. Перед делом надо голову ясную иметь!
Через два дня наступает срок выхода. Ребята молча собираются. Рязанцев строит их полукругом на площадке около блиндажа.
– Больные есть? – спрашиваю, я их.
– Как настроение?
Все молчат. Я ставлю задачу на поиск и в конце добавляю:
– Вас четверо и нас с Рязанцевым двое. Всего шесть. Цифра четная. У кого на этот счет имеется сомнение или есть суеверие. По количеству, думаю, вопрос отпадает.
Идем в овраг и ложимся под деревьями. Лежим, ночь и остаемся лежать на следующий день. К немцам в траншею пока не полезем. Остаться в овраге на день дело опасное и рискованное. Гарантий никаких!
Все обратно вернемся живыми – не знаю. Из оврага днем не выскочишь, если обнаружим себя. В общем, приходится на риск идти.
Кто из нас под пулями умрет, одному ему известно! – и я поднимаю указательный палец вверх, а потом медленно направляю его в нос к себе и начинаю ковырять в носу.
Ребята стоят, смотрят на меня и грустно улыбаются.
– Может, кто кашляет? Носом сопит? У кого куриная слепота на нервной почве? Может, кто от простуды чихать громко стал? Может кто черняшки с салом обожрался и пускает хлебный дух так, что за версту слышно?
– Старшина!
– Я вас слушаю, товарищ гвардии капитан!
– Ты их перед выходом как следует, накормил?
Старшина, ничего не понимая, разводит руки.
– Ты их досыта? Как на убой?
– Так точно! Как на убой! – у солдат на лице опять тоскливая улыбка и даже хихиканье.
– Ты чего радуешься Бычков?
– Это кто радуется? Я? Я ничего! А что?

– Как, что? Ты мне весь молебен по покойникам испортил!
– Это я, что ль?
– Ты Бычков молодец! Дух в тебе боевой заложен.
– А я думал, что испортил?
– Ты Бычков пойдешь направляющим!
– Есть идти передним!
– Ну что ж! Раз отказов нет на выход, объявляю перекур! Через десять минут выходим!
У входа в блиндаж стоят новенькие и те, кто от поиска пока свободны. Новенькие смотрят на готовую к выходу боевую группу и на процедуру выхода.
Через десять минут мы выходим на тропу и идем по снежному полю. Навстречу нам, на уровне груди, летят немецкие трассирующие пули. Бычков замедляет ход, остальные замирают на месте. Идем по переднему. Он встал и все стоят. Пули проходят довольно близко. Каждый стоит и ждет тупого удара. Каждый, этот момент переживает по-своему. Переживают все. Пули могут ударить любого. И Бычкова, что стоит впереди, и тех, кто остановился сзади, на изгибе тропы.
Один стоит и зло смотрит на пролетающие пули. Другой, сжав зубы, отворачивается, чтобы не видеть их. Двое, трое стоят спокойно и тупо смотрят, как они сверкают. Я задерживаю дыхание и смотрю, как они горят голубоватым зловещим огнем.
Если трассирующая пролетает в полуметре от тебя, то видно как она горит и сверкает. Вот она приблизилась к самому лицу, сверкнула беззвучно и исчезла за ухом.
В это время один из ребят опускает автомат на снег и приседает. Это Возков, пулей в предплечье ранен.
Пули ударяются рядом в снег и визжат, разлетаясь рикошетом в стороны. На них уже никто не обращает внимания. Возкова перевязывают, он поднимается на ноги, ему вешают автомат на шею и он пробует сделать пару шагов.
– Можешь идти? – спрашивает Рязанцев.
– Дойду, помаленьку!
Следующая очередь идет чуть левей. Слышен посвист пуль. Мы трогаемся с места и идем по тропе.
Снежный скат заметно понижается. Мы обходим стороной солдатские окопы, находим протоптанные следы наших ребят, которые здесь шли несколько дней назад и вскоре подходим к оврагу. На краю оврага все ложатся. И по одному садясь на снежный спуск, на заднице съезжают вниз, перебирая ногами. На дне оврага мы поднимаемся на ноги и гусиным шагом подходим к группе заснеженных деревьев. Здесь мы медленно опускаемся за стволы. Теперь здесь можно передохнуть и немного расслабиться.

Из-за деревьев даже ночью хорошо просматривается немецкая траншея. Она идет по самому краю обрыва. Траншея, по-видимому, глубокая, потому что хождения солдат в ней не видно. Но где-то должны сидеть наблюдатели? Возможно, они затаились и смотрят на нас? Ждут, пока мы уляжемся и решают – брать нас живьем или расстрелять в упор из пулемета. Всякие мысли приходят в первый момент.
Проходит немного времени, вокруг все спокойно и тихо. Пули летят высоко над головой. Пулеметный обстрел немцы ведут из глубины обороны.
Далеко вправо уходят очертания оврага. И там дальше, по краю, все та же траншея. Чуть правее нас, в глубине обороны возвышаются две круглые насыпи. Это блиндажи для немецких солдат. Это не только укрытия, это огневые опорные пункты. К ним с переднего края тянется ход сообщения. Федор Федорыч наверно видел их, но мне о них ни чего не сказал. Возможно забыл? А может, думал о главном – как из траншеи брать языка?
Мы укрылись одеялами, лежим на снегу и посматриваем из-за деревьев. Так проходит часа два или три.
Я решаю остаться здесь на день и думаю, что нужно дать отдых ребятам.
Двоих назначаю дежурить, а остальным разрешаю укрыться одеялами и спать. Смена через каждые три часа. Мы с Рязанцевым не вылезаем из-под одеял до самого рассвета. Ночью я раза два просыпался, жестами спрашивал дежурных, что, мол, и как? Они пожимали плечами и делали знак рукой, что все идет по старому. Немцев не видно.
Утром я высовываю голову из-под одеяла, осматриваюсь кругом, толкаю ногой в бок Рязанцева. Утро, как утро! Вроде мы не под самым носом у немцев лежим. Теперь ребятам полагается спать, а мы с Рнзанцеыв будем дежурить.
Я поднимаюсь, улаживаюсь по удобней, остальные ложатся и укрываются одеялами и тут же засыпают. Весь день мы с Рязанцевым сидим и ведем наблюдение. Иногда мы с головой накрываемся одеялом, разговариваем шепотом обмениваемся мнениями и делаем перекур.
Зимний день короткий. К ночи мы поднимаемся и уходим из оврага. Обратный путь под пулями проходим, так же не спеша, заходим в блиндаж, садимся на нары и, не снимая, халатов сразу закуриваем.
– Ну что? Как думаешь, Федор Федорыч? Может, завтра ночью пошлем ребят подняться в траншею? Пусть тогда до рассвета лестницу туда занесут.
– Чего ночи ждать? В сумерках нужно идти! К ночи они расставят посты и усилят наблюдение. В светлое время они нас здесь не ждут. Ночью они все будут на ногах. Сам знаешь, немцы темноты бояться и перед рассветом особенно зорко следят.
– Логика верная! Ты прав! Ничего не скажешь!
– Может, я сам в траншею пойду?
– Нет, Федор Федорыч, сейчас нам с тобой это дело не подпирает. Приказа из дивизии на захват пленного нет. Готовь группу захвата из троих и группу прикрытия. Кто старшим пойдет?

– Аникина! Он давно не ходил! Бычкова и Соленого с ним в паре.
– Ладно, согласен! Группу прикрытия сам подберешь!
Теперь план действия давай обговорим. На поиск обе группы пойдут перед рассветом. Остаток ночи и день будут лежать. Перед наступлением темноты пойдут на траншею. Напролом пусть не лезут.
– Может им с ночи лестницу приставить, осторожно подняться и в траншею взглянуть.
– Согласен! Пусть по-тихому поднимутся и заглянут в траншею. Им нужно знать, куда потом придется идти.
При выходе на захват языка, поднимутся наверх – осмотреться должны! На ту сторону пусть сразу переберутся. Группу немцев из трех, четырех, если те по траншее пойдут, нужно будет пропустить мимо. Брать только одного или двух. Главное не обнаружить себя, вот в чем задача!
Здесь Федя отличное место. Лучше с захватом языка подождать, если ситуация сомнительная будет. На этом месте можно будет в другой раз взять. Главное немцев не спугнуть. В общем, нужно действовать, как можно тише. Только в этом наше преимущество и реальный успех. Выдержит Аникин? В драку не полезет?
– Нет! Ребята спокойные! Особенно Бычков.
На исходе ночи обе группы разведчиков вышли в овраг. Мы с Рязанцевым вместе с ними дошли до переднего края стрелковой роты, спрыгнули в крайний окоп и стали смотреть им вслед. Вот они растворились в снежной пелене.
Часа через два на снегу с той стороны я заметил движение. Слышу при подходе к окопу наши ребята пыхтят. Первая мысль – ранило наверно двоих или троих.
Выглянул в проход, поднялся над окопом по пояс, вижу, подходят. Еще пару десятков шагов и они перед окопом стоят. Вижу между ними незнакомая рожа в маскхалате шевелится. Конечно немец! Где-то схватили черти! Аникин перед окопом стоит, и кровь на снег сплевывает. Сказать ничего не может.
– Что с ним? Бычков!
– Немец его каской по зубам долбанул!
Я говорю Бычкову: – Проводи Аникина в сан роту! Идите вперед и не ждите нас.
– Куда девать одеяла? – спрашивает кто-то из разведчиков.
– Несите их домой! Сдадите старшине!
Мы забираем немца, выходим на тропу и идем восвояси. Немец одет в новенький маскхалат. Его не отличишь от нашего разведчика. Впереди идут двое из группы прикрытия, за ними топает немец под личной охраной Соленого. Остальные сзади следуют друг за другом гуськом.
Мы медленно поднимаемся по снежному склону, ветер нам гонит в спину снежную пыль. Из-под ног вырываются белые шлейфы мелкого снега. Трассирующие, как обычно летят из-за спины. Немец поминутно вздрагивает, горбится, а мы идем свободно, показывая, что пули нам – "муде ферштейн"!

По тропе навстречу продвигаются стрелки солдаты. Они сходят с тропы и стоят, ждут, пока мы пройдем. Так уж на передке заведено, когда на узкой тропе встретился стрелок пехоты и полковой разведчик. Они не реагируют, что между нами шагает немец.
Вскоре мы подходим к мосту, сворачиваем в овраг, и по узкой тропинке спускаемся к блиндажам. Здесь можно расслабиться и стряхнуть с себя напряжение.
Из блиндажей, навстречу нам высыпают ребята. Тут же стоит и наш старшина.
– Аникина в сан роту отправили? – спрашиваю я.
– Валеев на телеге повез. Бычков сопровождающим с ним поехал.
– А мне, куда с немцем идти? – спрашивает Соленый.
– Веди его к нам в блиндаж!
– А ты Федя распорядись! Пошли ребят, чтоб одеяла забрали!
– Тимофеич! Готовься! – говорит кто-то из стоящих солдат.
– К чему?
– Как к чему? Водку за неделю придется выкладывать!
– За спиртным дело не станет! Закуску надо достать! Вы же не будете после выпивки солдатской похлебкой заедывать! Вам чего-то жевать подавай!
После проведения успешной операции у разведчиков наступала неделя отдыха, так уж было заведено! Если кто даже по делу звонил в разведку, ему отвечали, чтобы он больше сюда не звонил. Даже начальство полка об этом знало.
Если у начальника штаба полка было срочное дело ко мне, то он посылал ко мне с запиской нарочного. Посыльной подходил к спуску в овраг, его останавливал часовой, отбирал записку, спускаться в овраг не разрешал, вызывал дежурного и для порядка предупреждал:
– С тропы не сходить!
Посыльной знал, что у разведчиков слово с делом никогда не расходятся. Так и стоял тот в отдалении, ожидая пока вернется дежурный и даст ответ.
– Давай браток топай назад! Гвардии капитан позвонит начальнику штаба по телефону.
Впереди у нас целая неделя спокойной жизни. Перед глазами ни пуль, ни снарядов, ни крови. Все это начнется потом. А сейчас мы сидим в блиндажах и где-то там наверху умирают другие.
– Ну что Соленый? – спрашиваю я, спускаясь в блиндаж.
– Расскажи, как было дело?
– Я точно сказать не могу. Меня Бычков оставил лежать наверху, на краю траншеи. Они вдвоем прыгнули в траншею на немца. Смотрю они его уже по траншее ко мне волокут.
– Сними с немца маскхалат и проверь карманы. Будешь находиться при немце и глаз с него не спускать! Нужно будет вести его в сортир – стой при нем, смотри и придется нюхать. Ты от него ни шаг не должен отходить! При немце будешь находиться до тех пор, пока в дивизии не сдашь его под расписку.

– По дороге, когда в дивизию поведешь, тыловики будут на немца бросаться с кулаками. Они на немцев злые. Готовы любого пленного на дороге растерзать. Их только подпусти к невооруженному немцу. Тут они прыть свою друг перед другом показывают. По дороге, если кто полезет, дашь предупредительную очередь из автомата. Ты часовой и имеешь право применить оружие. Будь с ними потверже.
При опросе немца, я узнал, что у них в роте мало солдат. За последнее время рота понесла большие потери. На новом рубеже в роте не более пятидесяти солдат. В глубине обороны находится опорный ротный пункт и блиндажи для отдыха. На вооружении роты имеются шесть пулеметов МГ-34 и несколько минометов. О количестве минометов пленный сказать ничего не может. Роту поддерживают две батареи орудий калибра 85. Настроение у солдат плохое. Бывают случаи дезертирства в тыл под всякими предлогами. Пленного послали в траншею, чтобы заменить часового, который заболел. Сверху на него что-то навалилось, он хотел разогнуться, ударился каской и его начали душить. Он понял, что это русские, бросил винтовку и поднял руки кверху.
– Товарищ капитан! Как его фамилия?
– А тебе она зачем?
– Мы с Бычковым наколку делаем. Фамилию немца на руке выкалываем, которого берем.
– Не тебе надо наколку делать, а немцу на руке ваши фамилии колоть. Кто взял? Чтобы сразу было видно.
Я спросил у пленного, тот ответил:
– Ерих Надель.
Соленый достал из нагрудного кармана чернильный карандаш, послюнявил его, и закатав рукав, написал фамилию немца.
– Бычков придет. Колоть будем потом!
В дверь блиндажа просунулся старшина.
– Товарищ гвардии капитан, Соленого надо покормить. А то он у нас вторые сутки не емши.
– Неси сюда! И немцу дай поесть! Водки не давай! Ни тому, ни другому ни грамма! Когда Соленый вернется, придет из дивизии назад, вот тогда ему и нальешь. Бычков вернется – сразу его ко мне. Ребят можешь кормить, спиртное разрешаю выдать. Пошли кого двоих за Сенько во вторую роту. Пускай снимает свою группу и топает на отдых домой.
Сенченкову скажи, он у нас представления к награде пишет, пусть подготовит на троих, я подпишу.
– Товарищ гвардии капитан! Вы на меня будете писать, как на Соленого?
– Ну, а как еще?
– Я ведь не Соленый. Это кличка у меня. А по документам я числюсь, как Клякин. Меня, Соленым, ребята зовут. А на самом деле я Клякин. Клякин, вроде не звучит.
– Это кто ж тебя так окрестил? Лучший друг твой Бычков, наверно? Ладно, учтем!

– Ты, вот что Соленый! Веди-ка немца в штаб дивизии. Для охраны двух новичков с собой возьми. Пусть они почувствуют, как водят в тыл пленных немцев.
Впереди была неделя с гарантией на жизнь. Вот так в один день война для нас кончается – живи себе и в ус не дуй! На душе спокойно! Красота! Над кем каждый день смерть не висит, то не поймет, что значит для человека с гарантией на жизнь – целая неделя.
Неделя, срок небольшой, когда валяешься на нарах, ешь, пьешь и ничего не делаешь. Такая неделя пролетает незаметно и быстро.
Через неделю меня вызвали в штаб.
– Есть данные, что немцы произвели перегруппировку! – сказал мне начальник штаба полка.
– Нужно готовить объект! На днях придет приказ из дивизии, будем брать контрольного пленного.
К вечеру Рязанцев с ребятами выходит в окопы к стрелкам. Нужно искать новое место и готовить объект. На одно и то же место разведчики, как правило, не выходят. Где свои следы оставили, туда второй раз соваться нельзя.
Ребята сидят безвылазно в стрелковых окопах. Старшина носит в окопы кормежку. На третий день и я выхожу на передовую. По ночам ребята лазают и ползают к краю оврага, изучают и щупают, где можно взять языка. Нужно выбрать новое место, изучить и пронаблюдать его со всех сторон.
Мы сидим с Рязанцевым в ротной землянке, накануне меня вызывали к командиру полка, и я рассказываю ему, что за разговор там состоялся.
– О чем говорили?
– О чем, о чем? Как всегда об одном! Спрашивает:
– Сколько у тебя людей во взводе пешей разведки? Я ему говорю, что у нас всего двенадцать.
– Как, это двенадцать? Ты недавно получил пополнения десять человек!
– Я считаю, сколько у меня в боевых группах числится. А эти пока еще не разведчики. Их натаскивать нужно.
После некоторой паузы опять задает вопрос:
– Потери у тебя есть?
– Пока нет!
– Значит, они у тебя бездействуют! И кстати, чем ты сам занимаешься?
Я посмотрел, на него в упор и мне захотелось обложить его матом, бросить все к чертовой матери и уйти из этого полка. Разговор не по делу, а так на подковырках и на подначках.
Вон, в другом соседнем полку, сидит капитан по разведке при штабе, пишет донесения и по передку с солдатами не лазает. И считается, что он работой занят.
А тут мотаешься по передовой и он мне гадости изрыгает. Смотрю на него и говорю:
– На счет меня, ты у людей спроси! – поворачиваюсь и из блиндажа выхожу. У него глаза на лоб полезли.
Выхожу наверх. Под ногами ветер и мелкий снег шуршит. Смотрю и думаю, лечь вот сейчас на снег, где попало. Пусть сам идет на передок и смотрит, где немцев брать надо.

Дело идет к тому, что я должен ребят сунуть куда попало. Доказывать бесполезно. Ему, главное, чтобы в разведке были потери. И разговор он начал, сколько людей и сколько потерь. Потеряй мы сейчас всех, с него спроса не будет, и он нас оставит в покое. После взятия здесь языка, немцы, как псы сидят настороже. А на счет передислокации, я им просто не верю. Все немецкие пулеметы стоят на старых местах. Бросают ракеты и бьют по прежнему распорядку. Если немцев сейчас здесь сменить, то вся система огня сразу изменится. Не могут другие немцы все точь-в-точь до мелочей повторить. А наш полковой, мне долбит свое. А я ему свое, что лезть здесь бесполезно.
– Я, Федор Федорыч на фронте с сорок первого. Каких я только не видел майоров. Глотку драли, угрожали. По молодости я верил им сначала. А на проверку, что вышло? Людей положили. Орденов нахватали. Сделали карьеру. И этот майор с курсов пришел, не успел вшей нахватать, и туда же! Потерь нет, значит бездельники. Они не знают, сколько солдату нужно иметь душевных сил, чтобы вынести на себе войну.
– Это, он что? Второй раз тебя вызывал?
– Да! Во второй раз они с Васильевым решили навалиться на меня.
– Это тот, что из дивизии?
– Да! Из дивизии!
– А в дивизии, что говорят?
– В дивизии готовят приказ на захват контрольного пленного. Они решили, раз у нас так легко вышло прошлый раз, то и в этот раз взять контрольного пленного нам ничего не стоит. Ничего мы с тобой здесь, в овраге, не сделаем. Немцы, после взятия нами того языка, сидят настороже и поджидают нас, когда мы еще раз в овраг к ним сунемся.
Видишь ли, они доложили в штаб армии, что на всем участке обороны дивизии ведутся активные поиски разведчиков. Я им сказал, что мы каждую ночь выходим за передовую и ведем прощупывание переднего края противника. Но им этого мало. Им нужны результаты – свою работу хотят показать.
Приказ, взять языка, легче всего написать. Ты вот два раза в овраг сунулся и потерял троих лучших ребят. А что добился? Остальные, живые, прекрасно все видят. На хапок тут ничего не сделаешь и языка не возьмешь.
Завтра пойдешь, опять будут только потери. Немцы видят, что мы лезим в овраг. И они не дураки, как на это рассчитывают наши полковые, сидят и ждут, когда на голое поле зайдем.
– Может нам опять к группе деревьев податься?
– Ты сам Федя видел. Немцы кругом все опутали там колючей проволокой.
Ребята тогда на радостях лестницу забыли забрать.
– Товарищ гвардии капитан! Вас к телефону из штаба полка вызывают!
Я поворачиваю голову в сторону телефониста. Он стоит в проходе и переступает с ноги на ногу, как будто у него прихватило живот. Вот у кого жизнь без забот и огорчений. Так с трубкой на шее и доживет до конца войны. Придет домой – скажет, я воевал!
Я поднимаюсь на ноги и выхожу в соседнюю землянку. На проводе наш начальник штаба. Он сообщает мне, что я должен явиться к "Первому".

– Ну что? – спрашивает Рязанцев, когда я возвращать и сажусь на нары.
– Что, что? Командир полка требует к себе. Опять разговор на тему загробной жизни. В общем, вот что Федя! Чувствую я, что нас с тобой хотят нагнуть. Мы должны загробить всех наших ребят, тогда они оставят нас с тобой в покое.
– Вернусь – расскажу! Он даже намекнул мне. Чего я собственно сопротивляюсь? Чего ты, мол, встал в позу? Не тебя же посылают языка у немцев брать.
Я знал, что в разведотделе дивизии готовился приказ. Теперь этот приказ лежал на столе у командира полка. Когда я вошел к нему в блиндаж, он молча сунул мне этот приказ и добавил:
– Прочитай и распишись!
В приказе было сказано, что взвод пешей разведки 52-го гв.с.п. в ночь на 11 ноября 43 года проводит в районе д. Бабуры ночной поиск с целью захвата контрольного пленного.
Район Бабуры, по моему понятию место растяжимое. Люди должны пойти – или взять, или вообще не вернуться. А то, что немец усилил огонь и что мы наверняка понесем здесь потери, то это мягко выражаясь, никого не волнует. Раз надо, – надо брать!
– Нам нужны результаты! – сказал командир полка.
– А то, что вы там без пользы ползаете, то это ваше ползанье никому не нужно. Нужны решительные действия. А при таких действиях неизбежны потери! Перед солдатом нужно поставить задачу, не считаясь ни с чем, он должен ворваться в траншею и захватить языка. От того, как он будет действовать, зависит его собственная жизнь. У нас здесь не сан рота, для больных, где пилюли то болезни дают. Здесь война! Боевой приказ! Языка брать надо – значит надо! Не ползать надо! А брать!
– Как вы себе представляете это сделать?
– Очень просто! Нечего тут и мудрить! На то вы и разведчики! Ворвались в траншею и завязывай ближний бой!
– Мы два раза пытались ворваться. И оба раза попадали под перекрестный огонь. Первый раз потеряли двух ранеными. А второй, троих убитыми.
– Вы же можете подавить артиллерией огневые средства противника на период действий разведки? Заткните глотку немецким пулеметам! Накройте их артпозиции всего на пять минут.
– Ну что? – спрашивает Федя, когда я вернулся в окопы стрелковой роты.
– Сколько у тебя в разведке людей осталось? – спрашивает.
– Двенадцать!
– Трое убитых и двое раненых и опять двенадцать?
– Я пополнил боевые группы за счет новичков.
– А сколько у тебя в резерве этих новичков осталось?
– Трое!
– Всего пятнадцать! Вот приказ! В ночь на одиннадцатое пошлешь всех!
Приказ прочитал? Распишись! Все! Можешь идти!
– Вот так Федя! В следующий раз к полковому пойдешь ты!
– Почему это я? Я не пойду! Пусть переводят в пехоту! Вон ребята на нарах сидят, в карты играют и спят пока рожа опухнет.

А в наступление опять же мы вместе с ними идем. И чаще пускают нас вперед, а они, как правило, сзади плетутся.
– На кой мне такая жизнь в разведке нужна?
– Ладно, Федя! Когда будешь уходить, организуем тебе отвальную!
Что будем делать сейчас, ты лучше мне скажи! Пока мы с тобой всех ребят не потеряем, они от нас не отстанут.
Крутом, голое поле. Овраг простреливается со всех сторон кинжальным огнем. Немцы знают, что мы вот-вот к ним сунемся. В нашей работе, сам знаешь, бывают периоды, хоть в петлю лезь, ничего не докажешь и языка не возьмешь.
Я командиру полка говорю, вы местность по карте себе представляете. В дивизии тоже не имеют представления, что делается там впереди. Пальцем по карте легко водить.
Пойдемте, я вас вместе со штабными из дивизии по овражку ночью разок проведу. Что вы мне приказом грозите? На бумаге можно черте чего написать.
Боевой приказ обосновать надо. Реальные возможности и подготовку операции провести. А это, иди, врывайся в траншею и бери, поставь солдата сейчас на их место, он подумает и такого не скажет. Пусть подготовят операцию, а я посмотрю!
– Ну, а он, что?
– Он? Ты мне брось здесь демагогию разводить! Кто к оврагу пойдет, это я буду решать!
– Опять на тебя орал?
– Нет Федя! В этот раз не орал!
Ты где, говорит, находишься? В армии или где? Ты забыл видно воинский порядок. Здесь я пока приказываю, а ты выполняешь! Это ясно тебе? Мы должны немцев бить! И не давать им ни отдыха, ни покоя!
А я ему опять свое:
– Пока нас здесь немцы бьют. А мы утираемся кровью. Дайте мне десяток снайперских винтовок, пару ротных минометов и боеприпасы к ним. Через месяц на переднем крае немцев мы всех перебьем.
А он мне свое.
– От тебя требуют контрольного пленного, а не немецкие трупы.
В начале следующей ночи мы с Рязанцевым выводим ребят в расположение второй строковой роты. Здесь на участке первой мы все облазили и подходящего ничего не нашли.
Вторая рота занимает самый правый фланг обороны полка. Жалко смотреть на ребят. Возможно в одну из ближайших ночей многие из них будут лежать мертвыми.
Вот жизнь солдатская! Сегодня он рядом и живой! Только на лице серая маска задумчивости. А завтра он труп.
Мы сидим в пустой снежной траншее второй роты. Землянок здесь нет. Вторые сутки мы ползаем к оврагу. Немцы нас пока не видят, но чувствуют, что мы ползаем где-то рядом, потому что, как только мы подаемся к оврагу, они тут же усиливают пулеметный огонь. Что делать, ума не приложу!
Во второй роте имеется одна землянка, но она находится на другом краю. Посылаю туда одного из ребят и велю позвонить старшине, чтобы кормежку нес сюда на передовую. Разведчик возвращается назад и докладывает, что старшины на месте нет, он еще продукты не получил. Поднимаюсь и иду по ходам сообщения в ротную землянку. Здесь в землянку не просунешься и не продохнешь.

В нее набились солдаты стрелки, внутри сидят двое телефонистов и лейтенант командир роты. Расталкиваю в проходе сидящих солдат, дотягиваюсь до телефона и вызываю старшину. Телефонист соединяет меня с разведкой. Я слышу в трубку басовитый голос нашего старшины.
– Забирай кормежку и тащи ее сюда! Мы в окопах второй стрелковой роты. Найдешь нас на самом правом фланге, мы в стрелковых ячейках сидим.
– Водку не забудь! Ребята промерзли, принесешь по двести грамм на брата! На сборы даю тебе полчаса. Час на ходьбу! Ровно через полтора часа ты с Валеевым должен быть в роте! Нам надо успеть вернуться в нейтральную полосу.
Проходит два часа – ни старшины, ни Валеева. Иду еще раз по извилистым проходам на ротное КП. Звоню еще раз и спрашиваю дежурного.
– Где старшина?
– Старшина и Валеев после вашего звонка сразу ушли!
Что могло случиться с ними по дороге? Не могло сразу двоих насмерть убить?
Проходит еще час. Ребята сидят злые и голодные. Говорю Рязанцеву:
– Федя сходи, позвони старшине! Рязанцев возвращается, пожимает плечами.
Но вот в проходе траншеи появляется наконец старшина. Все смотрят в его сторону, ребята им недовольны.
Старшина весь мокрый, с лица у него ручьями льет пот. Глаза лезут на лоб, на лице выражение кошмара и страха. Подбородок трясется. Старшина ртом ловит воздух, и слова не может сказать. У ездового Валеева на лице кривая, похабная ухмылка. Смотрит на меня и рот до ушей. Носом то и дело хлюпает.
– Чего ты соплей все время шмыгаешь? Высморкайся отойди!
– Что случилось? – спрашиваю я старшину. И в этот момент замечаю, что стоят они перед нами с пустыми руками.
– Что случилось? – повышаю я голос.
– Где наша кормежка? Где твой термос с варевом? – обращаюсь я к Валееву.
– Чего ты улыбаешься, как идиот?
– А ты? – оглядываю я старшину.
– Где твой мешок с продуктами и водкой?
– Нету! – выдавливает из себя старшина.
– Как это нету? Чего ты несешь? Ты, что не получил на нас продукты? Или у тебя, их украли?
– Хуже, товарищ гвардии капитан! – переведя несколько дух, отвечает он, искоса на ребят посматривая.
– Они у немцев остались!
– Чиво, чиво? Что ты говоришь? У каких таких немцев? Федя! Ты посмотри на него.
– Может, ты с утра лишнего перехватил? Вроде с тобой никогда такого не было.
– Вот именно, спятил!
Я смотрю на старшину и своим глазам не верю.
– Скажи же, наконец, что с вами случилось?
– После вашего звонка, мы тут же взяли продукты и вышли. И старшина стал вытирать рукавом пот с лица. С носа и подбородка у него капало.

– Я взял мешок. Валееву на плечо термос надел. Вышли из землянки, а варежки на столе оставил. Вернулся, надел варежки и подумал – пути не будет!
Бежим по тропе, а немец мину за миной кидает. Одна рванула впереди, шагах в пяти, а другая метах в двух позади Валеева. Передняя разорвалась, мне чуть по роже осколком не задело. Прибавил шагу, оглянулся назад, вижу Валеев едва успевает.
Слышу гул. Две еще гудят на подлете. Вроде, как немцы за нами следят. Видят, что мы бежим и засекли. Ну, думаю! Нужно в сторону взять, пока не поздно!
Обернулся назад, рукой показываю Валееву – давай, мол, вперед! Сворачивай с тропы и бери направление по снегу!
Термос у него тяжелый. Если будет сзади бежать – может отстать! Я с мешком держу дистанцию за ним сзади.
Смотрю, тропа ушла резко вправо. А Валеев, не сворачивая, бежит по снегу прямо.
– Куда думаю, он прет? Нам нужно налево, а он топает прямо.
Он еще обернулся и на ходу говорит:
– Здесь старшина напрямик гораздо ближе! До окопов добежим, а там по ходу сообщения во вторую роту!
– Ладно, – отвечаю, – шуруй побыстрей!
Снег не глубокий. Но бежать все равно тяжеловато. Я вперед не смотрю, гляжу под ноги и слушаю, как у него термос булькает за спиной.
Вижу чьи-то следы на снегу. Значит Валеев бежит правильно. Пробежали еще. Разрывы мин стали не слышны. Вот думаю передохнуть надо малость. Курить охота – считай, все вывернуло из души. Пробежали еще, вижу справа за кустом узкий спуск в землянку. Смотрю, из-под снега торчит железная труба и дымит помалу.
– Завернем? – говорю, – перекурить малость надо! Здесь по траншее до наших наверно рукой подать?
Валеев ныряет в проход, я за ним по ступенькам спускаюсь. Он отдергивает занавеску, снимает лямки и ставит термос к стене. Сам садится на корточки в углу, а я опускаю мешок и верхом на теплый термос усаживаюсь.
В углу напротив – небольшой столик. На столе горит коптилка. В блиндаже полумрак. Печка шипит. Что-то маловато в землянке солдат? – думаю.
Куда-то ушли? Достаю кисет, отрываю газету, сворачиваю козью ножку, закуриваю и Валееву говорю:
– Вот порядочек у славян! Спят все наповал! Ни часовых тебе, ни внутри дежурных! Тащи любого за ноги!
При свете огарка видно. На нарах лежит пять человек.
На мой голос с нар поднимается голова и говорит по-немецки:
– Вас, ист дас и так далее…
У меня аж дух перехватило. Их пять с автоматами. А у нас ничего. Валеев свой автомат в повозке оставил, а я револьвер повесил перед выходим на стене. Ну, теперь думаю, драпать надо! Я вскакиваю и хода наверх.
По своим следам мы добежали опять до тропы. Увидели телефонный провод, взяли его в руки и сюда к своим в окопы дошли.
– Вот, где сворачивать надо! – говорю я Валееву.
– А ты, куды меня завел?
– Ну, старшина! Все тебе простим! Водку и жрачку, хлеб там и сало! Если ты без выстрела нас к блиндажу подведешь. А, если сорвется, пеняй на себя! Отдам тебя на самосуд ребятам.
– Пять человек, говоришь, на нарах? Слыхали гвардейцы? Вас соколики поведет сам старшина!
– В блиндаж не входить! В трубу опустим гранату!

Гранатой всех не убьет! Осколки пойдут по проходу и в потолок, лежащих на нарах они не заденут! Старшине и Валееву дайте по автомату. Они впереди по своим следам нас поведут. К землянке подойдем, вниз никому не соваться! Трое наверх, к трубе! Старшина и Валеев у входа! Остальным наблюдать кругом! Если, что? Нужно их прикрыть! Всем все ясно? Пошли!
До немецкого блиндажа мы добрались быстро. Оказалось, что это не наш участок. Полоса обороны принадлежала 48-му полку. Но сейчас было не до раздела территории. Граната опущена в торчащую сверху трубу. Вот она застучала внутри по железу, глухо рванула, и в проходе землянки показался первый немец. Увидев нас, он поднял руки вверх.
Как выяснилось потом, двое из пяти были телефонисты. Они ушли на линию. Одного, сидевшего у печки убило взрывом гранаты.
Граната, это вещь! Когда ее опускаешь в трубу. Слышно, как она скребет, цепляя за стенки трубы и на несколько секунд затихает. Граната – отличный способ выкуривать немцев из блиндажей! Открывать стрельбу из автоматов по проходу землянки не надо. Стрельбу и шум наверху далеко слыхать.
А граната внутри блиндажа разрывается глухо. В двадцати шагах взрыва ее из нутри не слышно. Печь и горящие угли разлетаются по сторонам. Дым застилает землянку, пламя горелки сбивает, можешь в темноте надевать противогаз. Но тут действует страх. В трубу может спуститься вторая граната. Хочешь, не хочешь, а сам выходи!
Когда оба немца вывалили наружу, взглянули на нас, озираясь по сторонам, Валеев быстро шмыгнул в блиндаж, забрал мешок и выволок термос наружу за лямки.
Не успели мы сделать и десятка шагов, как в нашу сторону полетели трассирующие пули. Видно кто-то из немцев был в это время на подходе к блиндажу.
Мы отходили по голой земле. Ни канавы, ни окопа, ни паршивой воронки! Метров через двести по нас ударил немецкий миномет. Перед глазами встали сплошные снежные брызги. Мы стараемся перебежками выйти из-под огня. Шарахаемся то вправо, то влево. И каждый раз перед нами снова вырастает стена осколков и в лицо ударяет вонючий запах всполохов дыма. Вот уже на снег припадают двое. Их подхватывают на ходу.
Я не помню момента, когда передо мной разорвался снаряд. Я дыхнул едким запахом дыма и почувствовал тупой совсем безболезненный удар в грудь. Земля дернулась под ногами и легко куда-то уплыла.
Я потерял ощущение собственной тяжести. Был это осколочный или фугасный снаряд, трудно сказать. Было ясно одно, что снаряд меня перелетел и взорвался. Осколки во время взрыва ушли все вперед, а я получил удар, взрывной волны.
В первый миг, когда я пытался открыть глаза и взглянуть на окружающий мир, я почувствовал, что огромная тяжесть навалилась на меня и давила мне на плечи.
Вскоре лицо опухло, губы набухли, веки натекли. Я не мог пошевелиться и что-то сказать, хотя пришел в сознание. Мне казалось, что у меня остались голова и руки. А все остальное оторвало и отбросило в снег.

Не ужель у людей высшей цивилизации вся нижняя часть когда-то отомрет и останется только голова и загребущие руки.
Я хотел подняться, загрести под себя колючий снег, но руки не гребли, не было сил ими двинуть.
Когда разорвался снаряд? Я этого не слышал. Мне казалось, что я на короткое время закрыл глаза. А, когда я их открыл, то увидел, что лежу на повозке.
Потом меня отвезли в сан роту. Дежурный врач, меня осмотрев, заполнил эвакокарту по поводу общей контузии и из сан роты меня отправили в медсанбат, а затем я попал в Эвакогоспиталь 1427.
Не буду описывать, как громыхала и прыгала санитарная повозка по мерзлой земле, как стонали, матерились и кричали раненые, чтобы повозочный помедленнее их вез.
– Жаль браток тебя! – сказал один из раненых, посматривая на повозочного.
– Винтовку в сан роте у меня отобрали! А то б на первом километре тебя пристрелил!
* * *
21.09.1979
Ноябрь 1943
15 ноября 1943 г.

Я был контужен 13-го ноября, а 15-го попал уже в эвакогоспиталь. Это был госпиталь для легко раненых, назывался он ГЛР-1427. Находился он недалеко от шоссейной дороги Смоленск-Витебск в районе Леозно, но только от шоссе в стороне.
Обычно во время вынужденного и поспешного отступления немцы оставляли в стороне нетронутые войной деревни. Им некогда было бежать в сторону и их поджигать. Деревни, лежащие в стороне, часто оставались целыми. Вот в такой одной из деревень был расположен эвакогоспиталь.
Жителей в деревне не было. Все дома и постройки занимали медицинские службы. Каждая отдельная изба имела свое назначение. Здесь солдатская кухня, здесь приемный покой, перевязочная, процедурная, там операционная, баня и вшибойка. Левее губа и лечебная физкультура, как одно из главных в то время средств, чтобы солдат и офицеров поскорей вернуть обратно в строй.
Для нас, для контуженых офицеров было отведена отдельная небольшая изба. Стояла она отдельно, на отлете. У нас, у контуженых, голова и руки целы, у нас на почве контузии заплетается только язык. Мы не лежачие! Мы заикались и жрать хотели! К нашей избе в качестве санитара был представлен пожилой солдат. Мы ему по годам годились в сынки. И он нас, когда нужно направлял на истинный путь и одергивал. Передаст нам распоряжение госпитального начальства, выкликнет по фамилии, отведет на прием к врачу. Без него мы как маленькие дети, не имели права куда шагнуть. За нами только смотри, да смотри!
В другом конце деревни жили молоденькие медсестры, фельдшера и врачи. Туда нам раненым и особенно контуженым хода не было. Не только не было, нам ход туда был категорически запрещен. Деревня была разделена на две части. Посредине, поперек зимней дороги стоял полосатый шлагбаум. Около него, как на границе, день и ночь часовые. Стоят, смердят и берегут наш покой.
Наш санитар, зовут его Ерофеич, нас офицеров строго настрого предупредил
– Кто из вас будет задержан на той половине, тот подлежит немедленной выписке и отправке на фронт. Кому надоело сидеть на госпитальных харчах, можете туда прогуляться. Если не выставить охраны супротив вас, вы безобразничать к медсестрам пойдете, – пояснил Ерофеич и разгладил усы.
– У начальника госпиталя ППЖ отобьем?
– У майора медслужбы Зенделя к вашему сведению законная жена. К тому же она в годах. А вам нужны молодые кобылы. Вы все, как один здесь на подбор – жеребцы!
В нашей небольшой избушке всего два окна. Одно заколочено и забито соломой, а другое имеет замерзшие стекла. Но через них наружу ничего не видно. На стеклах лежит толстый слой намерзшего льда, потому что в избе постоянно стоит угар и сырость.

От порога вдоль передней стены, стоит русская печь, которую мы топим. От нее до нар, во всю ширину избы, небольшое узкое пространство. А дальше сплошные нары от стены, до стены. Нары в два этажа. На верхних теплей и потому там лежат старшие лейтенанты и капитаны. А в низу соответственно холодней, там расположены мл. лейтенанты и лейтенанты.
– Вы молодые кабели! За вами смотри, да смотри! – ворчит Ерофеич. У вас понятия о дисциплине нет!
В углу, у входа стоит железный бак с кипяченой водой. Железная кружка, с погнутыми боками, прикована к баку. Она лежит на столе около бака, как сторожевая собака и сторожит кто бы кран не открутил и не унес. В углу напротив печки прибитая к стене широкая лавка и небольшой скрипучий стол на точеных ногах.
К нам к контуженым представлен воспитатель. При поступлении новой партии раненых Ерофеича вызывают в приемный покой. Вот этот твой, говорят ему и он приводит его к нам в избу.
Мне помогли сойти с повозки, когда я прибыл. Потом завели меня в приемную и велели раздеться. Военврач капитан сидел за, висевшей поперёк приемной избы, простыней. Я снял с себя все кроме кальсон. Поправил завязки на поясе и присел на лавку. Трусов у нас тогда в моде не было. Мы все тогда ходили в исподних.
Меня завели за простынь и посадили на стул. Врач поводил пальцем у меня перед глазами, велел оскалить зубы и высунуть наружу язык. Потом я дрыгнул два раза ногой, закрыл глаза, и вытянув руки, растопырил пальцы. Вся эта процедура заняла не более пяти минут.
Капитан медслужбы сел за стол и стал что-то писать на бумаге. А я, прикрыв руками свое бестыжество, пошел за простынь одеваться.
Через некоторое время капитан позвал к себе санитара и велел отвести меня к контуженым.
Я шея за пожилым санитаром, поглядывая по сторонам. У меня с годами войны выработалась привычка примечать все на ходу. По расчищенной от снега дороге мы подвигались куда-то в сторону, не торопясь.
Крутом тишина! Не то, что у нас на передовой. Бежишь по тропе, а немец пулями тебя подгоняет. По дороге я почему-то вспомнил, о чем спрашивал меня военврач.
– Давно на передовой? Сколько раз ранен? Потом он вздохнул, покачал головой и на последок сказал:
– Редкий экземпляр! Ничего не скажешь!
В избе, куда мы пришли, было темно, тепло и сыро. Пахло прелой соломой, кирзовыми сапогами и вонючими портянками, которые висели на веревке вдоль печи.
Когда я переступил порог, то увидел на верхних нарах тесным кружком, сидящую группу младших офицеров. Все они обернулись сразу в нашу сторону и во внутрь избы ворвалось белое облако холодного воздуха из входной двери. Сзади меня хлопнула дверь и солдат сопровождавший меня обратился к сидевшим на нарах:
– Место для капитана! – сказал санитар, помогая снять мне полушубок.

– Откуда прибыл капитан? – спросил кто-то из офицеров, сидящих на верхних нарах.
– Не видишь – гвардеец! Из полковой разведки! – ответил за меня пожилой санитар.
– Я хотел спросить из какой дивизии!
– Дай человеку прийти в себя! Потом узнаешь, из какой дивизии!
Я молча залез на верхние нары, укрылся одеялом и на ноги натянул полушубок. В этой избе контуженные спали, не раздеваясь до нижнего белья. Для меня эта сырая и душная изба показалась раем. Тепло, исходившее от русской печи, разморило меня, и я вскоре заснул. Спал я долго, упорно и крепко.
Меня разбудили при свете керосиновой лампы. Сунули мне в руку миску с едой и кусок черного хлеба. Потом, когда я справился с похлебкой, мне передали железную кружку полусладкого чаю. Я поднес железную кружку к зубам и моя старая пломба заныла. Во рту стало кисло, как будто я на язык пробовал батарейку от карманного фонаря.
Теперь, в наше время железных кружек не видно в ходу. Теперь их покрывают цветной эмалью. А тогда, они были просто сделаны жестянщиком из голого железа.
На нарах, не вставая, я провалялся и проспал около трех суток. Стоит заметить, что кормили нас регулярно три раза в день. Еда была не густая, поел и тут же снова есть охота.
Когда я первый раз поднялся на ноги, в избе находились два офицера. Один из них был дневальным и топил печку, а другой только что прибыл. Остальных санитар увел на медкомиссию.
Санитар разговаривал с нами, как с детьми несмышленышами. Хотя и звания был всего солдатского.
Ты опять, младший лейтенант в процедурную нынче не ходил? Врач дознается, выпишет, загремишь ты не вовремя на передовую!
– Ладно, не продавай! Виноват! Постараюсь исправиться!
– Я вас и так покрываю! Молодые вы все! Сообразить не можете, что вам полезно, а что не выгодно! А на меня врачи косятся. Вроде я с вами тут за одно. Нахлестались надысь самогону. До главного врача как-то дошло? Вызывают меня и говорят:
– У тебя в палате попойки! А ты ходишь и ничего не видишь! Как будто слепой! Допускаешь, так сказать, разложение!
– Виноват! Промашка вышла!
Главный, тот на меня зло посмотрел, а жена его, старший лейтенант мед службы ехидно заметила:
– Может он сам с ними самогон попивал?
Вы меня старика окончательно можете подвести! Сколько можно ваши шалости и беспутство терпеть?
– Ты Ерофеич русский человек, а начинаешь петь под евреев! Ребята завтра четверть самогона принесут! Заходи к вечерку, вместе и усидим!
Я слез с нар, подошел к баку с водой, погремел железной цепью, налил в кружку водицы и с жадностью выпил ее.

– Ну, вот и гвардии капитан на ноги встал! – сказал кто-то из входящих в избу. Их сегодня Ерофеич водил к врачу на осмотр. Из десяти, трое подлежали выписки.
– Ну, что братцы, с отъездом надо бы выпить? А то и пути не будет!
Старший лейтенант, командир стрелковой роты отстегнул нагрудный карман, достал из кармана колбаской скрученные сторублевые, отсчитал несколько штук и дежурному протянул. В обязанности дежурного входило не только печку топить, расчищать снег на крыльце, а и когда на стол клались сотники, бежать в соседнюю деревню за бутылью.
У одного комиссованного на выписку денег не оказалось. Он достал из кармана трофейный портсигар, постучал им по краю стола, это значило, что любой из нас может взять его и положить деньги на стол.
Кроме убывающих те, кто остался, положили половинную долю свою. Так, что при общем сборе денег дежурный прикинул, что хватит на четверть.
Дежурный взглянул на меня. Я достал и протянул ему сторублевку, но дал понять, что я пить не буду. Дежурный лейтенант понимающе кивнул головой.
Пока отъезжающие ходили на склад, пока толкались в канцелярии, получая документы и сухой паек на дорогу, дежурный с бутылью вернулся из деревни.
– Старуха ворчала! На деньги не хотела давать! А, как я ей пачку сотенных показал, сразу у ведьмы глаза, так и забегали. Врет старая карга! Цену набивает!
Через некоторое время в дверях показался наш санитар Ерофеич.
– Давай-ка дежурный на кухню! Ужин пора получать! – сказал он, голову просунув в дверное отверстие. Сказал и тут же исчез.
Вскоре за ужином состоялись проводы отъезжающих. А на утро, рано, трое офицеров вышли в снежную даль.
Перед самым рассветом в дверях показался наш служивый солдат Ерофеич. Он просунул голову между притолокой и дверью и прокричал:
– Дежурный на кухню! Завтрак приспите!
Не жидкое варево из мороженой картошки и капусты, ломоть черного хлеба и тот же полусладкий чай. Питание три раза! Ничего не скажешь! Лежа на боку, жить можно. На фронте из общего солдатского котла и этого не получишь.
Еще несколько дней я провел в лежании на нарах. Время от еды – до еды тянется бесконечно долго. Других забот видимо нет. Чего только за это время не вспомнишь и не передумаешь. Лежишь на нарах с закрытыми глазами, а перед тобой опять мелькают солдаты и война. Знакомые лица живых и убитых. Ты видишь их лица живыми. Вот они рядом стоят и идут. Во время войны погибли многие, а ты видишь тех, кто был рядом с тобой.
Лежу на нарах и слышу, кто-то внизу говорит:
– Видно здорово капитана тряхнуло! Лежит уже вторую неделю и ни с кем, ни о чем не говорит.
Еще несколько дней я провалялся на нарах, не вставая. Потом однажды как-то сразу встал, но разговаривать ни с кем не хотелось.
Слова я выговаривал с трудом. Первое слово скажешь, а потом ждешь когда второе к горлу подойдет. Я не заикался, как некоторые. Но говорить не хотелось и отвечал я на вопросы с трудом.

А в это время, на верхних нарах, у окна, шла бойкая и напряженная карточная игра. Контуженые офицеры, лежа плотной кучкой на нарах, играли в карты на деньги. Банк в очко снимали солидный. Каждый новый кон выставляли по сотни.
Разговор у контуженных особый. Если хочешь что-нибудь понять к нему нужно привыкнуть. Значение не всех слов уловишь сразу.
– Капитан! Х-х-х-ва-ти… лежать! Да-аа-вай са-а-дись! В картишки…
– Чего са-а-а-а…
– И-и-и… в карты играть!
– Деньги клади!
Нужные слова, которые имели важное значение в игре, выговаривали твердо и четко.
– Дай еще одну!
– Смотри! Перебор будет!
– Давай, говорю! Очко! Деньги гони!
А все остальное тянулось нараспев, как в церковном хоре. Слышно, что поют. А о чем – понятия не имеешь!
Сидевшие здесь офицеры нисколько не стеснялись своего заикания, а даже наоборот.
С точки зрения моральной устойчивости карточная игра на деньги – занятие вполне полезное. Никакой тебе здесь политики и тем более Уря-Уря!
Банк во время игры иногда доходил до тысячи. Но чтобы играющих госпитальное начальство не застало врасплох и не отобрало карты и деньги, дневальный при входе у двери вываливал пару охапок наколотых дров.
Дверь откроешь, сунешься, а под ногами – гора поленьев. Пока их перелезешь, деньги и карты исчезнут за пазухой и на лицах контуженных появиться идиотское выражение и тупой невинный взгляд. Днем по избам, где лежали раненые, иногда с проверкой являлось начальство. Если кого из больных застанут за игрой в карты на деньги, то на следующий день последует выписка.
Вспоминаю я себя, когда я пошел на войну. Я рвался тогда на передовую и война мне казалась сплошным геройством и романтикой. Я считал, что мое место только там, впереди. Так и эти молоденькие лейтенанты. Хватив не раз на передовой горячего до слез, и видя, что геройством тут ничего не сделаешь, что жизни твоей от силы в окопах неделя или две, они теперь попасть в окопы особенно не торопились. Каждый из них считал, что если есть возможность лишнюю неделю в госпитале пробыть, почему бы не воспользоваться этим. Вымогательством никто не занимался и симулянтом быть никто не хотел.
Контуженный, он не ранен и не обмотан бинтами, руки, ноги у него целы, у него замедленная реакция. Выпихнули из госпиталя, попал на передовую – попробуй, докажи, что у тебя голова болит и руки трясутся.
– Что, что? Руки трясутся? Да он просто – трус!

Кто был в пехоте на передовой, тот знает, что под рев снарядов и мин у многих не только поджилки и руки от страха трясутся. Тут некоторые, как малые дети могут во время паники и наложить в штаны.
На войне и не такое бывает!
Стоящие выше тебя и те, что сидят позади в блиндажах имеют свой взгляд на тебя и руководствуются своими правилами и порядком. Их салом не корми, они в миг тебе подведут трусость и моральное разложение.
К концу сорок третьего игра в солдатики отличалась от игры сорок первого года. Подвести тебя под трибунал особого труда не стоило.
– Все воюют за Сталина! А ты, что солдатам внушал?
– Мы умираем за Родину? Разница есть? Вот и схлопотал!
Игра на карты в очко – тяжелая игра! В ней, как в бою. Чуть прозевал – тут же расплата!
Молодой лейтенант кричит:
– Па-па-па…!
– Чего па-па?
– Гади!
– Дай мне еще одну карту!
– Пойми его, чего он хочет? На пожалуйста бери! Туза схватил?
Лейтенант набрал перебор, тряс головой и краснел от расстройства.
– Ладно, успокойся! На твою полсотни, а то скажешь, что тебя обманул!
После этого игра как-то стихала. И бывало, что несколько дней подряд за карты вообще не брались. Исключение были так же дни, когда приходил наш санитар и выкликал фамилии, кто должен был идти на осмотр.
(* – Дать рассказы лейтенантов о войне…)
* Истории лейтенантов автор не успел написать, откладывал на "потом". Нашел в архиве рассказ "Вишни" с пометкой "вставить куда?"

– Ты видно в боях бывал?
Да, в сорок втором под Ржевом. В боях за знаменитый Кирпичный завод, слыхал? Атрподготовку я проспал. Открыл глаза, когда наши пошли в наступление. Я бы не проснулся, да дружок сидевший рядом в окопе стал у меня из под головы вытаскивать свою плащпалатку. Днем жара, а ночью прохладннее. Не то июль, не то август был, точно не помню. Жрать мы хотели страшно. В снабжении была пауза или перерыв. Вобщем считай двое суток не ели.
Перед самым наступлением в окопы принесли махорку. А еду не принесли, жрать было нечего. Сказали, что кухню и склады разбило. Муку по лесу распылило, не будешь же ее собирать. А хлеба почему-то не было. Тут в атаку идти, а славяне занялись делить махорку. Уйдешь вперед, и махорки не достанется. Шум подняли, что-то не поделили. Командир роты бегает, кричит, выгоняет вперед, машет пистолетом, а на него никто внимания не обращает.
– Разделем махорку тады пойдем!
Лейтенант махнул рукой, плюнул и обматерил своих солдат. Сел на земляную ступеньку в проходе землянки, опустил голову и после беготни и ора решил отдышаться и несколько успокоиться.

В них в этот момент из орудия будешь бить по траншее, не выгонешь. Чему быть, тому быть.
Пока он сидел и думал, что ему делать, драка и спор у мешка с махоркой кончился. Мешок не мешок, а так торбочка небольшая. Тридцать человек в роте, каждому по небольшой пригоршни. Десять минут и вся раздача. Получив свои порции, солдаты полезли на бруствер, вылезли из траншеи и недожидаясь вторичного приглошения, неторопясь потопали в сторону немцев. Прошли немного, метров пятьсот. Немец открыл минометный огонь, они дошли до какого-то сада, залегли под вишнями и стали окапываться.
Зарывшись неглубоко в землю, так чтобы задница была не наружи, они сделали остановку и решили осмотреться и перекурить. Вопервых, в атаку они пошли. Территорию у немцев отвоевали. Кто может сказать, что они не выполнили боевой приказ на наступление. Скажем, что был сильный встречный огонь. Наша артиллерия атаку не поддержала, вот и окопались, чтобы переждать обстрел. Теперь до немцев недалеко – рукой подать. Пусть артиллерией ударят еще раз. Нечего снаряды прятать и жалеть.
Окопались, легли, закурили, осмотрелись.
– Глянь ка Ерохин! Вишня какая крупная.

– Красная, спелая! Мать часна! А мы лежим мохорку с голодухи переводим. Лезь на дерево, ломай суки, а я их в одно место буду оттаскивать.
Ерохин, долго не думая, полез на ближнюю вишню. Не успел он лопатой обрубить пару хороших суков, как не удержался и с третьим суком замертво рухнул на землю. Пуля немецкого снайпера сделала быстро свое коварное дело.
Не пришлось молодому солдату попробывать сочной и спелой вишни. Пожадничал, не сорвал ни одной ягоды, торопился побольше суков обламить.
Кровавый след от пули остался на его гимнастерке.
Кроваво красные вишни лопались между пальцев, когда их стали отрывать от веток корявые руки солдат.
Еще один расторопный нашелся. Ни кто его не просил, на этот раз он сам пытался полезть на дерево.
– Ты что, не видишь труп под вишней лежит! Одного убило, другой дурак отыскался. Видите, ему вишенки не досталось.
– Давай назад, куда полез.
Солдат в нерешительности остановился. Постоял, подумал, почесал в затылке закинув голову и посматривая на тяжелые обвисшие от ягод суки, повернул назад и недовольный спрыгнул в свой окопчик.

Рядом просвистела очередь выпущенных из пулемета троссирующих пуль.
– На этот раз пронесло. – заметил кто-то.
Солдаты сидели на корточках в своих наспех отрытых окопчиках. Они забыли про войну, про немцев и наступление. Все их внимание, все их мысли, все их голодные душы были прикованы к спелым, кровавым и мясистым ягодам. Они крутили головами, перекидывались короткими фразами. Все их помыслы вертелись вокруг одного. Как достать с дерева лакомый кусок, не рискуя жизнью.
Лежать и ждать до вечера не один из них не вытерпит. Вот только веревки нет. А то бы сейчас закинуть и вдвоем, втроем налечь и сук бы затрещал.
– Давай братцы, руби ствол лопатами.
– Руби без отдыха по очереди. Авось через часа два и завалим.
Двое подползли к стволу вишни и бойко принялись за дело. Только ствол вишни им не поддавался. Они сбили с дерева кору и измочалили верхнюю древесину. От ударов с дерева то там, то тут на землю срываясь падали свежие сочные ягоды. Ударяясь о землю они оставляли на ней капли кровавого следа.

Видя, что ничего путного из этого не получается солдаты поднялись на ноги и замахав лопатами стали, подрубая, тянуть вниз большие сучки. Немцы не стали терпеть больше такого нахальства. Минометная батарея немцев стала пристреливать то место, где мы лежали.
Командир роты видя, что оставаться здесь нельзя, приказал ползком передвинуться вперед, доползти до оврага, который разделял нейтральную полосу на две части. И там под скатом оврага окопаться и занять оборону.
– Оставить вишню, а самим уйти вперед. Это же не справедливо товарищ лейтенант.
– Немедленно к оврагу, а то он вам сейчас здесь всыпет.
И в подтверждение его слов, снова две пущенные мины разорвались в полуметре от окопа. Солдаты вдрогнули и поныряли в свои убежища.
Чего после взрыва прятаться? Осколки уже пролетели.
– Давай вперед, говорю я вам. За вишней придете, когда стемнеет.
Один из солдат глубоко вздохнул, заохал жалобно, как будто у него кишки вырвало. Поднялся на колени, перевалил окоп и обернувшись к остальным сказал:
– Пошли братцы!
Солдаты, как будто только и ожидали его возгласа. Не командир роты командывал ими. Вот этот простой солдат подал им пример и они не задумываясь последовали за ним.

Немцы вероятно заметили передвижение вперед, когда рота выползла из-под вишневых деревьев. Рота переползла по открытой местности и не успела скатиться в овраг, как немцы по оврагу сосредоточили массированный огонь. Деваться было некуда, здесь ни одной ямки, ни одной расщелины, куда можно было бы забиться и переждать арт огонь.
Солдаты повалились на дно оврага, расплостались на земле, вздрагивая всем телом от каждого нового удара мины или снаряда.
Лейтенанта ранило в бедро. Ординарец в суматохе обстрела бросился на землю где-то в стороне.
– Я пополз обратно, меня ранило. Помкомвзвод Понтелеев останешься за меня.
– Лежи лейтенант, по дороге убет. Немного стихнет, к вечеру тебя вынесем.
– Нет браток, я сам доберусь. По одному человеку они из пушек стрелять не будут.
Сколько я полз, я совсем не помню. Завалился по дороге в воронку и решил в ней отдохнуть. Дно воронки было углублено на метр. Окопчик небольшой, но глубокий. На дне прохладно от сырой глины. А наверху жара, июль, нечем дышать. Пить хотелось, губы и во рту пересохло. Но воды достать негде.

Ординарец с фляжкой остался в овраге. Бок болел, я устроился поудобней на левом, подложил планшет под голову и тут же заснул. От солнца сверху я на лицо положил правую руку. Когда меня ранило, я не заметил, что с двух пальцев руки у меня капала кровь.
Во сне я чувствовал, что кругом стоит грохот и сыплется земля. Мое счастье, что я дополз до углубленной воронки. Земля дрожала и ходила, но ни один осколок не залетал в мое укрытие.
На войне так бывает. Нашел случайно место. Кругом всех побило, а ты в открытом окопчике жив и не вредим.
Несколько раз просыпаясь я видел, что грохот не прекращается. Поворочившись немного я снова закрывал глаза и засыпал. Я проспал почти весь день.
К вечеру решив оглядеться, пока было светло, я поднялся на ноги и выглянул из воронки. Повернулся лицом в сторону нашего тыла и перед собой увидел наше семидесяти шести миллиметровое орудие. Артиллеристы увидели меня, когда я встал. С руки на лицо натекло много крови. Они увидели перед собой окровавленного но живого человека.
– Помогите, братцы!

Трое артиллеристов кинулись ко мне. Они выволокли меня из воронки, подтащили к стоявшим у пушки пустым зарядным ящикам, предложив мне сесть. Но сесть я отказался. Согнуть бедро мешала перевязка, я чувствовал боль в бедре и толком не знал, что там могло быть разбито.
Они притащили носилки, положили меня и отнесли на телегу. Повозочный дернул вожжами, вскочил на передок и поехал в тыл. Сколько и где мы ехали, я не помню. Помню мою повязку осмотрел врач. Что то сказал санитарам и меня переложили на другую телегу. Артиллеристая повозка развенулась и уехала обратно.
Кругом бегали санитары, медсестры. Несколько телег стоявших гужом, были не догружены ранеными. Я просил пить у пробегавших мимо людей. Но они, на меня и на мои просьбы, не обращали ни какого внимания.
Потом повозки тронулись и нас затрясло по дороге. Километров сорок проехав, нас сняли с повозок и положили на землю. Повозочные на телегах уехали, мы остались лежать на земле.
Я огляделся, кругом кусты небольшая поляна и лужи кругом. Ни врачей, ни санитаров. Неужель нас эти обозники бросили? Может немец прорвал фронт и прет напрополую.

Над лесом, что стоит метрах в трехстах от нашей лежанки слышались раскаты взрывов бомб и гудение немецких пикеровщиков. Так продолжалось несколько часов.
Некоторые из раненых поднимались с земли опираясь на палки, ковыляли к бочагам с водой. Ложились на брюхо и жадно хватали коричневую воду ртом. Кто мог двигаться, тому это удавалось.
Я лежал на боку и не знал, что мне делать. Можно ли мне двигаться, перебиты ли у меня кости. Если кости в бедре перебиты, поднявшись я их сдвину наверняка с места. Потом врачи скажут, зачем вставал, ты сам себе нанес непоправимую травму.
Я пошевелился, поднялся на руках от земли. Страшной и раздерающей боли я не почувствовал. Сесть я не мог, а мог встать на колени. На четвереньках продвигаясь вперед я хотел доползти до ближайшей лужи с водой.
– Вы куда лейтенант? – услышел я женский голос над собой.
Я повернул голову, надо мной стояла медсестра с сумкой.
– Пить сестричка!
Сестра отстегнула от ремня котелок, зачерпнула воды из мутной лужи. Расстегнула свою сумку достала какой-то порошок, бросила его в котелок, поболтала поднятой с земли палочкой в котелке и подала мне воду.

– Пейте! Кто еще хочет?
– Вы товарищи не волнуйтесь, вас положили здесь специально. Вас не бросили посреди дороги в грязи. Немцы засекли наш полевой госпиталь, третий день бомбят деревню и палатки в лесу. Здесь у болота они вас не заметят. При облете самолетов прошу не двигаться. Каждый лежит под кустом, этого достаточно, чтобы вас сверху не видели. Мы принимаем так уже вторую партию. Там бомбили, а здесь ни одной потери нет. В виду бомбежки госпиталь вас принять не может. К вечеру придут подводы и вас повезут дальше.
Медсестра с котелком стала обходить раненых лежащих на земле.
– Хоть бы покормили нас, мы считай третьи сутки не ели.
– Кормить сейчас нечем. Потерпите, от этого не умирают.
Солнце еще не село за лес, на дороге загрохотали телеги. Раненых быстро растощили по повозкам и колонна двинулась дальше в тыл.

Бесконечная трясская дорога и не подрессоренные скрипучие телеги прыгая на колдобинах и выбоинах измотали последние силы у ослабевших людей. Сколько продолжалось эта нечеловеческая тряска на телегах. Сколько прошло времени, когда пришел обоз в Торжок, ни один раненый сказать не мог.
Я открыл глаза, кругом было тихо, подводы не двигались, колеса не скрипели. День или ночь стояла, трудно было сказать. Помню только, что нас на носилках куда-то понесли и опустили. Помню смутно, что мы несколько часов лежали в корридоре, потом в светлой перевязочной над нами манипулировали люди в белых халатах. Меня о чем-то спрашивали, я что-то отвечал на вопросы.
Как следует очнулся я в просторной и чистой палате. Под головой лежала ватная подушка, под боком такой же ватный тюфяк. Все закрыто белыми простынями, на подушке белоснежная навлочка, даже как то неловко. После земли и грязи оказаться в чистой кровати.
Лежу укрытый одеялом, рядом белая тумбочка. На ней граненый стакан с водой, в воде воткнуты полевые цветы. На больших окнах марлевые подкрашенные зеленкой в бледный цвет занавески.
Открыл глаза, дежурная сестра подходит и спрашивает:
– Будете есть?
– Ужасно хочу! – отвечаю я ей.
– Несколько суток во рту ничего не было.

Она ухадит и вскоре возвращается. В руках у нее поднос, на подносе миска ароматного хлебова, стакан компота и ломтики белого хлеба.
Я поднимаюсь на локтях. Тяну нос к миске и вижу, передомной мясные наваристые свежие щи. Жолтые блески навара плавают между разводами сметаны. Потянув ноздрей ароматный пар от наваристых щей, я задохнулся от вкусности плескавшейся в миске похлебки. Сколько лет ничего подобного не ел, не нюхал и не вдыхал такого аромата.
Медсестра подставила к кровати табуретку. Поставила миски, положила рядом на торелочку хлеб. Компот она аккуратно поставила на тумбочку.
– Ешьте первое, а я пойду за вторым.
– А что на второе, – спросил я из любопытства. Может не налегать на щи, оставить место для жаркого.
– На второе, гуляш с жареной картошкой.
Если захотите добавки первого. Скажите, я принесу вам еще. Раненые первые дни по многу и жадно едят. Такое впечатление, как будто вас на фронте совсем не кормят. Я посижу здесь, а вы приступайте к первому. Не глотайте по многу, щи горячие. Ешьте по немногу.

Я опустил алюминевую ложку в щи, откусил небольшой кусок хлеба от тоненько нарезанного ломтика, зачерпнул ложкой и поднес ко рту. Вытянул губы, подул и попробовал горячи ли, прислонив к краю ложки нижнюю губу.
В этот момент здание, где была палата, внезапно вздрогнуло. Стены и пол как-то поплыли вдруг в сторону. Миска со щами подпрыгнула сама, табуретка зашаталась и отлетела в сторону. После всего этого в тот же момент раздался взрыв. Посыпалась штукатурка, какая-то пыль и земля. Наверху, над головой с воем и ревом пронесся самолет пикеровщик. Снова удар, из окон посыпались стекла. Щи я только понюхал, а вот попробовать их не пришлось.
Здание школы, где мы лежали, заходило ходуном. В панике заметались люди. Раненые, кто мог ходить на своих ногах, кто мог подпираясь костылями вымахать наружу, все кинулись толкая друг друга в коридор.
После третьего удара из окон выбило деревянные рамы. Я поднялся с кровати, перевалился через подоконник и опустился на землю. Огляделся по сторонам.

Метрах в двадцати от здания были отрыты узкие щели. Там уже сидели люди. Они попеременно выглядывали. Увидели меня и замахали мне руками. Прихрамывая я доплелся до них. Мне подали несколько человек руки и я легко соскользнул к ним в окоп.
Немцы налетев на Торжок, летали безнаказанно, спускаясь к самым крышам. Бомбежка продолжалась до самого вечера. Вечером к госпиталю подошли подводы, нас погрузили и повезли куда-то в деревню.
Еще сутки прошли, а во рту у меня остался только вкус кусочка откусанного от тонко нарезанного ломтика хлеба. Стоя в ячейке с ранеными я вдруг почувствовал, что не прожевал его. Пожевав, поваляв его во рту, я усилием воли проглатил его, как комок размятой глины. А щи, наваристые щи со сметаной, я даже не успел попробовать. А там на дне миски, я видел, мелко нарубленные кусочки сосисок.
Сейчас слюни текут, курить нечего и я глотаю слюни. Когда куришь – легче, затянулся разок, стоишь и сплевываешь налево и направо.
Вот какая история однажды приключилась со мной, поведал командир роты, мне грустную свою историю.
* * *
На передовой под Витебском видимо наступило затишье. Раненых и контуженый в госпиталь не поступало. Немецкая авиация почти не летала. Наша изба постепенно опустела совсем. Всех, кто находился здесь больше месяца, после очередной комиссии выписывали и отправляли по своим частям.
Старик Ерофеич, наш санитар, как-то пришел сел аккуратно на лавочку, достал свой кисет, свернул козью ножку и пустил дым в пространство. Потом он огляделся крутом, убедился, что мы все на месте и сказал сам себе под нос:
– Живешь, живешь – стараешься, а все никак не угодишь! И вот что еще!
– Слыхать гипнотизер в госпиталь приехал. Будут внушением усыплять и проверять. Сразу узнают, кто еще контужен, а кто так здесь сидит. На нарах вон кричат и в карты дуются, а придут к врачу, двух слов связать не могут. Мычат и все тут!
Ерофеич подымил своей цигаркой, покашлял сипло в кулак, поплевал на окурок, придавил его на шестке печки, почесал в затылке, встал и ушел.
Лейтенанты на нарах головы подняли.
– Что будем делать, братцы? Посоветуй гвардии капитан! Ты вроде все знаешь. Старше нас и все-таки разведчик!
– У меня в этом деле опыта нет! – ответил я.

– Я первый раз в госпиталь попал по контузии. Слыхал, что после выпивки гипноз не берет.
– Ну да?
– Это точно?
– Откуда я знаю, точно это или нет. Просто слыхал такой разговор.
– А что братцы, наверно лекарства такие есть?
– То лекарства, а тут просто водка!
– Другого средства нет! Давай деньги братва! За самогоном нужно бежать!
– Вам надо, вы и бегите! – сказал недавно прибывший в госпиталь лейтенант, посматривая на меня.
– Мы с капитаном здесь вторую неделю. Нас комиссовать теперь не будут. Так что рассчитывайте только на себя на двоих. Из всех контуженых за самогон стояли только двое.
– Вам братцы нужно просто в деревню сходить и выпить на двоих! – подсказал кто-то.
Назавтра назначили перекомиссию. На комиссии должны были встретиться те, кого ждали окопы и те, с кого требовали отправки молодых лейтенантов на фронт. Сначала вызвали тех двоих, которые давно здесь сидели. Первый, которого пытались "усыпить", вернулся с комиссии и рассказал.
– Ну, как? – встретили его вопросом ребята в избе.
– Нормально! – ответил он, усаживаясь на лавку.
– Ты расскажи, как там было?
– Посадили меня на табурет. Пожилой такой, худощавый врач старик.
– Смотри, говорит сюда. И показывает мне палец. Сколько он им не водил, я не усыплялся! Иди, говорят. Следующего давайте! Я спрашиваю у нашего врача, какое будет решение. Иди, говорит, потом узнаешь! Видно ребятки самогонка в ползу пошла!
Вскоре в избу вернулись еще двое. На комиссию не вызывали лейтенанта и меня.
В избе продолжалось шумное обсуждение.
Я вышел на улицу, сел на ступеньку крыльца, насыпал в газетный обрывок щепоть махорки и хотел закурить. Мимо меня прошли врачи. Среди них был худой и пожилой невропатолог, которого наши контуженные приняли за гипнотизёра. У нашего брата дорога одна: копы, кровь, неистовый грохот и смерть в лазарете.
Я посмотрел на пожилого врача и подумал:
– Врач, как врач, худой и очень усталый. Я усомнился, что он был гипнотизером. У него было простое, доброе и приветливое лицо.
Это было днем, а к вечеру вызвали нас двоих на осмотр.
– Ну, как капитан? Долго он с тобой возился? Ты разведчик! Сила воли железная! Тебя не так просто, взять и усыпить!
– По-моему он обыкновенный врач. А прислали его сюда, чтобы от нашего брата госпиталь поскорей очистить. Видно он специалист, главный невропатолог армии. Он осмотрел меня обыкновенно, как все врачи.
– Что ж выходит? Самогонку мы зря пили?

– Выходит так!
– Ну, да! А почему же меня там все время в сон клонило?
– Известное дело! Выпили с вечера и всю ночь гудели.
– Нет, капитан! Сижу я на табуретке, и чувствую, глаза липнут. Еле пересилил себя. Смотрю, гипноз не берет. Сразу на душе стало полегче.
На утро следующего дня пятерым назначили выписку. Возможно кто-то из госпитального начальства утку пустил, чтобы у контуженых не было сомнений.
Тот, кто побыл не раз у смерти в пасти или когтях, тот особенно не рвался, оказаться снова в цепких ее объятиях. Но каждый из нас понимал, что война – есть война! Все равно надо вертаться туда днем раньше или неделей позже. Ротных офицеров в стрелковых полках давно не хватало.
По деревенской улице летит колючий снег и посвистывает ветер. Из натопленной избы выходить нет никакой охоты. Окопник быстро привыкает к тишине и сырому теплу. А там, на улице сухой и колючий морозец. А ведь только что жили в промерзших окопах, под грохот снарядов и повизгивание пуль.
И вот попал солдат на телячий зимний постой и у него мурашки бегут, от одной мысли попасть снова в обледенелые окопы. Несовершенна наша медицина. Солдат окопников нужно на открытом воздухе лечить. Вот тогда он не будет гадать где теплее. Ему не нужно будет привыкать к чистому воздуху, к холодному ветру и мерзлой земле.
Наше командование и штабные без войны спокойно жить не могут. У них в голове мыслей, как у нас в голове ворохи вшей. У них в голове роятся атаки, удары и планы. А нас, вши до крови заели!
Нужно кому-то солдатиков под огонь вести, а мы прохлаждаемся, время картишками убиваем. У нас на переднем крае лошадей стараются под пули близко к окопам не выводить. Роют глубокие стойла, перекрытия сверху в три наката кладут. А мы на войне, так сказать, сами по себе. Хочешь, себе могилу в земле приготовь, хочешь, укрой ее жердочками и валяйся с солдатами.
Мы измучены и обессилены на всю жизнь. На всю жизнь намерзлись в окопах, так что, в сырой и душной избе месяц лежания показался нам раем. Еще бы! Лежишь на верхних нарах, под тобой истертая соломка и сверху одеяльце. На ноги брошен полушубок, чтобы не сперли. Подвернешь полушубок под ноги и чуешь его, и ногам гораздо теплей.
Мы принюхались к запаху нар, к небольшому угару печки, к слежавшейся соломе, к духу давно не мытых человеческих тел, к вони грязных портянок, прожженных шинелей, полушубков и валенок.

Выйдешь иногда на белый снег, поскрипишь на нем немного ногами, и обратно в избу шмыг. Стоит окопнику побыть недельку в тепле, душа и мозги сразу раскиснут. После этого даже от запаха снега воротит. Самое здоровое, это всю зиму валяться на снегу. Накуришься с голодухи – во рту, как кошки наклали. Ходишь, сплевываешь желтой слюной. В голове прозрачные мысли, на душе уверенность и сознание, что на твоих плечах стоит целый фронт. Твердо знаешь, что сзади Родина, а за спиной тыловая братия. Торчишь в мерзлом окопе и никакая хворь тебя не берет, окромя пуль, осколков и вшей, которые тем злей и лютей, чем небо прозрачней.
Вот что обидно. На кой черт нам все эти стихотворения – нашей жизни остались считанные дни.
Сегодня нас под конвоем нашего санитара заставили слезть с нар и велели одеваться. Мы нехотя натянули полушубки, надели валенки, подтянули поясные ремни и на счет по загнутым пальцам старика Ерофеича, под его строгим оком вышли и построились около избы.
Мы, конечно, не знали, для чего все это делается.
– Ну, вот что! – покашливая и оглядывая нас с пристрастием, объявляет с достоинством Ерофеич:
– Пойдете со мной организованно на концерт!
И мы в сопровождении нашего крестного отца и батюшки направляемся на другую половину деревни. Сегодня нам великодушно разрешили зайти за полосатый шлагбаум.
Мы топаем по расчищенной от снега дороге гуськом, проходим границу, где стоят зоркие служивые солдатики. Они с достоинством пронизывают нас взглядами. Службу они несут по всем правилам караульной службы. Этих солдат придержали от фронта и они по этому стараются во всю.
Мы направляемся к пятистенной большой избе. Это, так сказать, госпитальный клуб и место собраний, здесь перед входом небольшая расчищенная от снега площадка. Небольшие группки солдат стоя, курят и ждут чего-то. Солдаты расступаются и пропускают нас к крыльцу. Ерофеич толкает дверь ногой и из избы наружу вырываются белые клубы пара, непонятный какой-то женский запах с примесью кислого аромата солдатских портянок и валенных сапог.
Там внутри уже достаточно набилось народа. Мы не спеша, поднимаемся по дощатым ступенькам, входим вовнутрь и неожиданно попадаем в освещенное электричеством пространство. Где-то за стеной глухо постукивает движок.
Перед нами все как в хорошем деревенском клубе. Впереди невысокая сцена и от стены до стены деревянные лавки. Сегодня нам раненым и больным дают концерт силами госпитальной самодеятельности.
Движок запускают, когда в клубе идет кино, дается представление, проходит собрание и когда в операционной режут нашего брата.
Передние лавки перед сценой пусты, здесь в первом ряду будут сидеть врачи и госпитальное начальство. Вторая лавка налево и направо для раненых и контуженых офицеров. А все остальные сзади заполнены сержантами и солдатами. Здесь в клубе, как на войне. Только все наоборот. Солдаты стрелки стоят и сидят у стены последними, мы офицеры ближе к сцене, а впереди само высокое начальство.
Передняя лавка постепенно заполняется. Приходят врачи, садятся по краям, середина лавки пока пустая. Все ждут появления госпитального начальства. За ним послали, и оно вот-вот должно появиться в дверях.
Мы сидим на второй лавке и изучаем сцену, смотрим по сторонам, рассматриваем публику. Здесь молодые медсестры и старики санитары.
Вот зал зашумел. В проходе показался майор, за ним старший лейтенант мед службы, худая швабра, его жена и замы по службам.

Я вижу нашего санитара, он стоит у стены и считает нас по макушкам. Тучный майор и тощая, костлявая его жена проходят вперед и усаживаются на передней лавке.
Что же им под задницу стулья не догадались поставить? – соображаю я.
Зал заждался появления начальства, оживился и зашумел. Занавес на сцене дрогнул и пополз по сторонам. Гром аплодисментов всколыхнул все пространство. Мы тоже сидели и хлопали. Хлопали все, но каждый хлопал за свое.
Полногрудая с широкими бедрами медсестра, если оценить ее по военному – Ну брат держись! – вышла на середину сцены и предстала перед публикой. Позади нее в два ряда, поджав губы, располагался госпитальный женский хор молодых медсестер.
Нам казалось, что именно на нас, на фронтовиков, смотрят из-под подведенных бровей глаза круглолицых милашек. Мы хлопали им и кричали ура. Что можно было ожидать от контуженных?
Как потом пояснил нам наш солдат санитар, в госпитале на счет подкраски губ и подведения бровей был заведен строгий порядок. Сестрам было объявлено, чтобы они не применяли косметику, дабы не раздражать раненых. На издании этого распоряжения настояла костлявая жена начальника госпиталя. Медсестрам не разрешали краситься и безобразно распускать волосы и делать похабные прически.
Теперь они все стояли рядком на сцене, а тощая и длинная ела их колючими глазами с передней лавки. А они стояли и таращили глаза на молодых солдат и на нас безусых офицеров.
– Целый хор Пятницкого! – сказал кто-то из наших ребят.
– Глаз не оторвешь! уточнил рядом сидящий.
– Пы-ы-ы-шечки! – подметил третий.
– Ра-а-а-зок обнять, можно и на передовую!
Жена майора, не оборачиваясь, заерзала костлявым задом на лавке.
– По-о-о-думать только! Та-а-кие милашки и пропа-а-дают тут зря!
Главврач от этих слов повернулся и посмотрел на сказавшего контуженного. Он ничего не сказал, а наверно подумал
– Чего с него возьмешь? Голодный – сытого не понимает!
Со сцены в это время объявили песню.
– Чего будут петь? – спросил кто-то из наших.
Девочки затянули песню с чувством и душой о Священной войне. У нас аж мурашки по телу пошли, как была она нам почему-то близка и знакома.
Потом читали стихи, серые, беззвучные, но весьма патриотичные. И вот наконец объявили рассказ корреспондента о нас, о фронтовиках. Смешно было слушать словесные потуги человека, который ее не нюхал. Кто-то из ребят, сидевших рядом, сказал:
– Наверно списали из писем фронтовиков при проверке в военной цензуре!
Мы то сразу почуяли, что автор не нюхал войны, а медперсоналу его слова видно задели за душу. У людей, которые во время войны находились в тылу и слова о войне были свои, нам не понятные. С каким вниманием слушали их они и с каким смехом воспринимали мы эти беззвучные фразы.

У них и чтеца были слезы на глазах. А у нас рот был растянут до самых ушей. Потом нам пропели песню – Ой Днепро-Днепро! Откровенно сказать, я так и не понял, грустная она или героическая? Потом девочки сплясали, по грохали каблуками сапогов по деревянному настилу сцены, раскраснелись, разволновались, некоторые, наиболее старательные, даже вспотели. На потную милашку, должен вам сказать, даже издалека смотреть не приведи бог. Уж очень она разгоряченная и телом небось податлива.
Потом, для успокоения, прозвучала песня – Мы все на бой пойдем за власть Советов и как один умрем в борьбе за это…
Эта песня у нашего брата вызвала в памяти страшные дни войны. Они у каждого из нас были свои, и каждый их понимал и вспоминал по-своему. Потому, как мы знали, что значит идти и умирать в бою. Наша жизнь на войне, как чудное мгновение, как мимолетное видение! Просвистела пуля, считай, что следующая твоя, или его, или нас обоих подденет. Когда мы ехали на фронт, никому из нас в голову не пришло, что на ней может твориться. Уж очень легким делом мы представляли себе войну. Да и наши старшие братья по оружию, что сидели сзади на нее несерьезно смотрели. Воевали они в укрытиях, согнувшись над картами и по телефону. Что делалось в войсках, толком не знали, совесть их не сосала, потому что они на войне были сыты. А у сытого в голове леность мыли и тупость. Чистоту мысли способен отточить только голодный и измученный войной человек. Одному ему война близка и понятна до слез, а другой ее знает только понаслышке.
После концерта, как мы надеялись, будут танцы с грудастыми милашками. Нам бы вшивым офицерам потереться об них, почувствовать их близость и женский запах ноздрей уловить. Но этого как раз и не было предусмотрено программой вечера. Мы огляделись по сторонам и поджав губы, а губа у нас у каждого видно была не дура, покачав головой встали и к выходу пошли. Ерофеич нас собрал кучкой, и мы не торопясь за шлагбаум ушли.
Через неделю после концерта меня выписали из госпиталя. Получив документы и на складе сухой паек, я спустился с крыльца и окинул взглядом деревню. Постоял, посмотрел и сам себе сказал, что вот в последний раз я ее вижу.
По дороге к нашему крыльцу бежал госпитальный писарь.
– Товарищ гвардии капитан! Тут сержант выписывается! Не возьмете его с собой? Вам с ним по дороге. А вдвоем идти веселее.
– Ладно! Пусть идет со мной!
Из деревни на снежную узкую дорогу мы вышли после обеда. Сначала мы шли молча и каждый думал о своем, переключал свои мозги на войну, покончив с госпиталем.
Я шел впереди, а он чуть сзади. Снежная дорога узкая, хоть и накатанная, но идти рядом по ней, просто места нет. Потом, когда дорога стала пошире, он поравнялся со мной и мы разговорились. Я рассказал ему о разведке, а от него узнал, что он служил во взводе связи и на фронт попал в сорок третьем.

– А чего ты вдруг заинтересовался разведкой? Переходи к нам и узнаёшь! Ты же сам сказал, что жизнь разведчика тебе нравиться.
– Нельзя! Товарищ гвардии капитан!
– Это почему же?
– Согласно предписанию я должен явиться в свою часть обратно.
– Боишься, небось? Пошлем письмо в твою дивизию, сообщим, что ты добровольцем желаешь воевать в разведке. Можем запросить подтверждение штаба армии и дело с концом.
– Нет, не разрешат! Скажут самовольство.
– Вижу, что ты так, сболтнул.
Попутчик мой смолк и некоторое время мы шли по дороге молча. Все было сказано и мне не хотелось попусту с ним говорить.
До большака по моим расчетам оставалось около трех километров. Если сделать чуть пошире шаг, то мы засветло можем дойти до ближайшей деревни.
Выйдя на большак, мы свернули в сторону фронта. Теперь дорога шла на подъем. Впереди виднелся снежный бугор, а справа и слева обычная унылая, зимняя местность. Перевалив через бугор, мы увидели среди снежных просторов темные контуры деревенских изб. Идти под горку было легко.
Серый день быстро клонился к концу. За поворотом дороги показались белые снежные крыши и печные, торчащие над ними, кирпичные трубы. Я пригляделся к верхушкам труб, снега в виде снежных шапок на них не было видно. В избах люди живут, топят печи и варят картошку.
Порывистый ветер метет вдоль дороги мелкую снежную пыль. До нас долетает запах теплого дыма и привкус кислых помоев. Снежная дорога и сугробы, стали заметно темнеть. Мы прошли мимо двух изб, подумывая, где бы нам лучше устоится на ночь. В глаза мне бросилось, что из соседней третьей избы над трубой поднимается легкий дымок горящей печки.
– Зайдем сюда! Здесь вроде печку топят! Может на сахар вареной картошки дадут.
– Горячего чайку попьем! – рассуждает вслух мой попутчик.
– Тоже мне водохлеб! В разведке брат чай не пьют. Там, кое-что покрепче хлещут!
Мы свернули с дороги, подошли по узкой снежной тропе к избе, поднялись на крыльцо и, толкнув скрипучую дверь ногами, вошли во внутрь избы.
В избе топилась русская печь. На стене в мутном зеркале отражалось веселое пламя. Хозяйка, пожилая женщина, лет сорока, сутулая и худая, суетилась у печки.
Когда мы вошли, она обернулась, обвела нас тяжелым и недовольным взглядом но ничего не сказала в ответ, когда мы поздоровались с ней, переступая порог и закрывая за собою дверь. В избе пахло кислыми очистками, угаром фитильной лампы, горьким запахом дыма и пересушенным грязным тряпьем, которое лежало на печке, и было заткнуто в небольшие печурки. На шестке печи стоял черный чугун, из него шел белый пар с запахом вареной картошки в мундире.

Когда ты много лет живешь на норме, впроголодь и забыл когда ты в последний раз ел досыта, запах вареной картошки улавливаешь ноздрей на ходу издалека.
Мы молча, сбросили на лавку мешки, огляделись по сторонам и углам, развязали и достали свои пожитки. Мы положили по куску колотого сахара на стол и скинули полушубки. Сахар лежал на столе, а мы сели на лавку и молча посмотрели на хозяйку. Куски сахара на темном фоне досчатого стола засверкали чистой своей серебристой белизной.
– Котелка два картошки она нам даст? – сказал сержант наклонившись ко мне и вопросительно посмотрел на хозяйку. Посмотрим, что эта старая карга скажет, когда обернется и увидит на столе два куска сахара, подумал я.
Хозяйка посмотрела на стол и на нас, потом молча поставила на стол большую ляменивую миску, обхватила чугун тряпицей, слила воду с него, подошла к столу и опрокинула содержимое в миску. Картошка с глухим стуком посыпалась в миску на дно. Вскоре над миской образовалась приличная горка.
Поставив чугун на шесток, она снова приблизилась к столу и заграбастав корявой рукой сахар, молча завернула его в тряпицу.
Увидев, что наше молчаливое согласие принято с двух сторон, мы сняли шапки и уселись к столу, поближе к картошке.
– Ешьте! – сказала она, отрезав нам по ломтю черного хлеба. Потом на стол поставила деревянную плошку с солью и перекрестившись опустилась на лавку в углу у стола. Посидев немного со сложенными на груди руками, она неторопливо встала, подошла к кухонному шкафчику, наклонилась над двумя стаканами и налила до краев мутную жидкость.
– Выпейте! Другого в доме нет ничего!
Мы сидели за столом, сдирали кожицу с горячих картошек, дули на пальцы, вдыхали горячий пар, обжигали себе губы и иногда и горло, когда застревала в нем картошка. Мы старались ее побыстрей проглотить, а она прилипала и жгла где-то внутри.
– Не торопитесь! Куды вам спешить?
Военные годы голодные. Особенно тяжко и холодно людям зимой. На дорогах метель и стужа, а тебе нужно пехом тащиться куда-то вперед.
Но вот на стол хозяйка поставила самовар.
– Я ж говорил на счет чаю!
– Давай, – давай! Хлебай! У нас в Москве любителей чая зовут московскими водохлебами.
– А вы капитан, что не будете?
– Я чаю не пью! Чаем не напьешься! Я вон холодной водицы хлебну! А ты сержант давай хлебай с блюдца, вприкуску!
После чая хозяйка показала нам на железную кровать, которая стояла в углу, у стены, напротив печки.
– Другой постели нету! На полу холодно! Из двери дует! На печке я сама!
Я посмотрел на голые железные прутья и доски. Матраса набитого соломой нигде не было видно. Хозяйка сбросила нам каждому с печи по подушке, от них шел кислый запах, и цвет был коровьего помета, навозный.

Война повсюду и везде наложила свою руку грязи и кислых запахов. Кровать была широкая. Я надел полушубок, сержант шинель и мы завалились на кровать, упершись, друг к другу спинами.
Утром, проглотив по стакану горячего чая, куску хлеба и пригоршни холодной картошки, мы вышли на улицу и зашагали к большаку. Снег поскрипывал под ногами. Идти было легко. Морозец хватал за нос и подбородок. Я опустил уши у шапки и сказал своему напарнику:
– Слушай сержант! Дальше тебе придется идти одному! Мне нужно вернуться в госпиталь! Ничего не поделаешь! Я забыл часы на нарах! Давай прощай, покедыва! Сержант пошел дальше, а я повернул в обратную сторону. Вскоре он скрылся за поворотом.
Никаких часов в госпитале я не оставлял. Мне пришла в голову мысль заехать с дороги в Москву. Я рассчитал и прикинул так мысленно:
– Через пару часов я доберусь на попутной машине до Смоленска. Машины, которые идут с грузом к фронту, попутчиков, как правило, не берут. А пустые, идущие на Смоленск, могут подхватить и подбросить.
В Смоленске я зарегистрирую у коменданта свое предписание, возьму билет на Москву и за одну ночь доеду до дома. Номер эвакогоспиталя в Смоленске и Москве комендатуры наверняка не знают.
Пройдя немного по шоссе, я остановил грузовую машину, сказал шоферу, что несколько суток не спал, что я лягу в кузове и чтобы он разбудил меня в Смоленске! Я сойду у вокзала. За проезд отблагодарю!
Машина по дороге останавливалась где-то под Леозно. Я действительно спал. Шофер, как мы договорились, разбудил меня у переезда, около вокзала. Я отдал ему последний кусок сахара и пачку махорки. Шофер был доволен, а я отправился на вокзал. Отметив документы у дежурного коменданта, я получил в кассе билет и пошел искать свой вагон. Мне можно сказать повезло. Минут через десять, как только я уселся на лавке в вагоне, поезд тронулся и я покатил к Москве. Но вот снаружи послышались крики, поезд сразу затормозил и мы кинулись на выход посмотреть, что там случилось.
Когда тронулся поезд, из вокзала стали выбегать солдаты и офицеры. Они бежали вдоль состава и вскакивали в вагоны на ходу. Поручни у входных дверей сильно обледенели. За них при посадке хватались руками и на поручнях нарос тонкий слой скользкого льда. Один капитан на ходу схватился за обледенелый поручень вагона и на руках соскользнул ногами под колеса вагона. Теперь он лежал на снегу и у него были отрезаны обе ноги. Куда и зачем он так торопился? Его оттащили от поезда и вагоны снова медленно тронулись.
Ноябрь сорок третьего, а кругом не порядок, неразбериха и толкотня. Предъявляй документ, в виде от руки написанной бумажки, говори куда надо, садись и поезжай. Простого дела не догадались сделать. Проставить пометку на предписании, куда тебе следует следовать. В сторону тыла или напрямую на фронт.

В дороге ходили по вагонам и проверяли документы. Но так, как у меня была отметка и билет на Москву, мне вернули все назад и поприветствовав, пошли по вагону дальше.
Ночью за окнами замелькали пригородные поезда. Я не счел нужным выходить на какой-то подмосковной платформе и пересаживаться на электричку, хотя мог это запросто сделать. У меня на руках был законный билет и заверенная печатью коменданта отметка о выдаче на Москву билета. Какой-нибудь проверяющий мог вполне меня задержать, отобрать документы и сказать, что у меня нет основания ехать в Москву и что у меня нет элементарной совести и чести. Я обманул Советскую власть, совершил дезертирство и подлежу наказанью теперь.
Выйдя на платформу Белорусского вокзала, я осмотрелся глазами кругом и в толпе сошедших с поезда подошел к железной решетке при выходе на площадь. Здесь в узком проходе стояли два милиционера и проверяли документы. Я не стал озираться по сторонам. Я спокойно в толпе пошел к этому узкому проходу, предъявил билет, подал документы и после минутной остановки вышел на площадь и огляделся кругом.
Все та же Москва, все те же люди, спешащие куда-то. Спустившись в метро, я доехал до центра, сделал пересадку и поехал на Комсомольскую площадь. Еще не рассвело, а я уже подходил к своему дому. Это был день 24-го декабря сорок третьего. Я впервые за долгие годы войны поднялся по деревянным ступенькам к знакомой мне двери, и нажав на кнопку звонка, за дверью услышал голос матери.
– Кто там?
– Свои!
Мать откинула толстый крючок, оставив дверь на цепочке, и приоткрыла дверь чтобы взглянуть. Я просунул руку, прикрыл дверь и откинул цепочку. Мать удивилась и сказала:
– Действительно свои! Я вошел в кухню, посмотрел на мать и сказал, улыбаясь:
– Не узнаете?
Мать вскрикнула, когда я с головы снял шапку ушанку.
Помню, как в сумерках перед работой к нам забежала Августа.
– Ой! – вскрикнула она, увидев меня, сидевшего за столом, повернулась и убежала на работу.
– Ну куда же ты? – обратилась к ней мать.
– Нет! Нет! Потом, вечером!
В комендатуре, которая находилась в здании школы для слепых детей на 1-ой Мещанке я получил регистрацию и разрешение получить продукты по аттестату. В магазине у дома с колонами, рядом с исполкомом района я получил на неделю продукты. Все следовало одно за другим без всякой задержки.
Кой кто и говорил, что в наше время к людям относились не гуманно. Но подумайте сами, в какой еще стране офицер мог уехать из госпиталя самовольно с заездом домой. Я наверно в самоволке был не один такой. Взять к примеру тех же немцев. Они бы такого офицера поставили к стенке. А когда я вернулся в свою часть, там знали по отметкам в моем предписании, что я проболтался в дороге целых шесть дней.

По прибытию в дивизию мне даже слова не сказали и не спросили, где я эти шесть дней пропадал. А вообще-то могли мне при выписке из госпиталя дать неделю отпуска перед возвращением на фронт. У немцев, как было нам известно, солдатам через каждые шесть месяцев пребывания на Восточном фронте полагался отпуск домой в Фатерлянд. Помню, как один немец ревел, когда мы его с отпускным билетом прихватили в траншее.
Из Москвы до Смоленска я доехал пассажирским поездом в плацкартном вагоне. Дальше на Леозно ходили только товарные поезда. Можно было добраться и на попутных машинах, но груженые машины обычно попутчиков не брали. На шоссе в ожидании пустой машины можно было простоять несколько дней.
Иду к начальнику станции и спрашиваю, где стоит состав на Леозно и когда будет отправка его.
– Там справа! На крайнем пути! Состав сейчас подадут! Пойдут пустые вагоны под погрузку металлолома, объяснил он подробно мне.
Выхожу из здания вокзала на широкую асфальтовую площадку. С одной страны стоят поезда, с другой вокзал весь в кирпичных заплатках. Видно не раз и не два налетала на него немецкая авиация. На платформе слоняется всякий народ. В основном тут военные и железнодорожники.
Где бы купить чего бы пожрать, соображаю я и подхожу к скучающему солдату.
– Слушай! Скажи, где тут у вас рынок или базар?
– Вон смотри чуть выше! Видишь бабы на снежном пригорке! Там они и торгуют пирогами с картошкой.
На склоне в сторону города действительно сидят нахохлившись бабы с корзинками. Бабы все толстые, от многих одежек, которые они таскают на себе. Среди них мирно толчется человек пять, солдат. Я только сейчас их рассмотрел. Они торговали.
У меня в грудном кармане гимнастерки лежало несколько червонцев и я двинул свои стопы в их сторону. Сойдя с платформы, я немного оступился, посмотрел под ноги, а когда поднял снова голову, то невольно остановился. Бабы почему-то сорвались с места, хватали свои корзины и махая руками побежали вверх на снежный бугор.
Я прислушался к небу, но гула немецких самолетов не услышал. Я осмотрел горизонт, но там никаких немецких самолетов не было. Чего же они вдруг сорвались с места и бросились поспешно бежать? Я взглянул еще раз на снежный склон и сразу все понял.
Сзади к зданию вокзала подошел воинский эшелон. Из открытых дверей товарных вагонов прыгали и бежали вдогонку за бабами солдаты. Солдаты были без винтовок. По-видимому это были маршевые роты, которых направляли на фронт.
Вот несколько солдат вырвались вперед из общей лавины, догнали отставших торговок и с хода, с лета ногами выбили несколько корзинок с едой.
Бешеный бег солдат сопровождался воем, свистом и ревом. Несколько баб полетели и плюхнулись в снег. Над бугром прокатился бабий визг и солдатский рев.

Хотя солдаты физически над бабами насилия не применяли. Некоторые из солдат даже бросали деньги на снег. Через пару минут вся хлынувшая ватага солдат уже неслась, улюлюкая с корзинами к своим вагонам.
Ни одна из торговок не сумела добраться до вершины снежной горы. Теперь они стояли в снегу, разинув рты и беспомощно опустив руки, как плети. Солдатская операция была проведена мгновенно. По-видимому в пути они отработали ее и досконально проверили. Вихрь ветра налетел на базар и базар в одно его дуновение сдуло. И все кругом стало серо и обыденно уныло.
– Беги скорей капитан! Паровоз к эшелону подали! Семафор уже открыли! – крикнул мне на ходу дежурный по станции. А я стоял и смотрел на снежный бугор, как зачарованный.
Нагоняю состав, который скрипя и рыдая, побрякивая накладными цепями, медленно раскачиваясь, набирает ход. Колеса начинают постукивать на стыках. Я прыгаю в пустой товарный вагон и прикрываю дверь, чтоб было от ветра и снега потише.
Всю ночь состав ползет, скрипит, гремит, трясется и временами сильно качается. Мне кажется, что он не только трясется и стучит на стыках, он ноет и стонет, как умирающий солдат. И еще мне кажется, что вагон катится в обратном направлении. Через некоторое время я отодвину в сторону дверь и увижу, что подъезжаю к Москве.
Я лежу на полу и дремлю под стук колес, под скрип разбитых вагонов. Я лежу на снежном полу и почему-то думаю, что стоит мне поднять голову и открыть глаза, как я сразу увижу, что паровоз прицепили не с той стороны, что я еду в Москву, а мне крайне необходимо следовать к Витебску.
Дверь в вагоне я прикрыл, чтоб не дуло и не наметало снега. В вагоне пусто. На полу слой снега перемешан с землей. Внутри темно и холодно. Хорошо, что еще мерзкий ветер не бьет тебе в спину.
К утру состав неожиданно замирает. Где мы стоим – понятия не имею! Так можно стоять день, два, или несколько дней.
Быстро вскакиваю на ноги, отодвигаю с усилием дверь, вываливаюсь на вытянутых руках наружу и смотрю вперед вдоль состава. Паровоз на месте. Стоит где нужно. Пускает пары.
Я сажусь в открытых дверях, свешиваю вниз ноги и закуриваю. Но вот ударяют тарелки, сцепные крюки и накидные цепи и металлический лязг и перезвон покатился назад вдоль состава. Мой вагон тоже дернулся, закряхтел, захныкал и задрожал. Сзади послышались монотонные удары и взвизги тормозных колодок и состав торопливо стал набирать скорость.
Сейчас вагоны накидными цепями не звенят и сами старчески не охают. Сейчас и люди стали не те, не то, что солдатские телячьи вагоны. В наше время все было проще.

Через несколько часов торопливой езды, снова послышались удары буферных тарелок и снова остановка. Гудки паровоза послышались далеко впереди. Видно его отцепили. Нужно вылезать – приехали!
По обе стороны насыпи валяются разбитые вагоны, видны свежие воронки на снегу. Это последний действующий разъезд перед линией фронта. Паровоз, давая гудки, обходит состав по другой колее. Пока пустые вагоны будут стоять под погрузкой, паровоз уйдет на перегон и там будет отстаиваться до готовности состава.
Спрыгиваю вниз из вагона, осматриваюсь вдоль состава кругом. С одной стороны к полотну подступает заснеженный лес. Что там с другой, не охота лезть под колеса.
Сейчас на перевалочной базе не видно ни солдат, ни машин. Пустые вагоны открытыми дверями смотрят на покореженную бомбежкой опушку леса. Я цепляю на ладонь свой пустой вещмешок и иду вдоль состава. Сходить с насыпи нет никакой охоты. Повсюду какие-то ямы, торчащие бревна и снежные бугры. Обхожу передний вагон и иду по шпалам вперед к переезду. Рельсы уже кончились, а шпалы остались лежать на земле под снегом.
Вот и проселочная дорога. Она идет поперек полотна. Под ногами твердая, мерзлая земля. Снежок слегка поскрипывает, обхожу стороной небольшое болото. Не знаю, специально организовали около болота разгрузочную площадку. Тут сам черт не разберет, где тут под снегом военная техника, а где бурелом. Возможно, все вышло само собой. Бомбили, бросали и попадали в болото? А может здесь, просто отстаиваются пустые вагоны? А перевалочная база где-то на отведенной в сторону ветке, в лесу?
Все дальше ухожу я от последнего перегона. Проселочная дорога вскоре скатывается на большак. Отсюда широкая, укатанная дорога через десяток километров приводит меня к опушке леса, где расположены армейские тылы.
Повсюду землянки, рубленные из неотесанных бревен сараи, склады и теплушки. Около срубов, телег и саней с поднятыми оглоблями, навесы для лошадей, повозки, набитые сеном. И все это опутано паутиной бесчисленных проводов. Из железных труб к вершинам высоких сосен и елей медленно поднимается сизый дымок. Солдаты в касках, надетых поверх зимних шапок, в шинелях и в полушубках толкутся вокруг. Тыловик зимой выглядит, как толстая баба со Смоленского базара. Одежек на нем, как будто он собрался бежать.

Около большого сугроба завалилась на бок тяжелая гаубица. С двух сторон под нее в снег подвели толстые бревна. Тракторов поблизости ее нет. Видать подергали, покричали около нее и бросили. Под размашистыми елями в стороне стоят зеленые ящики со снарядами. А здесь между стволов дерев на телефонном проводе, на морозе висит стиранное солдатское белье. Тут же рядом срубленная из свежей ели небольшая баня. Дальше походная кухня, – запах съестного воротит и без того голодную душу. Кругом в лесу стоит целая ватага нашей тыловой братии. Она напихана здесь, куда не посмотри. Многовато их здесь под елями прячется. В передней траншее на километр фронта всего с десяток солдат в окопах сидит. А тут их на квадратный Га по несколько сотен, не меньше. И всех их нужно кормить, и все они фронтовики, кляп им в глотку! Я иду по дороге уже целый час, и кругом стоит наша тыловая братия. Она напихана в лесу, куда не посмотри.
Дальше за лесом, где болтается на телефонном проводе солдатское белье, простирается открытое снежное поле. В поле не души и никакого движения. Широкая зимняя дорога закуталась в снег. Отсюда дальше на передовую идут пробитые солдатскими ногами и лошадиными упряжками верховые стежки. Проходя через наши тылы, я смотрел на фанерные указатели и знал примерно в каком направлении идти.
Через десяток километров я нахожу свои дивизионные тылы. В тылах я узнаю, где расположен наш полк.
Среди снежного поля там и тут торчат одинокие кусты. По бровке кустов занимают позиции наши артиллеристы. Далековато, однако, они стоят от передовой. Еще километра через три я буду в нашем полку.
Артиллеристы всегда основательно зарываются в землю. Им носить на себе шанцевый инструмент не нужно. Они его перевозят на конной тяге. У них под рукой есть двуручные пилы, топоры, ломы, кирки и большие саперные лопаты. Они могут истратить любое количество взрывчатки, чтобы вскрыть где нужно мерзлый слой любой толщины земли.
Войсковые тылы довольно пестрая и живая картина. Чего тут не увидишь? Все идет вразброд. Все возникает, и стоиться стихийно. Одна тыловая обозная команда пришла и расположилась, к ней прилепилась другая по соседству. Еще одна, с другой стороны. Это вроде базар. Вернее Московская Сухаревка. Здесь та же толкучка, сараи и амбары, кругом тыловая братия, куда не посмотри. Здесь рядом палатки медсанбата нашей дивизии с указателями на фанерках, написанные обслюнявленным химическим карандашом. И снова за этим лесом пустой снежный прогалок, ничейная полоса земли.
Узкая полевая дорога пробивается в глубоком снегу. Мимо назад уходят кусты и снежные залысины. Впереди темнеют и слегка зеленеют невысокие сосенки бора, в котором расположен наш гвардейский полк. Там находиться штаб полка. Туда мне предстоит явиться и доложить, что я прибыл. Захожу в землянку начальника штаба. Майор здоровается со мной и говорит:
– Побудь, где ни будь у своих до вечера! Командир полка сейчас в дивизии. Как только вернется, я ему доложу о тебе.
– Хорошо! Я буду в палатке у своего старшины. Там рядом располагается Пискарев с писарями, вы ему звякните, он передаст мне.
Сегодня 29-ое декабря сорок третьего года.
Нахожу палатку своего старшины. Небольшая старенькая в заплатках палатка на полметра врыта в снежную толщину. Она часто вздыхает и полошиться на ветру.
Старшина в сосняк, где расположен штаб полка, не полез. Он поставил палатку на открытом месте, накрыл ее сверху двумя простынями и пришил их через край к двухскатной крыше, а по бокам оставил куски. Пусть они на ветру полощутся. Палатку даже в хорошую оптику издали не разглядишь.
Сосняк немцами все время обстреливается. Бьют из орудий и минометов калибра восемьдесят двух.

А по голому полю, немцы не дураки, стрелять зря не будут. Ну и старшина у меня! За что он не возьмись, из всего выгоду сделает! На дно палатки и у входа положена зеленая хвоя. Железная труба из палатки не торчит. Лошадь и сани старшины стоят в тылах полка, где-то сзади.
Увидев меня, старшина изменился в лице, приветливо заулыбался и пригласил в свою обитель.
– Как в разведке дела? Чего нового? – спросил я его.
– В полк прислали нового командира полка. Говорят, что грамотный. Учился на курсах "Выстрел", фронтового опыта не имеет. Разведку поставил в охрану вокруг своего КП. Боится, что немцы могут здесь обойти. Есть в одном месте открытый фланг обороны. Рязанцев не захотел противиться несению охранной службы. Так вроде и тише и проще и ответственности никакой. Ребята на передний край совсем не ходят. Как вас отправили в госпиталь, так и пошла охранная работа! Ребята все грязные, как окопники ходят. По суткам торчат вокруг КП в снегу.
– А Федор Федорыч где?
– Федя наш в сосняке. У него конура отрыта в овраге под обрывом. Он все лежит на боку, не вылезает из нее на волю. Принесешь ему спиртного, он с утра до вечера и спит.
– Со встречей товарищ гвардии капитан положено выпить! Я сейчас организую по маленькой проглотить и нарежем сальца на закуску. Осталось немного, вот я и берегу.
– Это вам, это мне, а это Пети Хлебникову. Он у меня временно, как помощник. Валеев там, в тылах с лошадьми, а Петя здесь палатку сторожит, чтоб не сперли. Я каждый день бываю в отлучке. А у меня тут и то и се в палатке лежит. Он щас придет. Он пошел на кухню.
Петя держал кружки, а старшина наметанным глазом разливал спиртное. Петя как-то глубокой осенью провалился в замерзшее болото. Пробарахтался там всю ночь. Утром его ребята нашли и из болота вытащили. Потом по спине у него чирьи пошли. Он долго лечился в нашей полковой сан роте, а жил и кормился у старшины. Так и остался он временно у него помощником.
На следующий день меня никто не вызывал и не требовал. Мы сидели в палатке у старшины. Говорили с ним о том, о сем и о разведке.
К ночи из штаба полка прибежал связной солдат.
– Товарищ гвардии капитан! Вас начальник штаба к себе требует!
Я поднялся, надел шапку, запахнул полушубок, затянулся ремнем, вышел наружу и вместе с солдатом отправился в штаб к майору.
Начальник штаба поздоровался со мной и сказал: – Командир полка знает, что ты прибыл, он велел тебе передать, чтобы ты этой ночью дежурил на НП командира полка. Утром, когда рассветет, явишься ко мне сюда в блиндаж, я доложу ему, и он тебя примет.
– На кой черт мне эти приемы? С какой стати я всю ночь должен торчать на НП. Я ведь никакой-то там офицер по поручениям. Я не посыльной по штабу. Мне его приказ, как слону дробиной в задницу.

– Эти приемы и приемчики они привыкли делать в тылу. А здесь он разведчика захотел, как мальчишку, заставить вести себя с послушанием. От него ко мне может быть, только один приказ, заняться полковой разведкой и привести ее в надлежащий порядок. Он на фронте вторую неделю и решил боевого офицера на побегушки заткнуть.
– Знаешь, что капитан! Не кипятись! Не советую я тебе вставать тоже в позу. Он спрашивал о тебе. Я сказал, что ты опытный и боевой офицер. Не советую тебе с первого дня наживать себе недруга. Плюнь на все, отправляйся на НП и как следует, выспись. Там два телефониста сидят и один твой разведчик. Я бы не стал с ним спорить и лезть на рожон. Он может потом тебе отомстить. Каждый прибывший на фронт мнит себя полководцем. Потом оботрется, сбросит с себя важность, гениальность и всякую шелуху. Потерпи некоторое время. Может, еще будете друзьями.
– Ладно, майор! Спасибо тебе! Ты меня уговорил! Давайте связного, пойду на НП.
Связной, с которым я пришел к майору, повел меня на НП полка.
* * *
Глава 39 Возвращение в разведку
Текст главы набирал Аркадий Петрович@ga.ru
12.10.1979
05.10.1983 (правка)
Январь 1944
– – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
Возвращение в разведку. Встреча с Серегой.
– – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
1 января 1944 года.

Связной солдат довел меня до самого места.
– Вот, товарищ гвардии капитан, наш полковой НП. Здесь каждую ночь дежурят трое. Два телефониста и один разведчик.
– Этот курятник ты называешь полковым НП?
– Да, товарищ гвардии капитан. Так приказано называть. Командир полка приказали.

– Интересно! Ничего не скажешь! – и я со всех сторон обошел невысокий снежный бугор, торчащий над поверхностью земли. Сложен он был из согнутых жердей и соломы. Вроде, как корзина на морозе, облитая водой. Деревенские ребятишки что-то подобное из старых лукошек делали. На таких ледянках, обмазанных навозом и облитых водой, они зимой катались с горок.
Местами из стен НП проглядывали прутья и куски соломы. Сверху снежный бугор оброс коркой льда и был присыпан слоем пушистого снега. Если встать в полный рост около него этой хибары, то потолок окажется на уровне поясного ремня. Ни окон, ни отдушин, ни железной трубы от печки, ни смотровых отверстий, как на обычных полковых НП, здесь не было.
Одна небольшая дыра у земли (узкая входная щель виднелась у самой земли) – это входное отверстие было с боковой стороны. Она была завешана куском старой обтрепанной материи. Через нее можно было забраться вовнутрь.
Снежные дома эскимосов выглядели гораздо солиднее и больше, если судить по картинкам из старых журналов и книг.
И эту собачью конуру называют полковым наблюдательным пунктом! До чего же зажирел и завшивел 52 гвардейский полк!
Внутри этой будки можно было от силы разместиться троим. Как сюда воткнуть четвертого? Это задача, как ребус с картинками.
Если сунуть вовнутрь еще одного, то двоим из четверых придется сидеть на корточках. Лечь и протянуть ноги будет негде.
Не думает ли командир полка, что всю ночь снаружи здесь будет часовой и пялить глаза на снежные просторы. Хотя, задумано было, вероятно, именно так.
Кому нужна была такая из прутиков и соломы соломенная мышеловка? Около нее ни окопа, ни ячейки в земле, где бы мог наблюдатель присесть на случай обстрела. Изнутри вообще ничего не видно. И стоит этот шалаш в открытом поле, на ветру, на самом ходу.

Рядом в нескольких метрах мимо него проходит (утоптанная) тропинка (на передовую). Параллельно тропе лежит телефонный провод в снегу. Этим проводом роты связаны со штабом полка телефонной связью. У нас другой связи на фронте не было.
Когда во время обстрела обрывается связь, вдоль телефонной линии бежит линейный. Ночью они бегают, а днем ползают на животе. Потому что вдоль тропы немцы ведут постоянные (и методичные) обстрелы. Телефонистам кажется, что днем их немцы видят. Уж очень часто совпадают появление человека на тропе и обстрел. Вот и сейчас несколько снарядов брызнули снегом в разные стороны. Каждому кажется, что именно его подловили немцы (на бегу). Некоторые даже в бога начинают верить. Это, мол, им бог перстом указал на меня. Возможно, что эта дыра была слеплена и когда-то служила перевалочным пунктом для линейных связистов. Каждый из связистов отвечал за свой определенный участок связи. А эта хибара спасала их от непогоды, снега и ветра. В этой берлоге они сидели и ждали обрыва. Она была расположена около тропы на полпути от передовой. От штаба полка передовая сейчас находилась километрах в двух. (Когда солдат повыбивало в ротах, батальонных выпихнули в траншею, а штаб полка занял соответственно их места. Всё как бы подвинулось вперед, хотя названия были старые. С прибытием в полк нового командира (полка) эту ночлежку связистов переименовали в НП и посадили туда одного разведчика.
– Командир полка здесь бывал? – спросил я своего провожатого солдата.
– Нет, товарищ гвардии капитан, командира взвода разведки раза два сюда направляли.
– Так-так! Командир полка не видел ее своими глазами. А скажи, на передовую, в окопы ты его водил?
– Нет! Ни я, никто другой его не водил.

Немцы обстреливали проходящую мимо тропу довольно точно и часто. Залпы нескольких батарей чередовались и не утихали ни днем, ни ночью. Славяне привыкли к обстрелам и не обращали на них особого внимания. Где бегом, где трусцой они преодолевали двухкилометровую снежную равнину. Прямое попадание могло быть. Но где убережешься от него? (Оно может и в тылу тебя накрыть). Снаряд и в окоп может залететь. Я вспомнил сорок первый. Тогда немцы были сильны. Они не стреляли так нервно и остервенело. Почему, собственно, немцы сейчас ведут такой бешеный и беспорядочный обстрел? Нет никаких признаков, что мы предпримем атаку или перейдем в наступление. Где-то у них слабовато? Чего-то боятся нынче рыжие фрицы? Посмотрел я еще раз на кибитку (на эту снежную нору). Пол у нее находится на уровне земли. Никакого заглубления (ни на штык лопаты, ни на вершок ниже снежной корки). Ударит рядом один, другой снаряд и осколки проткнут ее навылет через обе забитые соломой стенки. Но что интересно, ни одной царапины или дырки снаружи (на стенках) этой душегубки я не обнаружил. Командир полка по этой тропе ни разу не ходил. (за время пребывания в полку он ни разу не был на передовой в стрелковых ротах). Прибыл на фронт и не знает, что делается на передовой. Какой дурак пойдет добровольно (на смерть) под огонь? Сидит под землей в блиндаже в четыре наката. Иногда звонит на НП – проверяет несение службы. Дежурный телефонист, не высовываясь наружу, докладывает ему, что противник находится на своих позициях и ведет по нашему расположению, переднему краю методичные обстрелы. Почему командир полка не вызвал саперов и не оборудовал полноценный НП? Не думаю, что от постоянного грохота (и обстрелов) он разума лишился (боится нос высунут из блиндажа). Возможно, он занят важными делами и готовит нанести по немцам внезапный и сокрушительный удар, когда в стрелковых ротах полка останется практически по пятнадцать человек на километр фронта. Здесь, на полпути от передовой он держит заслон из трех солдат (чтобы незамеченными не просочились немцы). Он боится, что немцы могут ночью (захватить) подойти к его блиндажу.

А меня он зачем послал сюда? Решил проверить, как я буду слушаться его? Не побоюсь ли я ночью сидеть в этой дыре из соломы и снега? Наверное, всю ночь буду выглядывать и дрожать от мысли, что может убить. Нам, разведчикам, привыкшим ко всему, даже во сне не мешают разрывы. Я могу завалиться и храпеть до утра, ели почувствую, что снаряды ложатся в двадцати метрах отсюда. Я на опыте, на собственной шкуре уверен, что прямое случайное попадание исключено. Я наметанным глазом сразу вижу, когда наступает опасность, а когда можно завалиться спать. Новичку, тому, конечно, кажется, что кругом всё горит, грохочет и небо темнеет. Наша передовая, как я видел по карте, проходит по краю обрыва. Там впереди, где кончается снежное поле, тянется узкая полоса больших елей и сосен. Между ними и нами – солдаты стрелки. Ниже, за обрывом в открытом поле – окопы и блиндажи немецкой пехоты. Чуть дальше – деревня Бондари. От нее остались два покосившихся разрушенных сарая и что-то вроде бани. Левее, вдоль обрыва, там, где кончаются позиции нашей пехоты, в лесу находится небольшая высота и шоссе. Там, на продолговатой высоте в лесу и за лесом – немецкие позиции. Наши стрелковые роты сидят лицом к обрыву, а слева у них на фланге позиции немцев. Немцы могут в любой момент нас обойти. Я осмотрелся вокруг и спросил связного: «Покажи-ка мне на местности, где находятся наши, а где за кустами немцы?» Он… показывает… Отпускаю связного и залезаю вовнутрь НП. Внутри снежной хибары сидят двое телефонистов. Горит коптилка. Помещение небольшое. Один телефонист лежит на полу, другой сидит в углу с привязанной к голове телефонной трубкой.
– Располагайтесь, товарищ капитан – говорит мне сидящий в углу с трубкой на шее. Скоро разведчик придет. Побежал получать еду. Он дежурит здесь третьи сутки. А мы вот по очереди у телефона сидим. Я на четвереньках проползаю дальше к стене и сажусь на подстилку из хвои.

Стены внутри обледенелые, потолок низкий. Сидишь на полу и… его задеваешь. Каморка маленькая. Надышали внутри, и со стужи здесь кажется тепло. Вскоре возле каморки захрустел снег под ногами и кто-то, отдернув лоскут занавески, молча полез вовнутрь, опираясь на автомат.
– Вот, товарищ капитан, пришел дежурный разведчик. Солдат с автоматом, не оборачиваясь, ногой задернул за собой висевшую материю, поставил в угол свой автомат, подул на пальцы и потер ладонями. Он посмотрел на меня и молча уселся.
– А разве у вас снаружи не ставят часового? – спросил я.
– А на кой он нужен? – ответил солдат, доставая кисет с махоркой.
– Нам и так слышно, если кто сюда подойдет. Снег скрипит под ногами. Ныне мороз, за версту слыхать, кто подойдет – мы сразу замечаем. Ладно, думаю я про себя. Хрен с вами. Не буду я вас в порядок приводить, пусть будет всё как есть. Прикинусь, что я мало понимаю. Заем мне открываться, кто я есть? Так они разговорчивее будут.
– А ты что ж, из полковых разведчиков будешь?
– Кто? Я-то? Ну да, а разве не видать? Вот, смотри капитан, перед тобой живой и настоящий разведчик. Тебе это что-нибудь говорит? А ты, наверное, штабист? Из новеньких на фронте, только что прибыл? Ты понимаешь, кто такой разведчик? Вон у телефонистов спроси! Пока я здесь, ты здесь лежи и ничего не бойся. Обстрела тоже не боись. Он бьет по тропе, а сюда не долетает. В нашей тесной лачуге мигает свет. У потолка небольшая дощечка, на ней корит обычная фронтовая бензиновая коптилка. Второй телефонист поднимается с пола, и все трое закуривают. В землянке не продохнешь. А им дым и смрад нипочем. Я молчу. Нужно терпеть. Ведь я решил помалкивать насчет себя и поэтому пока среди них я чужой. Я притягиваю ноги и опускаю голову на хвойную подстилку. Здесь по полу идет свежая струя из-под материи, висящей в проходе.
– Вот и отлично! – говорит разведчик.
– Я смотрю, вы отлично устроились. Скажи, капитан, ты из штабных или в стрелковые роты?

– Я из этих, которые пишут бумажки.
– Я сразу усек, что вы – ПНШ, учетом личного состава полка будете заниматься. Похоронные выписывать, наградные составлять.
– Скажите, а на передовой раньше не приходилось бывать?
– Ты про себя расскажи, видишь, человек с дороги. Отдохнуть надо. Первый день в полку, а ты допрос учинил – вмешался в разговор телефонист, сидящий в углу с телефонной трубкой на голове.
– Чего говорить! У нас, у разведчиков жизнь особая и совсем не простая. И солдат стал рассказывать, что во взводе, что говорит старшина, о чем толкуют ребята и какой из себя Рязанцев.
– А за языками приходилось ходить? – спрашиваю я.
– Нет, не ходим. Какие там языки! Самого хоть хватай за шкуру и тащи. В охране штаба полка стоим. Из снега по суткам не вылезаем. Передохнуть не дают. Старшина сегодня при раздаче жрачки во взводе сказывал. Говорит, старый начальник разведки из госпиталя вернулся. Тоже капитан, четыре звездочки, как у вас. Он, наверное, сейчас с майором за Новый год наливают. А вы вот сидите с солдатами в этой дыре. Капитан на фронте воюет давно. Говорят, на передке безвылазно с сорок первого года. Одни говорили, что злой и требовательный, другие толкуют, что справедливый и заботливый. Разве нашему брату солдату угодишь? Говорят, своих солдат в обиду не даст. Ребята говорят, всё – хана, отсидели в снегу, конец охране. Как отправили его в госпиталь, так разведку в охрану и запихнули. Целый месяц сидим… вокруг… торчим, как бездомные собаки. Обогреться, помыться и выспаться негде. А до этого, говорят, у разведчиков была приличная жизнь. Я посмотрел на него. У разведчика был потертый, замусоленный вид. Лицо молодое, но от грязи, от ветра и от душевного истощения сморщенное как у старухи.
– А ты сам давно в разведке? – спросил я.
– Целый месяц. Дружки мои, с которыми я вместе пришел в пехоту – кто убит, а кто с ранением в госпиталь отправлен.

– А я вот добровольцем пошел в разведчики, а попал в полковые охранники, вот и остался жив. Разве знаешь, куда повернет судьба и фортуна?
– А сам-то откуда?
– Я из Сибири, капитан, из Кемерово. Есть такое место в Сибири. А вы, капитан, при штабе полка будете служить? Встретимся когда вот так, вроде как знакомые.
– Не знаю, куда пошлют. Вот до утра доживем. Командир полка решит, где мое место будет.
– А что, немец по полю всегда так бьет?
– День и ночь молотит, спасу никакого нет. А что ему не бить! У него снарядов, считай, по паре сотен в день на каждое орудие. На него вся Европа работает. Что-то вы не курите, товарищ гвардии капитан? В полку, видать, с махоркой туго. Стесняетесь у солдат спросить на закрутку? Берите, не стесняйтесь! – и солдат протянул мне кисет. Я зачерпнул щепоть махорки, завернул в обрывок газеты и прикурил. Достав пачку «Беломора», я угостил их папиросами. Разговор обрывается как-то сам собой. Я достаю из планшета листок писчей бумаги, беру карандаш и начинаю писать письмо (в Москву). «Здравствуй дорогая Августа, я благополучно добрался до своей части…». Обычай – это, наверное, привычка людей? Как будто по дороге в глубоком тылу ходить опасно, а здесь, на фронте, вблизи передовой я снова в безопасности, как у Христа за пазухой. Часам к двум ночи все угомонились, устроились в тесноте и завалились спать. Один дежурный телефонист остался сидеть в углу на корточках. Ему нет места лечь и вытянуть ноги. Он сидит, клюет головой, склонив ее на колени. Он сидит в углу с закрытыми глазами, а мы трое лежим рядком на боку. Утром, повернувшись на спину, я на миг открываю глаза. Разведчика уже нет. В лачуге сидят два новых связиста. Они поздоровались со мной, когда я встал.
– А где мои ночные знакомые? – спросил я.
– Они, товарищ капитан, в расположение взвода ушли.
Я сижу на подстилке из хвои, достаю из кармана московские папиросы, угощаю связистов и закуриваю сам.

Так уж принято у нас на фронте. Сижу и прикидываю… Пойду к начальнику штаба… Разговаривает с командиром полка… Вылезаю из снежной лачуги и иду по тропе в тыл, к штабному блиндажу. Начальник штаба звонит на КП командира полка и после недолгого (?) молчания вспоминает обо мне.
– Поговори с ним сам! -… я, глядя на майора. Только не понял идею командира полка. На кой чёрт он послал меня на КП и почему он не настоял на этом. Он думал, вероятно, что я буду всю ночь не спать и ждать звонка, пока он меня вызовет. (Но вышла осечка).
Мне нужно две недели, сказал я майору, чтобы привести в должный вид своих солдат. Три дня на баню, неделю на учебу и пару дней на тренировку. Их нужно натаскать, ввести в режим, без этого их нельзя пускать на ночную работу. От несения охранной службы освободить. Майор согласился. Я покинул штаб и ушел к разведчикам. Дорога от штаба полка до взвода разведки короткая. Метров триста в сторону, и я спускаюсь в овраг. По твердой, утоптанной ногами дорожке приятно идти. Стежка проложена глубоко в снегу. Свежий снег чуть припорошил следы и скрипит под ногами. Берега у оврага крутые, высокие, метра два, а где и больше. В склонах оврага под замерзшим слоем земли прорыты лазейки. Это и есть расположение взвода разведки. Норы отрыты прямо в земле. От ветра и вьюги они прикрыты кусками материи. Если хочешь заползти в такую нору, нужно перед ней встать на колени, опереться руками в землю, принять горизонтальное положение и, двигаясь вперед головой, не промахнуться мимо норы. (У связистов на НП тесное логово, но в нем хоть можно спокойно сидеть). А тут чтобы выбраться наружу, нужно ложиться. Залезешь в нору, ляжешь на бок и упираешься локтем в потолок, а под боком у тебя получается подстилка из хвои.
– 09-
Перед глазами печурка, выкопанная в земле. Туда кладут дровишки и топят по черному. Потолок из промерзшего слоя земли, как бетонное перекрытие хорошего ДОТа. Разве мог немецкий солдат даже представить себе (на миг) что-нибудь подобное и такое? Разве мог бы он хоть один день продержаться в такой норе? Немцу сруб подавай, нары, набитые свежей соломой, железную печь с регулятором поддува и пол из толстых струганных досок, паек наших полковников и генералов. И если это сруб будет опущен глубоко в землю и накрыт сверху в четыре наката толстых бревен, то немец будет чувствовать себя как в хорошем ДОТе. А что говорить о сырой дыре в промерзлой земле? Если немца сунуть туда головой вперед, чтобы он заполз туда на брюхе, то потом к утру можешь за ноги вынимать его труп.
– Где Рязанцев? – спросил я незнакомого разведчика, стоявшего на посту.
– Вот! – и он показал мне на одну такую дыру. Когда я заполз туда, я увидел Рязанцева. Он лежал на спине, закинув руки за голову, и смотрел в потолок. Как будто он его изучал и видел впервые. Внутри горит небольшая коптилка. Я пододвигаюсь на локтях дальше, там, у стены горит огонек. Я толкаю своего подчиненного в бок, предполагая, что он спит. Старшина предупредил его, что я вернулся в полк и утром к нему на час явлюсь в овраг, в расположение. Я мог бы его не искать, не лезть в нору. Я мог приказать старшине вызвать его для разговора к себе. Но я знал, что он будет прятаться от меня и решил сам явиться к нему. Нужно подойти к человеку душевно и осторожно. Мало ли, что у него сейчас на душе. С одной стороны, он знает, что я прибыл, и с него свалится часть забот. И вместе с тем он неприятно сморщился, что медвежья зимняя спячка для него кончилась. Теперь придется не спать, а думать, где схватить языка. У меня было чувство такое, что я месяц бездельничал, отдохнул и пора приниматься за дело. У него, видно, желания возвращаться к деятельности разведки не было. Разведчики народ непростой. Иногда их сразу и не поймешь, а порой к ним и на вороных не подъедешь.
– Здорово, разведчик!
– Привет, капитан!
– Ну, что, на сухую будем говорить или пошлем за
– 10-
старшиной и разговор при встрече размочим? Я знал, что Федя от размочки не откажется.
– Что будем завтра делать? Я видел, во взводе у тебя новые люди есть.
– Да, человек десять новеньких есть, взяли из пехоты.
– Ну, что послать за старшиной или будем ждать, пока он сам прибудет?
– Нет, надо послать. Чего тянуть? Раз ты прибыл, нужно начинать всё дело сначала. Ты лежи, я сам пошлю. Он ногой оттопырил занавеску и крикнул: «Эй, кто там есть? Подойди сюда!» В дыре показалась голова часового.
– Растолкай кого-нибудь из ребят, пошли за старшиной, скажи, гвардии капитан его сюда требует.
– Ну, как жизнь? – спрашиваю я.
– Да что жизнь? Вот, сунули в охрану. Говорили, временно, а уже месяц сидим.
– Сегодня валяй, досыпай. А завтра сутра разведчики в охрану не пойдут. Я с начальником штаба договорился. А ты что будешь делать? Рязанцев замолчал и надолго задумался.
– Завтра сутра я приказал старшине провести физзарядку. Раздеть всех наголо до пояса и снегом натереть. После еды общее построение. Перед строем выступишь ты. Скажешь, что "овец пасти" они больше не будут. Начинается подготовка к нашим главным делам. Старшина там, в тылах присмотрел рубленную из бревен брошенную баньку. Нужно ночью послать туда ребят, разобрать ее, перевезти и до утра поставить ее здесь, в овраге. Старшина докладывает, что в ней железная бочка, труба и камни есть. Утром на следующий день после построения – баня парная для всех, смена белья с заменой рваного обмундирования. Вот, милый Федя, с этого и начнем. Баня, хоть и чужая, но, надеюсь, им и в голову не придет сунуться сюда. Тыловики на передовой искать ее не будут. Здесь часто стреляют. Старшине передай приказ – пусть для ребят поставит здесь две палатки. На все это дело я вам с ним даю три дня.
– 11-
Смотрю я на наших ребят и удивляюсь. Рожи у всех у них грязные, цветом какие-то сизые. Как вас…? Стыдно смотреть! Разведчики, гвардейцы! На разборку и перенос бани старшина забрал всех. Крышу взяли четверо и положили на сани. Бревна со стен брали по паре и уходили в овраг. Пока первая партия шла через лес и через поле к оврагу, вторая увозила на санях основание и пол бани. В овраге кипела работа. Постукивая топорами, разведчики переговаривались между собой:
– гвардии капитан наш старый из госпиталя прибыл. Как только явился, сразу завертелась работа. Чувствуется твердая рука. Тыловички завтра с веником попариться припрутся – вот они себе зады почешут! Ногтями поскребут. Глядь, на проволоке бельишко висит, а баньки нету! У нашего старшины глаз, как у сыча, острый и наметанный. Вот только твердого руководства, считай, не было. Гвардии капитан приехал, всё завертелось.
– Слушай! А он старый совсем?
– Сам ты старый. Он молодой. Ему двадцать три года. А старым мы его называем потому что он давно на фронте. Вон как Сенько – старый разведчик, а сам молодой.
– У тыловиков там саперная рота бьет баклуши (пролежала бока). Пусть им новую баню построит. Один из тех, кто был давно во взводе разведки, рассказывал молодым:
– я представляю, что завтра утром будет, когда явится капитан и старшина. Утром, ребятки, старшина объявит ранний подъем и общее построение. Я это точно знаю. Рязанцев что-то старшине намедни говорил. Так что, приготовьтесь, ребятки, место в строю занять без опоздания. И пошевеливайся, братва, гвардии капитан явится на зарядку.
– На какую зарядку? На улице тридцать. Что ты еще мелешь?
– Да, да! Попомни мои слова! Я тоже когда-то сомневался. Завтра сутра новая жизнь начнется, которой вы и не пробовали, соколики и птенчики мои. Про посты и про охрану забудьте. Посидели, как пешки, в снегу, развели вшей и блох, а теперь будя! Теперь за язычками будем ходить.
– 12-
– самой смерти костлявой в пасть будем глядеть. Сначала с вас капитан для порядку десять потов сгонит. Не тридцать градусов холода, а сорок будут африканской жарой. На собственной шкуре, родимые, почуете. Сутра подъем, зарядка до седьмого пота, растирание снежком, потом усиленный завтрак, каша с наваром и мясцом. Апосля парная баня и по сто пятьдесят каждому после бани. Сам лично старшина поднесет. Капитан приказал старшине на обед щи со свининой сварить так, чтоб с наваром, из квашеной капусты, со шкварками, как положено. Пальчики оближешь! Старшина вдребезги разобьется, а у интендантов и сала, и квашеной капусты на ручные часы наменяет. У него для такого случая запас всегда есть. Учитесь, чеграши! Вы теперь в разведке, а не во взводе охраны. В полковой разведке свои законы и порядки. Говорили, даже еврея Ёсю-парикмахера старшина из тылов дивизии приволок. Сидит у него в палатке, своего часа дожидается. Стричь, брить, тройным одеколоном каждому в харю брызгать будет! За все это расплатится старшина. У него валюта – (карманные, ручные часы и всякие браслеты от убитых ребят оставлены. Он их пускает в расход, когда нужно для всех, когда от капитана строгий приказ есть). Я слышал, две палатки здесь в овраге для нас поставят. А там землянки с нарами будем рыть. Недельки через две за языком начнем ходить. Не унывай, ребятки! Привыкли вы к грязной и свинской жизни. Теперь светлая жизнь наступает. Как женихи будете ходить. Капитан ваш вам все мозги поставит на место. А то вы совсем зажирели и завшивели. Противно смотреть! Старшина, вероятно, сам пустил слух, чтобы солдаты заранее мозги свои на дело настроили. В разведке нужно было сразу всё поломать и проститься со старым. В разведке нельзя жить и тянуть прошлое. Боевая работа разведчика опасная и тяжелая. Игру с немцами приходится вести на грани смерти, без риска и фортуны разведчику никак нельзя. Каждый человек должен обладать непоколебимой волей, присутствие духа и в самых безвыходных ситуациях иметь нужный настрой.
– 13-
Малейшее сомнение (в душе) или неверие (в своего командира) может привести к неудаче, и жизнь оборвется из-за пустяка. Здесь риск и ум, и сметливость, и хитрость, и все это держится на воле человека и на чуть-чуть. Бывали дела и случаи, когда свою ошибку и не заметишь. Утром в назначенный час старшина подал команду на подъем и общее построение. Для новичков это было новостью и вопросом. На фронте, и, пожалуйста – подъем, зарядка и построение. Никогда этого еще не было. Но в строй бежали все, и старые, и молодые. Опытные сержанты, не раз ходившие за языком, бежали впереди. Молодые сразу поняли, что в разведке что-то произошло. Старшина, сдвинув брови, ревел нынче сутра как бык. Он велел подравнять мыски и раскатистым басом подал команду «Смирно!». Подошел к лейтенанту Рязанцеву и доложил, козырнув. Рязанцев выступил вперед и подал команду «Вольно!». Он приказал всем стоящим в строю снять шинели, стеганки и гимнастерки, раздеться до голого пояса. У разведчиков глаза полезли на лоб. Старшина выставил вперед нижнюю челюсть, выкатил глаза, поправил… и в одно мгновение оказался без нательной рубахи. Волосатая его грудь мерно вздымалась. Среди молодых и худеньких ребят, стоящих в строю, промелькнуло сомнение. Но видя, что старшина сапогом, словно бык копытом, роет землю и поддевает снег, и что сержанты и старики без лишних раздумий обнажились до пояса, они тоже стали кидать свои шинели и белье на снег, в ноги. Старшина выпятил грудь и, глубоко дыша, стал пускать ноздрями струи белого пара. Старички знали, что хочет капитан. Они понимали, что нужно вдруг и сразу встряхнуться. Ой! Ой! Ой-ой-ой! – послышались возгласы новичков в строю. Старшина, как стадный бык, заревел на всю округу:
– Разведка, за мной! Никому не отставать! И, разбрызгивая снег огромными… сапожищами, набирая скорость, ринулся вперед.
– 14-
Взвод сорвался с места и под общий свист, крики и улюлюканье полетел за старшиной. Связисты, тянувшие провод, остановились и смотрели, разинув рты. Теперь по полковым проводам поползет анекдот, как однажды поутру при морозе в двадцать градусов полковые разведчики делали в голом виде зарядку. Старшина назад, в сосняк прибежал первым. Никто не смел его обогнать на ходу. Кто-то из новичков и попытался, но его одёрнули на ходу. Старшина должен быть впереди. Он отец родной. Старшина прибежал, потоптался, нагнулся, покрякивая, черпнул ладонями пушистый снег и стал натирать свою грудь. Растер шею снегом, руки и шею растер, Валеев подал ему полотенце. Валеев держал на руке стопку чистых портянок и весело улыбался, глядя на старшину. Солдаты тоже подбегали и растирались снегом, кидали друг в друга снежки. Потом подбегали к Валееву и хватали у него из рук чистые портянки.
– Ну вот, видать, дела наши тронулись – сказал я, подходя к старшине и к Рязанцеву.
– Теперь вам нужно только поддерживать порядок и бодрый дух у них. Рязанцев улыбался, а старшина посмотрел на меня как бы молчаливо спрашивая, может, по сто грамм всем налить? Я мотнул головой в знак согласия.
– Братия христианская! Бога угоднички! Соколики православные! По очереди подходи! Крещение на Руси! Причащаться будем! Капитан по сто пятьдесят разрешил. В овраге осталось два лагеря. Под обрывом в земле пустые норы и лазейки, а рядом палатки и рубленая баня, в которой можно жить и топить. Потом, как рассказывал солдат, был завтрак, баня, раздача белья, замена рваного обмундирования. Старшина для некоторых ребят достал даже новые валенки.
– 15-
Ребята, усталые и довольные, сидели на бревнах, переговаривались негромко и курили табак.
– Вам, товарищ гвардии капитан, ординарец нужен – басовито начал разговор старшина.
– У тебя на примете, наверное, есть такой паренек.
– Есть, конечно, небольшого роста, телосложением не дюж, но в руках силу имеет, смышленый и шустрый. В захват-группу ребята его не берут. Маленького, говорят, росточка. А в пехоту обратно жалко отправлять. Через неделю убьют. Я знаю, вы приказали скомплектовать боевые группы! В деле он не был, его в деле не знают. Он может остаться не при деле. Взял бы я его, да у меня есть ездовой, и Семенов сидит у меня после ранения. Трёх, сами знаете, на одну повозку не положено.
– Ладно, приводи. Погляжу на твоего племянника.
– Что вы, товарищ гвардии капитан, он мне никто! Просто парнишку жалко. Да и во взводе он недавно, прибыл без вас с пополнением.
– Ты же его сватаешь, вот я и говорю – племянник. Он что, из новеньких?
– Да, но вы его видели.
– Где?
– Вы с ним на НП дежурили. Он, правда, не знает, что вы тот самый капитан.
– Ну и старшина! Всё-то он знает!
– Должность такая, товарищ гвардии капитан.
– Ладно, веди своего подопечного. Мы сидели в палатке, поставленной вплотную к обрыву. Рязанцев был доволен. Он объяснил мне, что в случае обстрела осколки дальше пойдут и в случае чего можно укрыться под мерзлый грунт. Он даже разведчикам объявил, при плотном обстреле все уходят, как он выразился, в укрытие, под землю.
– А что, это ты хорошо сообразил! – сказал я и похлопал его по плечу.
– Всё правильно, Федя! Людей нужно беречь. В откидной полог палатки кто-то ткнулся, и в палатку вошел старшина. За ним показался мой ночной знакомый.
– Заходи! – сказал я, когда он из прохода меня увидел.
– Ну, что замялся? – промычал старшина.
– Товарищ гвардии капитан как отец родной, хочет тебя от смерти спасти. Если пойдешь в пехоту, жизни тебе там неделя. Гвардии капитан согласен взять тебя к себе ординарцем. Ну, чего молчишь? -… старшина.
– Как тебя зовут? – спросил я.
– Сергей.
– Фамилия?
– Курдюмов.
– Ну что ж, садись, Сергей, закуривай, будь как дома. Я посмотрел на Рязанцева, который лежал на боку, подмигнул ему и добавил:
– Мы с ним старые знакомые. Он мне на НП сказал: может, еще встретимся, капитан! Вот мы и встретились. Я, оказывается, не просто штабной а тот самый разведчик, про которого ты мне тогда говорил. Старшина толкует, чтобы я тебя взял к себе в ординарцы. Послать тебя в группу Сенько я не могу. Все группы подбирают сами ребята. Такой у нас порядок. Мне ординарец нужен. Если согласен – оставлю тебя при себе.
– Ну, чего молчишь? – ткнул его кулаком старшина.
– Я тоже не против. Видать, договорились.
– Какие обязанности будут у тебя – просветись у старшины. Он знает все тонкости этого дела. Ну, а всё другое будешь сам на ходу соображать. Завтра вступишь в новую должность. Старшина приведет твой внешний вид в порядок. Сергей Курдюмов с этого дня стал моим постоянным спутником. Ординарец в разведке – это не денщик у командира полка. Ординарец – это тот же разведчик, сообразительный и решительный, правая рука офицера, важное лицо во взводе, только в солдатском звании. Ему не нужно чистить сапоги своего начальника, в разведке это не принято. Мы ходили в нечищеных сапогах. Я его воспитанием не занимаюсь, но старшина ему иногда выговаривает. Старшина, как тот церковный дьяк – пожурит, погладит по волосам шершавой рукой: а, племянничек пришел! Крестный отец сегодня баньку топит. Велел за тобой послать. Сегодня офицеры и наша компания будут париться.
– А ты что, не мог с ребятами капитану передать?
– Никак нельзя! Понимать надо! Чего не положено, ребятам не надо знать. Чтобы лишних разговоров не было. Для них баня будет потом, когда в снабжении белье получим.
– Ты, Валеев, вечно что-то темнишь. Что тут особенного? На всех сразу белье не дают. Ладно, иди к старшине, он велел тебя к нему послать. Так прошел еще один день зимы.
* * *

– курсивом выделен зачеркнутый текст
Глава 40 Подготовка к ночному поиску
Текст главы набирал SSS Сергей@mail.ru
30.11.1981
30.09.1983 (правка)
Январь 1944
– – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
Первый выход на передовую. Обрыв перед Бондарями. Подготовка к ночному
поиску. Наступление. Взятие траншеи левее обрыва и выход к Бондарям.
- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
3 января 1944 года.

На следующий день мы с Рязанцевым отправились на передовую. Пройдя мимо полкового НП, где я провел первую ночь, мы свернули вправо и пошли (побежали) по узкой тропе к неширокой полосе леса, расположенной у края обрыва. Там, не доходя (нескольких) десятка метров, проходила передняя линия обороны стрелковой роты.
Не успели мы сделать и десятка шагов, как по тропе с нарастающим (визгом) гулом ударили немецкие снаряды. Ложиться в снег и ждать пока прекратится обстрел (огонь) было бесполезно. Так можно пролежать и дождаться снаряда (на открытом месте целый день). А куда деваться? Свернуть в сторону и бежать по глубокому снегу (долго не пробежишь). Заранее никогда не знаешь где ударит снаряд. Под разрыв снаряда можешь угодить в любом месте. Одно спасение, не сбегая с тропы прибавить шагу (и рывком) добраться до ротной траншеи (Мысли работают мгновенно). Повел глазом вправо и влево, оценил где ложатся разрывы снарядов и решение готово. Хватая ртом воздух, мы добежали до ротной траншеи и скатились на дно. Думали, что на дне траншеи в укрытии будет тише. А тут еще хуже. (Немец бил вдоль всей траншеи). Комья мерзлой земли летели повсюду. Снег и осколки брызгали кругом. Солдат стрелков в траншее не было. Солдаты народ проворный (смышленый), вырыли под мерзлым грунтом в передней стенке норы и залезли туда (каждый для себя лазейку и спрятались туда. Как хочешь её назови, нора, подбрустверное укрытие Копали солдаты для каждый для себя) траншее. Куда ни ткнись, все норы заняты. В глубине их солдатские (спины и) ноги торчат. Траншея стала широкая. Двое, не прижимаясь к стенкам, могут свободно пройти. Скаты траншеи во многих местах обрушены. Куда тут деваться, когда немец бьет беспрерывно. Разрывы следуют то сзади, то спереди. (Вдоль траншей летит) мерзлая земля. Каждый десятый (разрывов с недолетом и перелетом один, два) снаряд залетает в траншею. Вот он вскинулся там. Попробуй (сунься туда) теперь угадай где ударит следующий. – Ну Федь! И завел ты меня! Может где в другом месте потише? – Тут везде одинаков. – Давай… по траншее (куда-нибудь в кpaй) – Пойдем левый край, там траншея подходит ближе к обрыву. Мы делаем перебежку до самого конца траншеи влево. Тут действительно тихо. Дальше за деревьями находится прогалок, за прогалком на опушке леса немцы сидят. – У них там что, траншея, окопы или дзоты? – Что там не знаю, а из пулеметов все время бьет. – Видно боятся? (Чего-то немцы боятся?-А чего им бояться? У нас в ротах по пятнадцать) двадцать человек. – Ну знаешь! Они этого не знают и могут думать всякое, другое. (Может боятся что мы здесь готовим неожиданный удар) Мы сидим в самом конце траншеи. Немцы пускают изредка снаряды. Я прикрываю локтем лицо и глаза. (Немцы и сюда изредка пускают один, два снаряда. При каждом близком взрыве, я прикрываю локтем лицо и глаза) 2. Потом, когда они переносят огонь (куда то) в сторону, я ложусь грудью на бруствер, подымаю бинокль и смотрю на немецкие позиции (слева). Перед бруствером траншеи лежит не широкая полоса снежного поля. Мы выползаем с Рязанцевым на нее. Нам нужно заглянуть (взглянуть) вниз с обрыва и посмотреть что представляет собой передний (крутой) скат. Можно ли здесь спуститься ночью в открытое поле, лежащее внизу (под обрывом), там расположены немецкие блиндажи и стрелковые ячейки (передний край). Снежное поле представляет собой низину (где из-под земли сочится вода. Потому что). Немецкие землянки врыты только наполовину, накаты и стенки землянок (на метр) торчат над поверхностью земли. Снежное поле тянется дальше и несколько повышается в конце. На фоне темной опушки леса виден разбитый сарай и две, три обгоревшие голые трубы, печи и это деревня Бондари. Слева в стороне от Бондарей проходит (находится) большак, он лежит под снегом, и с обрыва его не видно. Но на карте он есть. Я еще раз (вытянув шею) заглядываю вниз (под обрыв). Кое-где из-под снега торчат изогнутые корни деревьев. В это время по краю обрыва ударили немецкие снаряды. Разрывы ложатся близко от нас. Мы тыкаем головы в снег (лежим на краю обрыва, уткнувши головы в снег. И от каждого нового удара дергаемся и прижимаемся к земле) Когда вот так попадаешь род обстрел, то каждый раз говоришь сам себе. – Ну все! Еще один снаряд, и от тебя останется мокрое место. А удары снова и снова сыпятся у самых ног, Ну все! Вот теперь:конец! Но гул подлетающих снарядов внезапно утихает, тело расслабляется, вроде можно и передохнуть. Кажется жив? – спрашиваешь сам себя. На этот раз пронесло! – решаю я и пытаюсь сообразить, что делать дальше. – Хватит лежать! Пошли капитан! – торопит меня Рязанцев. – А то не успеем! Накроет опять! – Куда не успеем? Под снаряды попасть? Они могут накрыть нас и здесь и там в траншее, и по дороге в овраг. – Пока в стрельбе перерыв, успеем проскочить! – настаивал он. Первый выход на передовую, мы совершили втроем. С нами был ординарец Серега Курдюмов. (Я отдал Сереге бинокль… развязать мешок, сует туда бинокль и затягивает шнурок). Мы с Рязанцевым одеты в полушубки. Поверх них чистые маскхалаты. У Сергея под маскхалатом надета солдатская шинель и ватная стеганка. Маскхалат представлял собой белую ситцевую рубаху со шнурком внизу и такие же белые на шнурке и широкие до пят шаровары. Сергея на плече висит автомат, обмотанный чистыми бинтами, и на спине под рубахой вещмешок (как у горбатого горб. Мы с Рязанцевым перед выходом на передовую автоматов с собой не брали, у нас на ремне под маскхалатом пистолеты. Мы полежали еще немного. Потом встали и не торопясь пошли назад). – Ну ладно, пошли! – медленно поднимаемся на ноги, идем обратно по тропе. (Когда попадаешь под хороший обстрел, одиночные снаряды вдоль тропы не страшны. Они действуют на нервы но от них не дрыгаешся, даже от близкого и хлесткого удара. На тропе каждый божий день убивало и ранило снующих туда и сюда солдат. Мы идем по тропе, завязав шапки ушанки вверх). Нужно все время прислушиваться. 3. и следить за гулом снарядов (за разрывами, чтобы не попасть под беглый обстрел на тропе). Одиночные разрывы (они), как правило, вскидываются далеко друг от друга. По гулу летящих снарядов на ходу определяешь куда они упадут (какие летят). Бьют дальнобойные (или батареи стоящие вблизи от передовой. Дальнобойные шире разбрасывают по сторонам свои снаряды). Мы возвращаемся (к себе) в овраг. Здесь стоит наша палатка. Здесь тоже иногда рвутся снаряды, но они ложатся вразброд. Вдарит один где-нибудь по краю оврага, палатка от удара вздрогнет, рванется под напором ударной волны, завизжат осколки, а нам ничего. Мы во время обстрела лежим в глубине, на боку. Дно палатки заглубили на метр в землю. Если снаряд разорвется рядом, осколки порвут палатку и пойдут над нами поверху, не задев никого. Это не раз проверено. У нас нет накатов над головой. Но снаряд может попасть (попадет в яму) и в углубление, где мы лежим (на хвойной подстилке, то он разорвет нас на куски. Палатка стоит в овраге третий день. Немец бьет по оврагу ежедневно. Но ни одной дыры в палатке нет.) – Ну что скажешь Федя? Где будем брать языка? – Оборона полка висит над обрывом. Другого места для поиска нет. В это время из штаба полка прибежал связной. Меня вызывают туда по срочному делу. Начальник штаба, увидев меня сказал, не здороваясь: – Командир полка интересуется. Когда ты с разведчиками пойдешь на передовую в роты. – Когда? – Вот именно, когда? – Я сейчас только что от туда! А, что он собственно хочет от меня? Зачем я с разведчиками туда должен идти (ходить)? Что они должны делать в (стрелковой) роте? – Как что? – Вот именно, что? Сидеть под огнем и солдат сторожить? Мы с Рязанцевым были сегодня в траншее. Бьет, головы не поднимешь. Никак не пойму, что хочет от меня командир полка? – Он сказал что офицеры штаба должны бывать в стрелковых ротах. – И что же я там должен делать? (Дежурить там?) Мы с Рязанцевым были там. – Не дежурить, а бывать ежедневно. – Из офицеров штаба полка в ротах бываю (только) я. Если он хочет, чтобы я там сидел – пишите приказ. Только делами разведки я не буду заниматься (в это время. Этот пункт в приказе по полку должен быть отражен). – Ладно! иди к себе! Я с командиром полка сам поговорю. Я смотрю на карту и вспоминаю свой первый выход. На переднем крае перед нашей траншеей находится не широкая полоса старых хвойных деревьев. Она (оставлена людьми)… по самому краю крутого обрыва. За обрывом внизу лежит снежное поле, там немецкие землянки, пулеметные гнезда и рубленные блиндажи. Полоса деревьев загораживает нам обзор обороны противника. Здесь растут высокие мощные ели. Они своими корнями удерживают край обрыва (от разрушения. Выруби деревья, корни сгниют и крутой обрыв сползет на паханое поле). Под обрывом проходит речушка. Зимой ее не видно, она засыпана снегом. (здесь вероятно находится заливной луг. Люди сберегли от вырубки эту зеленую гряду старых деревьев. Она, наверное, и сейчас удерживает гряду от сползания вниз.) 4. В Белоруссии (вообще) не много (просторных полей и) пахотной земля. Местность повсюду (сильно) пересеченная. Там отдельная роща, здесь кусты и высота, дальше овраг, снова бугор, ручей и болото. Выбьют наши немца с одного бугра, он перешел (перебежит) через болото и закрепился на другом (опять на) бугре. Так и воюем с бугра на бугор. Немцы везде на буграх, а мы снова (опять) торчим в низине. Часть деревьев по краю обрыва наши солдаты успели свалить. Некоторые деревья пострадали от фугасных снарядов и тоже завалились. Но обрубить сучья солдаты не успели. Как только деревья стали валиться, немцы открыли бешеный огонь. Котлованы для землянок были отрыты, а накаты не были возведены. Вот и нарыли себе солдаты норы и лазы. Копать траншею среди завала и корней деревьев трудно. Сидеть в открытых окопах вблизи стволов деревьев во время обстрелов тоже опасно. Ударит снаряд (по сучьям или в ствол дерева) по стволу и все осколки веером разлетаются вниз. Вот почему наша передняя траншея (была отрыта на открытом месте) проходит на некотором расстоянии от полосы деревьев. Не успели славяне при подходе к рубежу закопаться в землю, как немец обрушил на них всю мощь своих батарей. Он бил, не считая (и не жалея) снарядов. Края вертикальных стенок траншеи быстро сползли. Траншея теперь походила на широкую канаву. (на каждую роту из двадцати солдат были отрыты землянки. Перекрытия над ними не то по лени, не то из-за обстрелов/отсутствия леса поставили из жердей. При прямом попадании жерди не спасли бы людей. Весь расчет был на то, что русский солдат проявит смекалку. Солдаты быстро сообразили как и куда нужно прятаться во время обстрелов, вот они себе и отрыли норы под мерзлым грунтом) Метр промерзшей, звенящей как цемент, земли выдерживал над головой любой силы удары. (Зайдешь в траншею, а из-под земли в передней стене темнеют разного вида лазы и норы. Как гнезда ласточек в обрыве у реки. Солдат уткнется туда и из-под земли видны поджатые ноги и согнутые спины) Бывали случаи, остановится кто в траншее, глянет вперед, назад, вроде нет никого. Расставит ноги, расстегнет ширинку, а из-под земли тут же сыпятся ругательства. "Ты что, совсем ошалел? – Куда льешь (стерва)? Не видишь человеку в лицо брызги летят. Внизу щелкает затвор и обидчик шарахается в сторону. Дай бог пронесет! – думает пни дежурный телефонист, когда немец особенно усердно принимается обрабатывать наш передний край. Телефонист и молодой лейтенант командир стрелковой роты во время обстрелов находятся в землянке В землянке перекрытие жидкое, в один слой жердочек и земли. Можно было очистить от сучьев поваленные деревья, распилить на бревна и накатать их (поверх землянок). Но в завалы никто лезть не хочет. (Каждый из солдат имеет свое подземное укрытие. На лошаденке впряженной в сани бревна. Таскать из тыла сырые бревна никто не хотел. Так и остались телефонист и лейтенант сидеть в землянке под слоем тонких жердочек.) Снаряды на передовой носились по разному (поводу) в разное время и разного Калибра. Видать нервы у немцев шалили, боялись что мы вот-вот перейдем в наступление. И они с перепуга открывали бешеный огонь (по нашим позициям из немецких тылов начинала бить дальнобойная артиллерия). 5. (немцы били остервенело и по несколько часов подряд). Чего-то они страшно боялись. Вон наши! Не то чтоб из пушек, из винтовок никогда не стреляли. Немцы кончают бить и кругом наступает мертвая тишина. Вроде все убиты. А поди сунься! Немцы знали что мы будем сидеть и молчать. Вот этого самого молчания они и боялись. Помню осень сорок первого. Немцы тогда были (cовeршенно) другие. Вели себя солидно, с достоинством, так сказать. Не то что эти вшивые. И ни какой такой пальбы с перепугу и трескотни (вот так как сейчас) попусту у них (тогда) не было. В субботний день с обеда они прекращали (вообще) воевать. Играли в футбол, запускали фокстроты, танго на полную громкость, чтобы и нам было слыхать. В воскресение весь день отдыхали, мылись, брились, чесались, письма нахауэе писали. А утром в понедельник, поковыряв в зубах, (после сытной) ноль в ноль пускали на нас авиацию и били по нашим, позициям из артиллерии. Немецкая пехота ждала своего часа пока в нашей обороне не будет сделан прорыв. И тогда их инфантерия залезала в машины и следовала по дороге за танками. А что делается сейчас? На что похожи стали доблестные солдаты фюрера (в сорок четвертом году)? Никакого тебе танго и приятной легкой музыки. Ни суббот, ни воскресений, сплошная стрельба с рассвета до темна. Одно громыхание и дрожание за собственную шкуру. Малейшее движение у нас (с нашей стороны) и тут же несколько залпов на всякий (пожарный) случай с ихней стороны. Три дня ушло на приведение разведчиков в воинский вид и хозяйства в порядок. Теперь нам еще раз предстояло подобраться к обрыву и заглянуть за его край. Нам нужно знать что делается там внизу. Нам вероятно придется спуститься с обрыва и провести ночной поиск с целью захвата языка. НП командира полка, где я дежурил первую ночь, располагалось на полпути к переднему краю. Из него немцев не было видно. Из него можно было только передать, (если не перебита связь) что немцы по кустам обходят нашу пехоту и что наша пехота вот-вот драпанет (из передней траншеи). Такие случаи на фронте нередко бывали. Нам для ведения разведки нужен был хороший обзор. Разведчики не боятся, что немцы зайдут (по кустам) им в тыл. Одиночная подготовка разведчика была выше любого солдата пехотинца, не говоря о немцах. Если немцы (по ровному полю) зайдут нам в тыл, то им от туда живыми не выбраться. Окопаться в мерзлой земле они быстро не сумеют, полежат на снегу, постреляют, обморозят коленки, руки и уши, и уберутся к себе назад. (Наши сидят в окопах в земле, а немцы будут лежать поверх земли на снегу. В этом наше преимущество. Из узкой щели солдата быстро не выкуришь. А окопы, даже с применением взрывчатки за сутки не откопать. Метровую толщину мерзлой земли даже взрывчаткой не просто взять. Так что немцы могут только порхать по поверхности земли. И полежать в снегу часа два от силы.) Сегодня нам с Рязанцевым опять предстоит отправиться на передовую. Мы должны выбрать, удобное место, откуда можно все видеть и наблюдать. Одно дело по карте пальцем водить, а другое самому практически на местности своими глазами все решить (посмотреть все как следует, оценить и разобраться. – Ну что, Сергей1 Собирайся! На передовую надо идти (топать)! 6. – Я, товарищ гвардии капитан, давно к этому готов. Меня старшина заранее проинструктировал и всем необходимым снабдил. Я только вашего указания жду. Гранаты есть, диски патронами набиты, перевязочных пакета по четыре на брата, спирта немного для дезинфекции и прижигания ран, хлеб, сало, махорка из расчета на три дня. – Я смотрю, Сергей, ты в новых валенках щеголяешь? Старшина приодел? – Старшина выдал новые, что надо! Мы присели, перед выходом покурили. (Каждый раз при входе в зону обстрела все мы по своему молча переживаем свои надежды и сомнения/этот момент). – Ну ладно, пошли!- говорю я, и мы вылезаем из палатки и идем вдоль оврага. (потом) Не торопясь поднимаемся наверх, сворачиваем на тропу и идем по открытому полю. Здесь наверху холодный встречный ветер и мелкий снег ударяет в лицо. По твердой тропе бежит сыпучая пыль, под ногами скрипит налет колючего снега. (Из темноты палатки сразу на яркий свет в открытое поле, где), Небо и снег слепят (и режут с непривычки) глаза. На нас надеты белые маскхалаты, от них как от снега слепящая белизна. Мы натягиваем на головы откидные белые капюшоны и, не торопясь, шагаем по узкой тропе. Поравнявшись с полковым НП, я замедляю шаг и показываю варежкой в сторону снежной кибитки Оборачиваюсь и смотрю на Сергея. Он улыбается и качает головой. Помню, мол, как я здесь втирал всем очки (на счет полковой разведки). Узкая, притоптанная солдатскими ногами тропа пересекает снежное поле. Там впереди она свернет у одинокого куста, и обойдя бугорок, нырнет в стрелковую траншею. Если на снежное поле смотреть с высоты, то увидишь откуда и куда идут солдатские тропы. Здесь на снегу написано как на ладони. Мы пересекаем открытое поле и ускоряем свой шаг. До солдатской траншеи еще далеко, а в воздухе уже слышна шуршание снарядов. Через некоторое время 'до нас доходят приглушенные раскаты орудийных выстрелов. Мгновение и прикидываешь куда они полетят, где можно укрыться или упасть. Эти секунды до разрывов за многие годы привычно проверены. (В горле ком, по спине бегут мурашки, слышатся удары собственного сердца). Мы продолжаем трусцой бежать по тропе, а в десятке метров уже вскидывается земля (от первых разрывов поднимается снежная пыль, звук, пролетают осколки). Смотришь на брызги снежной пыли и (земли) и невольно замедляешь шаг в ожидании, что новый снаряд разорвется у тебя в ногах (или близко сбоку). Но вот на миг на тропе пропадают разрывы, мы срываемся сразу с места и кидаемся перебежкой вперед. В этот момент уже не замечаешь ничего вокруг. (Поставь вагон на колючей проволоки на твоем пути, и ты залетишь в него с разбега. Я много раз ловил себя на этой мысли). Нужно скорей добежать до солдатской траншеи. Какой там пейзаж и зимние картины! Тут только успевай ногами шевели (быстро работай. Все исчезает перед глазами когда кругом тебя летит мерзлая земля и рвутся снаряды). "Ты видел где поворот тропы за кустом?" Спроси любого, кто под обстрелом бежал на передок. Он будет странно удивлен этому вопросу. У человека первая мысль поскорей добежать до укрытия. Траншея, это тебе не открытое поле! Спрыгнул в траншею и можно дух перевести 7. (Надеешься что в траншее м будешь в безопасном месте. Но это не так. Здесь тоже громыхают и рвутся снаряды и мины. Напряжение и чувство опасности не пропадает). В середине траншеи рвутся снаряды. Вскинулся один и сейчас вслед за ним на подлете другой (еще десяток). И здесь деваться некуда. Это кажется, что в траншее их рвется меньше. От прямого попадания и здесь не спасешься. Где ускоренным шагом, а где почти бегом, мы проходим траншею до самого конца. Здесь снаряды падают реже. За изгибом траншеи сидят несколько солдат. Они дымят махоркой и поглядывают на нас. – Здорово братцы славяне! Как жизнь у вас тут идеть? – здоровается Сергей, нарочно искажая слово "Идет". – Здорово-здорово! А вы кто такие? – Мы оттудова! Хенде Хох понимаешь ферштейн? – и Сергей показывает в сторону немцев. Ни каких тебе тут паролей пропусков и отзывов (никто не говорит). – Ладно не смеши! Сразу видать свои! Мы присаживаемся (в траншее) и я спрашиваю солдат: – Немцы бьют сюда? – Да нет! Здесь жить можно! Вроде вторую неделю здесь сидим. Пока никого (из нас) не задело! Как прислали нас сюды четверых, так и сидим. Ни одного бог дал ни ранило, ни убило! Полдня мы провели на правом фланге полка, перекурили у ротной землянки, поговорили с командиром роты и пошли по траншее влево. Если на правом фланге в конце траншеи солдаты сидели открыто, то здесь на левом немецкие позиции были гораздо ближе. Солдаты переходили с места на место пригнутыми и угрюмыми, часто озирались и прятались под мерзлый грунт. – (Почему вы тут все) Чего вы все тут гнетесь, чего-то боитесь? – спросил я одного. – Щас вы тут, а потом вас нету. Вам чего Взяли и ушли – А нам нужно сидеть и терпеть обстрелы. Чуть (движение) заметит – открывает стрельбу. Спину разогнуть не дает. Чуть шевельнулся – с десяток снарядов пускает. – А что? Из винтовок тоже стреляет? – Стреляет из пулеметов, а из винтовок не бьет. У них здесь в саженях ста землянка в низине. Иногда они появляться около нее. Ночью из автоматов стреляют. Перед утром уйдут и целый день тихо. А потом опять автоматная стрельба. Значит пришли. -А где эта землянка находиться? -А вон на краю тех кустов. Канаву перейдешь, и сразу видать там будет. Я достаю из кармана коробку спичек, Вынимаю две спички и говорю солдату -На-ка головками вверх в снег воткни. Прицелься! По головкам наведи на землянку! Только сам не высовывайся! Солдат ставит спички и одним глазом прицеливается, отходит в сторону и говорит: – Валяй смотри! Я смотрю по створу спичек и говорю: – Давай Сергей в ротную землянку беги! Вызывай по телефону Сенько, пусть со своей группой сюда идет. Скажи, что с наступлением, темноты группа за передний край пойдет. Нужно пустую немецкую землянку занять. Пусть подготовит ребят и оружие. Мы подождем их здесь. Давай беги. Передашь по телефону и сразу сюда обратно. Серега убегает. Рязанцев смотрит за бруствер. Я присел в окопе на корточки и продолжаю разговор с солдатом. 8. – Говорят, вас немец здесь по кустам обошел? – Заходил один раз. – солдат привстал и показал мне варежкой в сторону кустов. – Вон до того снежного бугра доходил. Пострелял в нас с тылу и заметались славяне в траншее, думали что немец всех окружил. – А вы как же? Тоже драпанули? – Так получилось. Мы сразу не поняли, что он у нас в тылу. – Ну, а потом? – Потом сами вернулись. – А немец что? – Немец пострелял, пострелял и затих. Паника в роте была. Кто-то крикнул, что танки идут. Вот и струхнули. – Ну и что? Теперь всегда будет так? Немцы на бугор, а солдаты бегом из траншеи? – Это по первости было. А теперь (не знаю как) все будут сидеть. – Ну, а если танки пойдут? – А кто против танков с винтовками стоять будет? – Что? Опять драпанут? – А то как же! Об чем говорить? Удержи их попробуй! Это дело нашей артиллерии танки держать. А (они) артиллеристы хотят, чтобы мы их ружьями отбивали. Часа через два в траншее появился старший сержант Сенько со своей группой разведчиков. Я показал ему объект для захвата и поставил задачу. Федор Федрыч останется с вами и проведет операцию по захвату немецкого блиндажа. Сделать нужно все тихо. Как утверждает солдат, немцев в блиндаже сейчас нет. Займете блиндаж, организуете оборону. Из немецкой землянки днем не показываться. Пусть думают, что землянка пустая. Может они утром вернутся (наведаются) туда. Вот вам и язык. Надеюсь не промахнётесь. Ночью пришлю группу еще человек шесть (, пять), для прикрытия, а через пару дней все перекачюем туда. Мы с Серегой вернемся в овраг. До рассвета надо выспаться. Если будут у вас осложнения, доложите мне по телефону. Я сделал вид, что с землянкой дело решенное, пустяковое, что мне нужно выспаться, и что с задачей они сами справиться без меня. Ночью Рязанцев по телефону доложил, что немецкую землянку заняли без выстрела. -Это не землянка, а настоящий, рубленный блиндаж, перекрытие в четыре наката. Блиндаж с нарами, с соломой, с железной печкой и запасом дров, с деревянным полом, с толстой дощатой дверью на железных петлях, со стрелковыми ячейками кругом и с отхожим местом. Все сделано по правилам саперной немецкой науки, как надо. Я выставил охрану, а остальным отдыхать (ложиться спать). Утром немцы в блиндаж не явились (сюда не пойдут). Будем ждать следующего утра (ночи). Перед утром мы с Серегой перебрались в немецкий блиндаж. Прошли сутки. Немцы видно почувствовали, что в (ихнем) блиндаже кто-то есть. (Наши ребята днем ходить еще не пробовали. Но я подумал. Это не задача. Разведчики народ непоседливый, темноты дожидаться не станут. Махнут рукой и пойдут через открытое поле. Один пройдет, и другие пойдут. Когда немцы заметят, что мы в открытую ходим, снежная тропа уже пробита к блиндажу. 9. (Их окопы рядом в кустах. Стрелять из винтовок и пулеметов они побояться. Это для них самих опасно. Солдаты той и другой стороны не очень стремятся затевать перестрелку и получить в ответ пулеметный огонь с той стороны. Разумный немец понимает. Раз Иван сидит и молчит – лучше его не трогай. Так с первого дня между нами и немецкой инфантерией установилось полное понимание.) Мы знали, что немцы рядом в кустах. Солдаты их ходят сморкаются, надсадно кашляют (и от обжорства пердят). Нам слышен их приглушенный немецкий говор. Можем стрелять по (этим) звукам. Но я приказал не тревожить (не трогать их и не стрелять) немцев. (Они ценят наше молчание и постепенно привыкают к нашему соседству и сами молчат. А нам только этого и не хватает. Нам нужно все). Мы должны все видеть и слышать (все по возможности видеть и замечать). Мы до поры, до времени притаились (притихли и затаились, прикинулись простачками) ждем только случая, чтобы (нагадить им) схватить одного из них. Нам нужно взять языка. (Пусть привыкают!).
Шло время. Во взводе были новички из пополнения, с ними нужно было заниматься, и мы должны были от общей учебы в тылу перейти к действиям за передним краем (нашей обороны). Что говорить. Их нужно (было) научить почти всему. Кроме того, прежде чем пустить новичков (разведчиков) в ночной поиск их нужно подготовить, разработать подробный план действий. План должен быть во всех деталях проверен где-нибудь в тылу на снегу. Человек должен знать, как он будет действовать в реальных условиях. Каждую мелкую деталь, каждый момент разведчик должен проиграть (по минутам) и проверить на подходящей местности. Но как говорят, сколько не топчись (на снегу у себя) в тылу, от действительности это далеко (и больше похоже на учебное занятие/кинохронику о войне). Ждать больше нельзя. Начальство торопит. Нужно готовить ночной поиск. У меня в голове два плана (двух) операций. По первому варианту идея поиска такова: Старшина достает две пары вожжей, группа разведчиков ночью спускается вниз с обрыва. Группа проходит открытое снежное поле, где находиться немецкие отдельные окопы и блиндажи. Сплошной траншеи у немцев здесь нет. Они сидят небольшими группами в отдельных опорных пунктах. Поисковая группа проходит скрытно снежное поле и углубляется в лес. С опушки леса можно вести наблюдение. Потом они так же тихо возвращаются и докладывают обстановку. Но этот маршрут довольно опасный и, к сожалению, от риска не застрахован. Если группу в низине за обрывом обнаружат немцы, то ни один из (них) ребят назад не вернется. Подняться на обрыв (отступая) под огнем противника (почти) невозможно. Успех и провал имеют равные шансы. Группа должна пройти открытое поле, где нет ни кустов, ни оврагов, ни скрытых лощин. В открытом снегу можно залечь и отстреливаться. А долго ли продержишься? Группу в пять (шесть) человек через час расстреляют (в упор). 10. Ситуация двоякая (довольно сложная). А начальство требует свое (выговаривает по телефону и шлет приказы). Утром я получаю приказ. (Вот один из них) Приказание по разведке 02 штаба 17 гв.стр.духовщинской краснознаменной дивизии. НП 0,5 км. Южнее Бояры-Клевны 4.1.44 г. карта 1:50.868. Противник подразделениями 413 пп и 301 пп. 206 пд обороняется на pyбеже Фолкевичи южнее д.Бондари, Лососина, овраг в 5-ти км. южнее Заболотинки. С целью уточнения группировки противника, его огневой системы и намерений КОМАВДИР ДИВИЗИИ ПРИКАЗАЛ.. 1. Командирам частей и отдельных подразделений вести усиленную разведку силами взводов пеших разведчиков и захватить контрольных пленных и доку менты: 52гв.сп в ночь с 6-го на 7-е января 44 г. в районе обрыва юго-восточнее д. Бондари. 2. Командирам полков 52 и 48 немедленно приступить к оборудованию наблюдательных пунктов до командира роты включительно. Оборудование НП закончить к исходу дня (5.1.44 г. На НП иметь блиндажи с перекрытием не менее 4-х накатов. К 12.00 6ЧГ.44 г. представить полную схему НП и доложить о принятых мерах по организации ночного поиска. В дни плохой видимости и в ночное время выслать группы разведчиков для выявления действий противника в ближайшей глубине о бороны противника. На наблюдательных пунктах установить круглосуточное дежурство офицеров штаба. За работой НП установить строгий контроль. Начальнику 2-го отделения штадива организовать на НП КСД круглосуточное наблюдение. 6. Разведдонесения представлять ежедневно к 12.00. О результатах работы разведгрупп докладывать к 7-ми 00 в указанные сроки. О принятых мерах и об исполнении донести 20:00 6.1.44 г. Начальник штаба 17 гв. СДКД гвардии полковник /Карака/ Начальник 2-го отд. штадива гвардии майор /Васильев/ отпёч. 5 экз. экз. 1 в дело экз.№2-5 по частям. Вот так. Все это время наша жизнь прошла под снарядами. Пришел приказ в ночь на 7-го на 8-е взять языка, выложи или умри! С обрыва ребята сойдут (незаметно и тихо). По полю пройдут, наследят на снегу. А потом что? Надо пойти проверить какие следы остаются, в открытом поле. – Сергей! Надевай маскхалат! Пойдем, пройдемся по полю! Мы выходим из палатки на свежий воздух. Пахнет хвоей. Под догами мелкий скрипучий снег лежит. С неба сыплется едва различимая белая пороша. Ее чувствуешь лицом. Она холодит нас, губы, сползает по щекам. Вот так наша жизнь. Сегодня ты живой осязаешь и чувствуешь метель. 11. А завтра тебя скинут вниз с обрыва и философия твоя (кончится раз и навсегда). Я посылаю Сергея вперед, поперек снежного поля. А сам смотрю за когда он исчезнет в снежной дымке (тумане), изучаю его следы и иду вслед за ним. Я останавливаюсь и смотрю на облака. Небо серое, мглистое, по небу бегут черные (темные) прогалины неба. Мне нужно забыть очертания фигуры Сергея. Сейчас он пойдет в другом направлении. Интересно, на каком расстоянии я потеряю его из вида. Мы проделываем на снегу разные петли. Я закрываю глаза, потом открываю их и пытаюсь за несколько секунд отыскать его на фоне ночного снега. Я гоняю Сергея по полю. Он идет, то медленного лениво подвигается рысцой. Через некоторое время мы возвращаемся к себе в палатку. – Вот что Сергей! Даю тебе важное поручение. Пойдешь по тропе в стрелковую роту и по пути свернешь с тропы и наследишь поперек. Пересечешь тропу поперек в нескольких местах. Ну, скажем раза два, три не больше, В одном месте пройдешь обратно по своим следам. А в остальных случаях оставишь за собой одиночный след. Вобщем, нужна реальная картина, как будто в поперек тропы с переднего края по снежному полю прошли люди и углубились к нам в тыл. Посмотрим, что скажут разведчики, когда увидят поперек тропы свежие следы. Ты вернешься сюда. Я позвоню Рязанцеву, он пошлет двоих и еще нескольких ребят сюда в овраг. Я опрошу по очереди каждого. Интересно, что скажут они, когда придут сюда. Нужен эксперимент и вещественные доказательства» Они сами убедятся, что на следы никто не обращает внимания. Сергей все сделал, как я сказал. Вернувшись в палатку, он нарисовал мне схему своих следов поперек тропы в глазомерном масштабе. И вот результаты. Ни один из разведчиков не обратил внимания на следы. Никто никогда не изучает, какие следы пересекают дороги и тропы, по которым ходят солдаты. Старшина к их приходу истопил по черному баню. Перед делом нужно попариться. На кой им хрен смотреть на какие-то следы. Каждый вшивый думает только про баню. И я подумал. Сколько всяких разных одиноких следов пересекают наши пути, дороги и тропы. И никто никогда не обращает на них внимания. Каждый занят своими мыслями, когда топает на передовую или в тыл. Может солдат решил спрямить свой путь. Может телефонисты на проводе обрыв искали. Зачем вдруг солдат полезет по колено в снег. А может он свернул по надобности. Солдат теперь культурный пошел, посередь дороги не будет безобразничать. Еще один момент уловил я, рассуждая о следах поперек тропы. Немец приучил наших солдат перебежками (миновать)… открытые места. Мины и снаряды подгоняют солдата. И солдатики как заводные бегали и носились рысью по тропе. А почему бы и нам не подстегнуть немцев. Снарядов и мин нам для этого не дадут. А вот станковый пулемет мы можем достать и поставить. Пусть немцы тоже не разевают варежки (рты). Жужжание и чириканье пуль действует не хуже снарядов на нервы. Я пулеметчик. Знаю это хорошо. Вот собственно и весь в деталях план ночного поиска. Разведчики должны скрытно преодолеть снежную низину, добраться до леса, организовать наблюдение. В лесу можно будет поставить обшитую белыми простынями палатку. В палатке можно отдохнуть и из нее выходить в ночной поиск на облаву немецких зевак. 12. Bсe протоптанные в лесу тропинки следует заминировать. Немцы могут случайно наткнуться на них. Места, где будут стоять мины нужно обозначить ветками. При возвращении к палатке люди их должны переступать или обходить. Здесь всплывает еще один вопрос (момент). Прежде чем отправить людей за обрыв, нужно проверить и научить обращаться с минами. Всякое бывает. Может кто с ними и обращаться не может. Теперь я думаю уже о другом. Не лучше, ли вниз с обрыва вместо группы из шести послать всего двоих. Нет ни какого резона рисковать сразу шестью. Если погибнут все шесть, то отправить новую группу будет почти невозможно. В поиск идут добровольцы. Кто после гибели шести снова туда пойдет. А если вниз пойдут всего двое, то пройти им до леса будет легко. Им и задачу поставить надо, чтобы пройти туда и (назад) обратно. Я, например, не могу приказать человеку, иди и умри через десять минут. Там где прошел один, пройдут и другие. Тут психология важна. Потом можно собрать и десять человек, и спокойно спуститься вниз. (Это командир полка может сунуть сотню солдат под пули спокойно). Разведка это добровольное и тонкое дело. В разведку ходят добровольцы, без всякого принуждения. В плане на ночной поиск должны быть предусмотрены все неожиданности и мелочи. Риск допускается только при личной неряшливости. И так решено. Вниз пойдут только двое. Но и этим двоим тоже нужны гарантии, что они вернуться живыми. Кто будут эти двое первые? Мысленно прикидываю, перебираю в памяти лица ребят. Командир полка сказал бы так: – Пусть оставят себе последнюю пулю! Интересно? Кто после этих слов вниз пойдет добровольно? Сам бы командир полка не стал бы стреляться. Он поднял бы лапы вверх, коснись его это дело. Ему важно вовремя вставить красное слово, А что будет потом, ему на наплевать. Нам было известно, что те, кто побывал в плену у немцев рассматривались как дезертиры и возвращались обратно с заданием немцев (отправленные с тайным заданием обратно к нам). Война это не только красивые слова, лихие эпизоды, отважные налеты. Это обыкновенная солдатская жизнь, человеческие страдания, тяжести и лишения, окрики и горькие обиды, смерть на каждом шагу, и ни каких тебё, ни почестей, ни радостей, ни наград. Это, если хотите. Короткая солдатская жизнь, это кровавая бойня на которую пошли простые русские люди. Спустившись с обрыва, разведчики возьмут по компасу азимут и наметит себе ориентир. Поглядывая на ориeнтир и нa лежащую перед ними местность, чтобы случайно не напороться на немцев, они перейдут снежное поле и углубляться в лес. Посмотрят, что находиться за лесом и на следующую ночь вернутся назад. Никаких активных действий, никаких выпадов и стрельбы в сторону немцев. Только наблюдение и скрытое передвижение. Обратный путь они пройдут быстрей. Азимут и ориентир в мозгах держать не надо. (Обратно спокойно идешь по своим следам). Чувствуя близость противника солдат идет обычно опасливо, часто оглядывается, при случайном выстреле вздрагивает и приседает, передвигается вперед, переступает осторожно и как правило сутулиться. Такую опасливую фигуру сразу видно издалека. Разведчик там внизу должен идти уверенно, спокойно, как у себя дома. 13. Вот, собственно, (какой план) и все, что торчит у меня в голове. Теперь посмотрим, как все это можно осуществить во время ночного поиска. Для того, чтобы хорошо знать оборону противника, нужно послать вниз с обрыва несколько мелких пассивных поисковых групп. Их можно направить по разным маршрутам. И чем они будут мельче, тем подойти к немцам им будет легче. Всем известно давно, что тихо пройти в тыл к немцам легче, чем с передовой из-под проволоки и из-под носа у пулеметчиков брать языка. В первом случае разведке нужно лишь пройти передний край немцев и углубиться в тыл. Из десяти идущих к немцам в тыл как правило все десять воз вращаются. Заранее готовятся несколько проходов. Выбирается один проход, когда идешь туда. При возвращении обратно пользуешься другим. Это в целях предосторожности, на случай засады. А взять второй случай, когда нужно взять языка из передней траншеи немцев Из десяти не всегда остаются живыми двое, трое. В тыл к противнику ребята охотно идут. А за языком идти в переднюю траншею иногда отказываются (по разным причинам идти). Вот простая арифметика при выходе в ночной поиск. При выходе на захват языка у многих ребят появляются болезни. У одного появляется куриная слепота. У другого за два часа до выхода вдруг случается расстройство желудка, он часто начинает бегать и все проходит вполне натурально. У третьего начинается нервное дерганье лица. У четвертого судороги ног. У этого кашель взахлеб и он покрывается потом. Но стоит кому из них сказать, что ты сегодня остаешься и не пойдешь, иди отдохни, пойдешь в другой раз с той группой, как (у него) недомогание тут же проходит. Все натурально! Не то, чтобы он притворялся, на нервной почве это все. Лейтенант Рязанцев перед строем стоит, у него язык заплетается, как будто он конфетку сосет. – У тебя что во рту? – спрашиваю я его. – У меня ничего! Тебе показалось! Может и показалось, но вижу что он не в себе. На верную смерть должен идти, вот и заикается. В это время из строя выходит высокого роста солдат и объявляет при всех:- Я сегодня идти не могу! Ничего не получиться! У меня в душе что-то оборвалось! Нет бы подойти одному и сказать без лишних свидетелей. А он взял и ляпнул при всех. Что я ему должен перед всем строем ответить? А что, собственно, лучше? – думаю я. Вот так при всех честно заявить, или скрыть, затаиться и потом увильнуть во время операции. За ним вышел из строя еще один. Молчит, весь напрягся, покраснел, хочет что-то сказать, а выдавить слова не может. Вот вам и групповой отказ! Считай, что выход на задачу сегодня сорван. А мне как быть? Как перед начальством держать доклад? Как я оправдываться буду? -Что, что? – скажет мне командир полка. -Ты у меня смотри! Опять у тебя дрожь в коленках? Иди и приказ выполняй! Я, конечно, могу принудительно послать на поиск ребят. Есть у нас группа старых, испытанных разведчиков. Но я их берегу для подходящего случая, когда есть верный шанс взять языка и без потерь вернуться обратно, когда 14. нужно применить тонкое умение и собачий нюх, так сказать. Они тоже видят, что сегодня будут большие потери. Очертя голову в исступлении на рожон никто из них не полезет. Нет никаких гарантий живым вернуться назад. Они понимают, что от меня это формально требуют. Написали приказ по разведке и к 7-ми 00 другого дня о результатах разведки доложить. Часто такие приказные выходы заканчиваются обнаружением немцами наших групп. Начинается такая бешенная трескотня. Артиллерия немцев начинает бить из всех батарей по ближним и дальним позициям, наворочает столько, не опомнишься потом дня два. Тот же командир полка потребует от меня выяснить может немцы в наступление на нашем участке перешли. -Немцы сидят на месте! – докладываю я. Полковая разведка попала под огонь! (Наверно) Есть большие потери! (Немецкий отчаянный грохот меняет мнение у командира полка) Может завтра новую группу послать? – спрашиваю я. – Ну тебя с твоей разведкой к чертовой матери! Тут чуть блиндаж не разнесло и не выбило мозги! Бывает и так, когда разведчики вообще не хотят говорить всей правды. Группа вместо ночного поиска ложиться где-нибудь на подходе к немцам в снег. Ляжет так, чтобы пули не достали. Потом кто-нибудь кашлянет или (пернет) сделает выстрел, ну и пошла стрельба с немецкой стороны. А бывает и так: лягут в нейтральной – полосе, где в низинке. Проходит день, два, а группа не возвращается назад. Думай что хочешь. Вместо ночного поиска они двое суток в кустах, на снегу пролежали. Начальству докладывают, что группа не вернулась. Начальство думает, что она погибла. А они с пустыми руками на третьи сутки возвращатся назад. Говорят, лежали под огнем. Пойди их проверь. Кто из начальства полезет по их следам под немецкую проволоку. А стрельба на передовой все время стоит. Может и правда пулеметным огнем к земле их немцы прижали. Я однажды двое суток на спине лежал. Бьет под кромку снега шевельнуться не дает. Не то, чтобы на бок повернуться. Чудесные ребятки (собираются и) служат в полковых разведках. У них богатая фантазия и исключительно тонкое на немцев чутье. Из них никого глоткой и руганью, и медалью не прошибешь. К ним нужно иметь душевный подход (проявлять) отеческую заботу и справедливость во всех делах. А если дело пойдет на крик, на обман и лицемерие – считай, что в разведке плохие будут дела. – Сергей! Сходи в баню! Пригласи Сенченкова! Скажи, чтоб пришел! Посоветоваться надо! – Я товарищ гвардии капитан отселева крикну! – Нет Сергей! Ты дорогой сам туда сходи! Пригласи с уважением, чтоб другие видели! Сходи! Сходи! Не ленись! Ты брат парень шустрый на ходу и неленивый! Я остался один, почесал затылок и опять задумался. Начальство в приказе требует, чтобы разведка пошла под обрыв. И я и ребята знают, что от туда живым не вернешься. Вон в роте дивизионной разведки, именуемой 3 ОГРР /3-я Отдельная, гвардейская, раэведрота. 15. по приказу штаба дивизии в ночь на 30.12.43 г. выслать в тыл противника, радиофицированную разведгруппу с задачей вскрыть глубину обороны противника, характер его оборонительных сооружений восточнее и юго-восточнее Витебска, наличия и места расположения резервов противника, захвата контрольных пленных, с выходом с ними в район своих частей. Что получилось? Группа, имея радию, вышла, как указано в приказе в ночь на 30-ое, как положено. Но не доходя до передовой группа повернула обратно, отошла в свой тыл километров на пятнадцать, расположилась в лесу и стала передавать данные о противнике. В назначенный срок, через пять дней группа вернулась в расположение дивизии. Некоторых представили к медалям, а одного парня взяли и обошли. Он по пьянке возьми да и скажи. Скандал был невероятный. Командира роты сняли с занимаемой должности, перевели в роту охраны. Теперь он был командиром роты автоматчиков. В разведку ему не надо ходить и за работу разведчиков ответственности никакой. Вскоре вернулся Сергей и вслед за ним в палатку зашел Сенченков. Он внимательно все выслушал и во многом со мной согласился. На следующую ночь нам предстояло вместе с ним проиграть весь вариант на снегу у себя в тылу. Нужна была подходящая местность. Утром после кормежки мы должны были отправиться искать ее. В эту ночь, когда разведчики мылись в бане, в блиндаже на передке случилось непредвиденное (происшествие). Два разведчика, которых оставили для охраны блиндажа, стояли снаружи и наблюдали за немцами. Мина, прилетевшая сверху, тихо хряпнула и ранила сразу двоих. При очередной проверки связи блиндаж перестал отвечать. На линию послали связиста. Он и доложил, что разведчики ранены и самостоятельно двигаться не могут. Я велел Сергею послать санитаров, чтобы вынести их. – А мы с тобой пойдем посмотрим что делается там впереди. Рязанцев в бане мокрый сидит. Нам с тобой, как сухие мы, придется идти. Возьмем с собой Сенченкова, пусть с нами идет. – Пошли! Мы идем по тропе, до утра еще далеко. Тропа узкая и глубокая. Солдаты ходят по ней как по лыжне, ступают ногами, волоча за собой валенки. Впереди словно ползком двигается темная бровка леса. Спускаемся в траншею, поворачиваем круто влево и идем к блиндажу. Траншея кончается, телефонный провод тянется кверху и уходит по снегу дальше. Идем перебежкой вперед. Вот снежный бугор блиндажа, вот окопы. На снегу перед входом в блиндаж лежат оба раненых. – Где санитары? – спрашиваю я. – Санитары были? – повторяю я свой вопрос. – Были товарищ гвардии капитан! Они перевязали нас и сказали, чтобы мы лежали и не двигались, забрали автоматы и вывернули карманы. – А теперь где они? – Один за носилками побежал, а двое в блиндаже греются. – Озябли, говоришь? 16. B проходе, который уходит из окопа вниз деревянные ступеньки с набитыми на них планками, чтобы не поскользнуться. Дверь в блиндаже из толстых досок открывается наружу. При бомбежке или обстреле взрывная волна сама прикрывает плотно дверь. Из печной трубы, торчащей в перекрытии, клубиться слабый дымок. – Сергей! Возьми полено, припри снаружи дверь! Упри полено в ступеньку, чтобы изнутри не могли открыть. Сделай по тихому, не спугни санитаров, а то все дело испортишь! – Сделаем все как вы сказали! – У тебя Сергей в запасном диске патроны есть? – Имеются! У меня в мешке россыпью с сотню найдется! – Лезь наверх! Сыпани в трубу горсти две! Посмотрим, что эти прохвосты делать будут? Я их научу как у раненых разведчиков по карманам шарить! Серега забирается наверх, достает горсть патроны и сыпет их в дымящуюся трубу. Патроны постукивая по железной трубе устремляются вниз. Я вспоминаю Грязнова, которого слабило, когда мы бросали патроны ТТ в скрытую дверку горящей железной печки. Они с треском рвались, но силы никакой не имели. Внутри блиндажа началась беспорядочная трескотня. Кто-то с силой шарахнулся в дверь. Из трубы вырвалось облако черного дыма и посыпались искры. Через несколько секунд послышались вопли и удары прикладом в дверь. – Ну-ка дай очередь из автомата в дверь. Пули от ТТ толстые дверные доски на пробьют! Патронов десять пусти для страху! – А теперь вынимай полено и командуй им Хенде хох. Дверь отворилась и изнутри вывались перепуганные санитары с поднятыми лапами вверх. Из под верхней притолоки повалил сизый дым. Мы гоготали. – Ну что попало за мародерство? Теперь не будете лазить у раненых по карманам! Вещи сейчас же вернуть! – Нам товарищ гвардии капитан приказано всех раненых на вещи осматривать. Оружие забирать. Трофейные вещи изымать и в санроту сдавать. Мы все по инструкции делаем. – Я вам такую инструкцию пропишу, что вы в другой раз к карманам разведчиков и не коснетесь. Разведчики лежат раненые на снегу, а они свои зады у печки греют! В это время третий санитар прибежал с носилками. – Кладите на носилки и несите в овраг. Там старшина с лошадью вас дожидается. И больше на глаза не попадайтесь мне. Все поняли? Карманники несчастные! Раненых положили на носилки, появились еще два санитара из стрелковой роты. Мы забрали их оружие и остались около блиндажа. Рязанцев должен прислать группу ребят, как только они закончат баню. Перед самым рассветом. Ночью две группы ползали к немецким позициям. Мы подбирали себе объект. Немцы по нейтральной полосе стреляли мало. Нужно было не обнаружить себя. Разведчики прослушивали оборону немцев с самого возможно близкого расстояния. 17. К утру группы вернулись и ничего хорошего не могли сообщить. На следущую ночь я планировал продолжить (прослушивание и) наблюдение. Зимняя ночь длинная. Пока вернуться ребята, пока придет старшина, накормит всех, сколько времени пройдет. А день пролетает быстро. Ляжешь на солому не успел глаза закрыть, а тебя уже будят,подыматься пора, скоро темнеть начнет. Нужно снова готовиться к вылазке. Однажды днем немцы взяли и по кустам нам в тыл зашли. Постреляли из автоматов, нагнали нашим стрелкам страху, а к траншее, где сидели наши солдаты, идти побоялись. (В стрелковой роте паника, немцы окружают роту). Солдаты ушки на макушки, собрались было из траншеи бежать. Кто-то вспомнил из них (нашелся такой один), что разведка на левом фланге роты (в немецком) блиндаже сидит. – У них там блиндаж! – сказал этот кто-то командиру роты. Солдаты несколько воспряли духом (но загривки у них зачесались, то ли на нервной почве, а может вши почуяли неладное и беду). Командир стрелковой роты молодой лейтенант побежал к нашему блиндажу. – Где капитан? – крикнул он часовому. Немцы нас обошли по кустам, окружают! Он хотел было cyнуться в блиндаж, но часовой его остановил, не пустил даже в проход на ступеньки. – Щас узнаю! Здесь погоди! Вернувшись из блиндажа, часовой объявил лейтенанту – Щас ординарей, капитана выйдет. С ним поговори! А капитана не велено будить. Заспанный, позевывая и тяжело вздыхая в проходе блиндажа показался Сергей. – Где капитан?- спросил командир роты. – Он спит. Он те на што? – Разбуди капитана! Немцы нас по кустам обошли. – Капитан будить себя не велел. Он сказал, пусть немцы ближе подойдут. Если подойдут, велел разбудить дежурную группу. А капитана я второй раз будить не стану. Он очень ругается, когда его зря будят. Чего-чего, а поспать он любит! Серега широко зевнул, оскалив зубы, издал какой-то унылый душевный звук, почесал затылок, погонял на нагашнике надоедливых вшей (которые появились у нас у нас как только мы перешли жить в немецкий блиндаж), посмотрел на небо сморщась, как бы прикидывая скоро ли будет рассвет, повернулся спиной к лейтенанту, пригнулся, подобрав под ремень живот, и рванул раскатисто и громко. Не оборачиваясь и лениво, он зашагал по ступенькам вниз. Часовой (от неожиданного громкого звука вздрогнул) вскинул глаза на лейтенанта, повел (брезгливо) в сторону носом, отклячил нижнюю губу и на его лице появилось выражение: – Разговор окончен1 Ну что еще тебе? Давай, топай к пехоте своей! – выражали его глаза выразительно. Командир роты замялся, соображая что-то, произнес невольно – Фу ты! повернулся и побежал к своим, стрелкам. – Ну что там разведчики? – спросил кто-то из солдат, когда лейтенант вернулся назад. 18. Первое мгновение лейтенант не мог сообразить, что ответить. – Разведчики? Разведчики спят! – А где их капитан? – Капитан не велел его будить! Эти слова, как ушат холодной воды, подействовал на солдат. – Как спят? – недоумевали солдаты. – Капитана растолкали. Он сказал, чтобы больше не будили. Пусть подойдут поближе! Они поднимут дежурную группу. А капитана будить не велено. А как же, немцы? – спросил кто-то. Рассказчик пустил струю дыма, покашлял в кулак и продолжал;- Что немцы? Немцы увидели что у наших паники никакой, полежали в снегу, задом, задом и убрались восвояси. Они боялись, чаю сами попадут в окружение. На войне всякое бывает. Ждут кто первый, так сказать, в штаны наложит. -Это что же выходит? Немцы не выдержали и наложили? -А ты как думал? И наложишь! Когда вокруг тебя русские сидят в окопах кругом. Немцы уже не те, что были раньше! Левее нашего блиндажа за просекой стоял, по-видимому, усиленный взвод немецкой пехоты. Он прикрывал фланг немецкой обороны в районе деревни Лапути. Мы две ночи подряд лазили под самые окопы к немцам за просеку, щупали, искали, прослушивали и смотрели, но ни одного слабого места найти не могли. У немцев все прикрыто кругом, подступы к окопам простреливаются кинжальным огнем из трех пулеметов, не говоря об артиллерии поддержки, которая нет, нет, да брызнет огнем. Ни одного слабого места, где бы можно было просочиться в оборону и взять без потерь языка. Нужно бросаться на пулеметы. А из этого известно, что выйдет. – Я говорил тебе Федя, что здесь бесполезно искать. Мы понесем здесь большие потери. – А что будем делать. Если подходящего места нет. Под обрыв не пойдешь. Из-под обрыва (оттуда) и на вожжах обратно не вырваться. Две разведгруппы к утру вернулись из поиска. Ребята (разведчики), кто лежал на нарах, кто сидел на лавке у стены и курил. Вчера нам в блиндаж дали телефонную связь. Два телефониста поставили аппарат и устроились у окна на нарах. Я вошел в блиндаж, по смотрел в их сторону. На стене у окна висели немецкие картинки. Тут были какие-то цветные портреты немецких актеров и размалеванных актрис. Кто-то их выдрал из журналов, валявшихся в блиндаже под нарами и мякишем жеванного черного хлеба прилепил их у окна на стене. – Кто это немецкую мазню здесь развесил? – Телефонисты! Товарищ гвардии капитан. – Навешали тут всякое иностранное дерьмо и млеют от восторга. Живут на русской земле, (плюют на неё), приклоняются перед иностранными сифилитиками. Люди жизни за эту землю кладут. А эти телефонные черви сидят под накатами и картинки слюнявят. Ну-ка сдирай их со стены, забирай аппарат и в окоп быстро наружу! Видали? Они еще на нарах места себе заняли! 19. Чтоб я вас в блиндаже больше не видел! -Рязанцев! Предупреди часовых! В окопе, на снегу их держать! Там где стоят наши часовые! На следующий день меня по телефону вызвали в штаб. Нового командира полка нам еще не дали. Дело в том, что наш командир полка дня три тому назад у всех на глазах был убит в ротной траншее. Он как-то поддал и решил показать, что он ничего не боится. Полтора месяца не вылезая просидел в блиндаже, а тут нечистая его поддела. Пьяному море поколен! Решил сходить на передовую. Смотрите бездельники, сам полковой пришел в траншею к солдатам (вперед не сгибаясь). По дороге на передовую вначале вроде било тихо кругом. И (эта коварная) тишина (обманула) подхлестнула его. (- Что вы тут мне мозги вправляете? Головы поднять нельзя! Тут ни одного снаряда не разорвалось. Нетто, что около моего блиндажа! Посрать выйти нельзя! А тут…, он остановился на тропе и демонстративно решил отлить. Комбат, пригнувший было спину, молча проглотил слюну. Он хотел что-то сказать, но посмотрел на мaйopa и осекся сразу. Уж очень у него решительный и непреклонный был вид и взгляд. – Ты мне языком не мели! – заорал он на всю округу. – Ты мне дело говори! – Где тут у тебя все время люди гибнут? Впереди шел связной солдат из роты. За ним шел сам, а потом комбат. За комбатом два телохранителя с автоматами и в полушубках, потом военфельдшер и еще кто-то. Вся компания до траншеи дошла без обстрела. Командир полка спрыгнул в проход, прилег животом на переднюю стенку (траншеи), вскинул к глазам бинокль (и стал им водить). И тут с бешенной силой ударил первый снаряд. Вслед за ним (две батареи немцем плюнули)вдоль траншеи рвануло еще сколько (раз). Солдаты поговаривали, что немец откуда-то ведет наблюдение (за тропой и траншеей). Стоит кому показаться на тропе, как тут же следует моментальный обстрел. Все повалились на дно траншеи, деваться было некуда. Переждав обстрел, комбат решил перебежкой податься к ротной землянке. – Бежим вперед – крикнул он и поднялся на ноги. Остальные рывком поднялись, и в это время несколько снарядов рвануло у них в ногах. Троих сразу убило. Комбат получил контузию. Не задело связного солдата из роты (и того, кто был сзади). Солдат вовремя метнулся за поворот и нырнул в дыру под мерзлый грунт. Он знал, когда и куда нужно вовремя смыться, потому и остался в живых. Фельдшера ранило в руки. Он даже перевязать себя не мог. (Наш начальник штаба в рот перестал брать спиртное после такого случая – Ну да? Вот тебе и ну да! Полк остался на время без командира полка!) – Сколько он пробыл на фронте? – спросил я как-то начальника штаба. – Месяца два, полтора! А ты капитан? Мне говорили, с сорок первого воюешь? _ – Да! С сентября сорок первого! – И все время под пулями? 20. – Все время на передовой! – В чем же дело? С сорок первого и вроде ничего? – Я ранен несколько раз. А вообще ничего! (Я в блиндажах в тылу не сижу) Все время на передовой (бегаю). Ухо востро держу. Слышу когда надо пригнуться, когда ткнуться в снег, кода броском место сменить. По полету снаряд слышу. Бот только здесь стоял, взял и в другое место ушел. Почему ушел, не (могу ответить) знаю. Оглянулся назад, а в то место, где я только что стоял, ударил снаряд, земля встала дыбом. Улавливаю что-то на слух, хоть ясно и не осознаю, заранее сказать не могу. Всегда настороже. – Когда.мне в роту нужно идти, или в нейтральную (полосу ползти, за два дня) спиртного в рот не беру. Ребятам положенные ежедневно сто грамм выдавать запрещаю! Старшине строго настрого приказано перед выходом на передовую ни капли ни кому не давать. Раз в неделю у разведчиков перерыв в работе бывает, когда отдыхают (очередная группа два, три дня) вот тогда старшина и выдает (старшина выдает каждому его положенную порцию. А если каждый день её выдавать то люди будут попадать под любой снаряд и шальную пулю). Во время работы у разведчиков сухой закон. – Вы меня по какому-то вопросу вызывали? – Да! Нового командира полка нам еще не дали. В полку осталось мало солдат. Ночные поиски нужно прекратить. Этот вопрос с дивизией согласован. Ты со своей разведкой переходишь в боевой резерв полка. С переднего края сегодня ночью своих всех снимешь, передашь блиндаж соседней роте, располагаться будешь с ребятами здесь в овраге. (Немцы могут снова предпринять вылазку обойти наши роты с другой стороны). Резерва пехоты в полку (и в дивизии нет). До получения нового пополнения будешь находиться в моем распоряжении. (В полку весь наличный состав стрелков находится в передней траншее. Снять с переднего края ни одного солдата не могу). – Все ясно! – сказал я. Я пошел к себе! Нужно до вечера выспаться! -Ну Федь! Считай что тебе повезло! Приказано всей разведкой сниматься и отправляться в овраг. Будем стоять в резерве полка. Опять на боковую! (Думаю, что вылазки немцев по краю кустов заставили наше начальство иметь под рукой разведчиков на всякий случай). Нам нужно пару пулеметов иметь (для этого всякого случая). В ротах нет ни одного свободного. Пошли старшину в тылы. Пусть у оружейников раздобудет (возьмет. И скажи, чтоб боеприпасов к ним принес). Ночью мы перешли в овраг и расположились в палатках. У нас началась (сравнительно) спокойная жизнь. Старшина на следующий день вернулся из тыла, привез пулеметы и несколько цинков патрон. (И ещё он где-то) Раздобыл американский фонарик. Американский фонарь, в отличии от немецких и наших плоских, имел цилиндрический вид. Один такой фонарь (в результате неясных манипуляций) оказался в руках у старшины. Фонарь принес Сергей (он уже успел повстречаться и переговорить со старшиной. Вообще, Сергей был сообразительным и шустрым малым). До некоторого времени я даже не знал, что он успел побывать в тюрьме, хотя лет ему было девятнадцать. У него со старшиной был исключительный контакт. Разведчики в шутку называли старшину крестным отцом Сереги.
* * *
– – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
Деревня Бондари. Панорама леса Бондари. Армейская баня приехала в лес.
– – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
25 января 1944 года.

Там, где стояла деревня осталось пустое, занесенное снегом бугристое место. Посредине деревни торчат из под снега два разбитых сарая, и то что осталось от разбитых и разрушенных изб. За сугробом видны покосившиеся ворота, несколько кольев от изгороди, крыша собачьей будки и занесенный снегом колодец.
Позади ворот стоит русская печь с отбитой трубой. Белая и голая она, как раздетая баба в исподней рубахе. Изба, в которой грела печь, исчезла. От нее осталась завалинка, присыпанная снегом. Если бы дом подожгли и он сгорел – печь была бы облезлой, закопченной и черной. А бока и перед у печи были чистыми и копотью не тронутые. Вероятно, что немцы свалили крышу, разобрали на бревна стены и унесли их на дрова. Здесь, где-то под бугристой поверхностью снега должны находиться немецкие блиндажи.
За деревней, если это место можно так назвать, простирается ровная покрытая снегом снежная низина. В конце ее, перед лесом, поднимается невысокая снежная гряда бугор. Если посмотреть на него от ворот с нашей стороны, то бугор как бугор. Он тянется вдоль опушки леса и невооруженным глазом на нем ничего особенно не видно. Две покосившиеся крыши, лежащие наполовину в снегу и белая полоса бугра на фоне желтого хвойного леса.
Но стоит взглянуть туда через оптику стереотрубы, оказывается весь бугор изрыт и изъеден, как старый, трухлявый пень. Здесь видны стрелковые, пулеметные ячейки, солдатские окопы, ходы сообщения и даже кое-где железные трубы, торчащие из под накатов блиндажей.
Стереотрубу, при этом, нужно я ставлю на печь и самому забираюсь наверху наверх. Каждую минут пока смотришь в оптику, ждешь встречной беззвучной пули или очереди из пулемета. По спине мурашки ползут, умирать зря никому неохота, а посмотреть ******** (немцы и что они делают крайне необходимо.
Как выясняется потом, а об этом речь пойдет особо, к снежному бугру из-за леса тянется проводная телефонная связь из шести проводов. Сделано это для надежности. На случай обрыва во время обстрела. Пока наши перебьют все шесть проводов, сколько времени пройдет. Не то, что у нас! У нас телефонная связь протянута всего одним телефонным проводом. составленным из кусков.
День и ночь из-за снежного бугра в нашу сторону летят трассирующие пули ленты и над головой шуршат снаряды. Там за лесом, районе высоты у немцев стоят батареи самоходных орудий. По показанию пленных… [далее неразборчиво две строчки].
На белом гребне снежного бугра видны торчащие из снега два ряда кольев проволочного заграждения. Колючая проволока у немцев сталистая, при резке щипцами сильно пружинит и даже звенит. Ее нужно резать руками вдвоем. Один держит место обреза, а другой двумя руками, а другой подводит между рук щипцы. В отличии от немецкой, наша проволока мягкая, при обрезке обвисает как тряпка.
По всему периметру проволочного заграждения у немцев на разной высоте навешаны пустые консервные банки. Это своего рода шумовая сигнализация. Полез под проволоку, задел спиной их – банки загрохали. [неразборчивые зачеркнутые строки].
В проволочном заграждении мы обычно делаем по два, три прохода, когда нам нужно подобраться к немцам на бруствер. Мы как мыши под плинтусом в стене делаем две дырки, хотя пользуемся всегда одной, когда ползем туда и обратно.
По докладу разведчиков в снегу под немецкой проволокой поставлены мины. Пришли, доложили. Пойди их проверь! Как это они могли сразу определить обнаружить под проволокой мины? Никто ни одной мины не снял. Ни один из них никто из них не подорвался на минах у проволоки. Ума не приложу! Можно зацепить мину телефонным проводом, отползти подальше и дернуть для проверки. Об этом я пока молчу. Видно не хотят мои ребятки лезть под проволоку на эту высоту. Чем-то она им не нравиться?
Бывает так. Иногда подойдешь к немцам поближе, глянешь вперед взглянешь на какой-нибудь бугор, обнесенный колючей проволокой, увешанный пустыми консервными банками и станет вдруг не по себе. От чего же это происходит? Нет никакого желания умирать под этим бугром. Вот на другой можно пойти. Рискнуть своей жизнью, все равно она где-то оборвется. Но только не на этом бугре. Мистика какая-то! И суеверие!
С минами можно разделаться (сделать все) гораздо проще. Вызвать полковых саперов. И послать их снимать. Пусть проверят наличие мин и подготовят проходы. Но я и с этим не тороплюсь. Саперов… [неразборчиво]. Я зная, что мои ребята просто ползать устали. Я знаю, что им этот бугор не по нутру.
Донесение ребят официальное. Раз доложили, что под проволокой стоят мины, пусть будут мины. Если даже командир полка пошлет туда саперов и под проволокой не окажется мин, то ребята все равно под бугор не пойдут. У них к этому бугру душа не лежит.
Я сажусь и пишу донесение, что вдоль опушки на переднем крае у немцев проволочное заграждение в два кола и поставлены мины предположительно.
Вызываю посыльного и отправляю его с донесением в штаб полка. Саперов нам не прислали. Потом, спустя какое-то время мы этих мин не нашли.
Специально мы их не искали и никто не мог сказать, где именно под снегом они стоят. [зачеркнуты неразборчивые слова]. Это может наверное и хорошо, что под проволокой не обнаружили мин. Ребята сами в этом убедились.
С того дня, когда я отправил в полк донесение, кругом навалило нового снега. Местность изменила свой вид, исчезла из вида зловещая картина.
Когда наши ребята еще раз пошли сунулись под проволоку на арад (непонятно), немцы их встретили бешенным встречным огнем. Они и про мины забыли. Под хорошим огнем не только про мины забудешь. От сплошного рева и грохота, от пулеметной трескотни в голове торчит остается торчать одна мысль, как бы поскорей живым выбраться из под обстрела.
Командир полка услышав грохот и вой отдал приказ немедленно отойти и перейти к обороне.
Наши солдаты стрелки тоже попали под огонь. Стрелковую роту только что вывели на передний край в Бондари и расположили поверх земли в снегу. Для снарядов и пуль рыхлый снег не помеха. Наши стрелки полежали в снегу под обстрелом, притащили откуда-то взрывчатку и давай громыхать, вгрызаясь в мерзлую землю. Вскоре траншея и две ротных землянки были отрыты.
Разведчики долбить землю ленивы. У разведчиков копаться в земле нет никакого желания. Они как бездомные собаки стали рыскать и искать брошенные немцами блиндажи.
– Ну а если нам некуда будет деваться? [окончание строки неразборчиво]
– Поставим палатки прямо в снегу! Они сверху обшиты белыми простынями. Немец не увидит, где нужно поставишь в кустах.
Наше дело святое. У нас обычно одна забота, мы должны взять языка. Подготовка ночного поиска дело серьезное, требует тщательной подготовки разведки и визуального изучения, наблюдения и изучения противника.
Мы с Сергеем забираем стереотрубу, отправляемся на передний край и устанавливаем ее за обрушенной трубой на печи. В оптику видны: снежный бугор, немецкие позиции, полосы желтого леса и заснеженные вершины темных елей.
Из-за леса в нашу сторону летят снаряды и рвутся то там, то тут. Ночью, когда немцы бьют, мы ясно видим короткие вспышки при выстреле каждого орудия. Артиллерия у немцев самоходная. Днем она меняет огневые позиции.
С бугра в нашу сторону летят очереди трассирующих, а из-за леса шипя и воркуя несутся снаряды и рвутся кругом.
У немцев В окопах у немцев по моим расчетам сидит гарнизон человек двадцать солдат. Два пулемета, несколько солдат начали [непонятное слово, типа светить] ракетами. В окопах торчат наблюдатели. И если сюда прибавить отдыхающую смену, то наличный состав опорного пункта не должен превышать двадцать человек.
Оборона у немцев держится не на количестве солдат в пехоте, как у нас, а на огневой мощи артиллерии артогня и неограниченном запасе снарядов на каждое орудие. По показанию пленных немцев на каждое орудие суточный расход пятьдесят снарядов. Стоит немцам заметить у нас какое [слово неразборчиво] одну, две фигуры, как их артиллерия открывает огонь, [слово неразборчиво] и гавкает целый час, угомониться не может.
За полуразрушенной трубой на печи у нас стоит артиллерийская оптическая стереотруба на треноге. Когда смотришь в нее, впереди все видно отлично. Утром я надеваю чистый маскхалат, прохожу через ворота, залезаю на печь и сажусь за трубу. В трубу видна панорама передней линии обороны немцев.
На панораме показан дуговой обзор немецкого рубежа, который находится в полосе нашего стрелкового полка по состоянию на 25 января 1944 года. Каждый новый день я являюсь сюда и каждый день с рассвета до темна наблюдаю за немцами.
Я помечаю что-то новое, отмечаю на схеме и думаю. Стереотруба стоит на треноге и до половины прикрыта остатком печной трубы. Сверху, чтобы нас не видели немцы находится кусок белой материи, натянутый на рамку. Через кусок белой простыни любая пуля может нечаянно с той стороны прилететь. И главное что из-за ширмы полета трассирующих не видно. Стоит немцам заметить на печи или около нее какое движение, увидеть отблеск стекол перископа, тут же последует очередь из пулемета.
Я сижу за тонкой материей и рамкой из жердочек и рискую получить приличную порцию свинца. Я сижу и испытываю свою судьбу на выживание. Ни один из штабных не придет сюда рисковать. Бывают люди которым везет. Вон командир стрелковой роты пришел взглянуть на немцев через сильное увеличение, присел за трубу и тут же готов. Так было и с комбатом второго батальона. А я сижу целыми днями мне ничего.
В полку уже поползли слухи и пошли разговоры, что к трубе немец никого не подпускает кроме разведчиков. Прибежал связной из штаба полка, хотел мне чего-то сказать, он стоял рядом с Сергеем за печкой, не успел раскрыть рот, его пуля в плечо ударила. Телефонист явился за печь поставить телефонный аппарат, связь протянуть, присел на корточки, стал подключаться, ему очередью из пулемета кишки вырвало. Так и остались мы без связи.
Командир полка не хочет слушать сказки про русскую печку
– Опять суеверие, мать вашу так!
– Тоже мне вояки!
– И этого около печки убило.
– Что ты мне долбишь? Вот я сам пойду туда Посмотрю, чего ты там делаете! – у штабников глаза на лоб полезли.
Утром я снова прикладываюсь к холодным наглазникам окуляров трубы и смотрю через прозрачную оптику на немцев. Я стараюсь дышать куда-нибудь в сторону, что бы не запотели стекла моей трубы. Прислонившись к трубе я каждый раз поджидаю тупого и жгучего удара пули. Я слышу как они летят стороной, повизгивают и ударяются в мерзлую землю.
Мы и немцы сидим в обороне и охотимся друг за другом. Немец гоняет наших солдат на подходе к передовой снарядами и пулеметными очередями. А мы прикидываем где бы лучше, без шума и без потерь схватить у них языка. Другого от нас не требуют.
Вот одна свинцовая прилетела с той стороны, она стукнула в кирпич, от него полетели в разные стороны брызги. Пуля ударила и завизжала у меня под ногами.
Вторая пошла рикошетом вверх, а две других следом продребезжали под самым носом. Я откинулся от окуляров и почувствовал озноб и холодок в спине. Мне стало как-то не по себе от этого удара, дребезжащего и гнусного свинцового голоса визга. Я опускаю руки, держусь за треногу и жду очередного удара в лицо. Очередная пулеметная очередь проходит над головой. Я жду новую очередь, а кругом наступает полнейшая тишина. Я жду и считаю секунды, а немец молчит. Что это? Чего я сижу? Мне нужно быстро спрыгнуть к Сергею за печь, а я проверяю свою выдержку. Я хочу подняться, встать на ноги, немного расходиться, спрыгнуть с печи, потоптаться в снегу. А ноги мои меня не слушаются. От пребывания в сидячей позе они затекли и не гнуться.
Я снова нагибаюсь вперед, касаюсь бровями остывших наглазников. Я вижу белую полосу немецкого бруствера и что-то маячит и шевелиться над ним.
Поверх бруствера торчит немецкая каска. Вот она снова шевельнулась, немец высунулся на пол-лица и торчит.и смотрит вперед. По движению головы можно сказать, что в окопе находятся двое. Один высунулся и стоит, а другой сидит не высовывается сидит за бруствером, с ним разговаривает. Голова первого покачивается, запрокидывается немного назад и дрожит. Видно, что этот первый недавно явился из тыла в окопы, он не измотан войной, другие, с чего бы ему так дергаться и смеяться. Он что-то рассказывает и заливается смехом.
С нашей стороны полнейшая тишина и ни единого выстрела. Славянам абсолютно наплевать, что там поверх окопа торчит. Этому не бывать, что бы какой наш мазила приложился к винтовке и высунулся за бруствер. У каждого нашего солдата впереди тяжелая и изнурительная война.
Я отрываюсь от объектива, поворачиваю голову назад и говорю Сергею. Он сидит на пустом ящике за печкой и дымит с цигаркой в зубах.
– Сергей! – кричу я.
– Сбегай в землянку, принеси винтовку с оптическим прицелом. Возьми ее осторожно, что бы не сбить прицел и тащи сюда. Скажи, капитан велел. Хорошая мишень маячит! Давай поскорей, пока он веселый и над окопом торчит.
Пока я толковал с Сергеем, пока он бегал в землянку за винтовкой с оптическим прицелом, немец за бруствером совсем осмелел. Над траншеей показалась его радостное лицо. Оба немца как-то вдруг вытянулись вперед и приподнялись кверху. Из-за бруствера стали видны физиономии обоих.
– Давай, давай смелее! Улыбочка у тебя сейчас до ушей! – сказал я сам себе вслух.
– Через пару минут один из вас богу душу отдаст. В этом нет сомнения.
Буквально на одном дыхании вернулся Сергей.
– Ты не стукнул ее?
– За кого вы меня принимаете? – нахмурился он.
– Ну, ну! – сказал я примирительно.
– Сейчас ляжем на печи устроимся поудобнее, приложимся, прицелимся, сделаем выстрел.
– Ты Сергей лезь на печку! Давай!
– Смотреть будешь в стереотрубу! Докладывать результаты. Сергей забрался на печь и приложился к окулярам.
– Можно поправить, товарищ гвардии капитан? А то наводка сбилась, наверное. У меня что-то мутновато видно.
– Выходит у нас разное зрение. -отвечаю я.
– Ты стереотрубу не шевели. Цель собьешь. Потом искать долго будешь. Покрути окуляры, наведи на резкость.
– Ну как?
– Вот теперь вижу! Отлично!
– Разговаривают, товарищ капитан. Этот длинный, улыбается. [зачеркнуто слово].
– Красиво, красиво! – поддакиваю я. Я загоняю патрон в патронник, подвигаю ногами бедра туда и сюда, беру немца под обрез груди, делаю глубокий вдох и выдох, закрываю глаза и медленно считаю до пяти, смотрю снова в прицел, немец сидит точно на мушке.
– Смотри внимательно, не моргай и придержи дыхание придержи. Сейчас. Делаю выстрел! – говорю я Сергею. Некоторое время мы оба молчим. Сергей ждал и боялся упустить нужный момент, а я медленно затаив дыхание потянул за спусковую скобу. Потянул ее на себя так медленно, как ни разу не спускал боек раньше и даже в училище.
Раздался выстрел. Винтовка дернулась, ударила в плечо, немного подпрыгнула и встала не прежнее место. Я взглянул в оптический прицел на лицо длинного немца и улыбка исчезла. Он попятился в сторону назад задом, а в мою сторону смотрел моргая другой, маленького роста, немец. Я легко, двумя пальцами передернул затвор, проверил взглядом прицел и снова выстрелил. Кругом по-прежнему было все тихо. А тут с ясного неба грянул второй выстрел.
– Ну что там, Сергей? – спросил я облизнул языком сухие губы.
– Снимок получился отличный! Нам нужно с вами переходить в снайпера. Счет открыт!
– Счет мы с тобой открыли, да только нам отсюда надо удочки сматывать. Как только Немцы сейчас очухаются, они из всех пушек откроют огонь. Они нам этих двух немцев не простят.
На следующий день стрельба прекратилась поутихла. Жизнь на передовой вошла в свою колею. Никто ни в кого не стрелял, никто никого не тревожил. Но однажды, как это часто случается бывает, перед утренним рассветом в нашу траншею ввалились человек двадцать немецких солдат. Они подползли, открыли беспорядочную стрельбу, похватали подряд нескольких наших солдат и отошли на свои позиции к себе в траншею. Наши недосчитались четырех солдат. Никто такой наглости от немцев не ожидал. В полку разразился страшный скандал. Как могли допустить немцев допустить к себе в траншею? Почему он не всех перебил? Какие в роте потери? Почему он схватил четверых? Почему остальные все целы и ни одного убитого или раненого? Что в это время делали остальные? Почему командир роты спал в землянке не принял никаких ответных мер. Где в это время был комбат? Чем занимались ночью разведчики? Об этом конечно в донесениях не пишут. Кто еще захочет сам не себя телегу писать. Потери четыре человека – идут бои местного значения!
Больше всего досталось командиру роты. Его стали раза по два в день вызвать для объяснения. Стрелковую роту растревожили как улей.
Я теперь на печи не сижу. Я хожу до начала рассвета и проверяю несение службы в траншее часовыми на передке.
– На кой черт мне твои наблюдения и панорамы, когда немец у вас из-под носа уводит из траншеи наших солдат. – кричит мне по телефону командир полка.
Он явно был озлоблен на всех и кричал, не выбирая слов, по телефону.
Я уже с раннего утра браво шагаю на передок, прохожу траншею, в сопровождении Сереги. На моей обязанности лежит проверять стоящих на посту ротных солдат. На ночь в роту я обязан отправить трех своих разведчиков. Пусть они ведут наблюдение прямо из траншеи – поясняет мне по телефону командир полка.
Как-то раз я иду по ходу сообщения. Слева, с угла леса, бьет немецкий пулемет. Немцы бьют из винтовок, пули поверх [непонятное слово] бруствера, чиркают по насыпи поднимая бороздку снежной пыли.
Я иду по траншее, в проходе стоит солдат. Он положил винтовку на бруствер, ствол винтовки смотрит кверху. Солдат стоит внизу за насыпью земли и снега. Со стороны немцев его не видно. Он щелкает затвором и стреляет. Поверх голов вверх.
– Куда же ты стреляешь? – спрашиваю я.
– Как куда? Туда! – и солдат показывает мне рукой.
– В немцев стреляет! Положил винтовку стволом в небо и в немцев стреляешь?
– Там пуля все равно свою долю найдет. Туда и полетит, глядишь и я попаду куда нужно!
– Куда это туда? Ты видишь куда у тебя дуло винтовки смотрит?
– Вижу!
– Ну и что? Прицел у тебя для чего?
– Вы меня, товарищ капитан, пожалуйста извините. Мы не такие дураки, чтобы лбы свои за бруствер выставлять. Вы спросите тех, кто эту прицельную планку придумал. На хрен она солдату нужна? Как только высунулся – тебя убивают! Мы же с вами не в тире на [слово не понятно] кожаных матрасах лежим, по мишеням стреляем. Важно, что бы немцы слышали, что мы тоже ведем стрельбу и не спим. А пуля, она найдет свою цель. Нате-ка, попробуйте приложиться и выстрелить. Он вас тут же очередью из пулемета прошьет. Я вам сейчас покажу. Вот посмотрите. Ставлю лопату, отойдите маленько, а то рикошетом может задеть.
Я отошел в сторону, Сергей присел на корточки, а солдат подняв железный совок лопаты пошевелил им в воздухе медленно и в ту же минуту с немецкой стороны ударил веером пулемет.
Русский солдат это не просто пехота божья душа, тварь и быдло как считают иные солдата в пехоте. У нашего брата смекалка и юмор есть [юмор и незаурядный смекалистый разум] – понятие есть. У нас правда свои солдатские шуточки и мерки на жизнь, на людей, на войну.
Мало ли что там говорят в штабе полка, или например, сочиняют и пишут в штабе дивизии. На что уж словоплеты сидят в штабах армии и те не знают загадочной души простого русского солдата! Да, подумал я. Много всяких сочинений написано под кодовым названием русский солдат. А кто скажем, знает жизнь солдата в передней стрелковой траншее. Нужно с ним пожить в этих чудесных местах, откуда живыми почти никто не вернулся [живыми].
Через неделю в сосновом лесу, что левее шоссе, нам устроили баню*. На [фраза непонятна] речушки – мойку. Поставили передвижную армейскую вошебойку. Запах и дух от нее! Протухший покойник так не пахнет. Концентрированный запах чего-то дохлого дохлых вшей и поджаренного грязного белья и еще чего-то, что сдираеют ногтями у себя солдаты в виде сала на ляжках и загривках. Аромат неописуемый несусветный.
В полк должно было прибыть свежее пополнение и что бы не обменяться тем прибывшим с нашими окопными вшами всем старым воякам промазали подмышки, мошонки и паха.
– Банно-прачечный отряд приехал! – сообщает мне Сергей. Говорят, что всех по списку под санобработку пропустят!
– Так, так! Значит мыльно-дрочильный комбинат прибыл. И когда же разведчиков мылить поведут?
– Завтра с утра, сказал старшина. Мы идем в первую очередь.
Баня представляла собой два больших дощатых ящика в человеческий рост, установленных на полозьях из толстых бревен. В лес притащил ее гусеничный трактор. Один ящик длинный с двумя замерзшими окнами, другой и по высоте гораздо ниже. Это жарилка для солдатского белья. Ящик имеет двустворчатую дверь и встроенную с боку и с низу железную топку. В ящике перекладина из железной трубы и крюки из толстой ржавой проволоки, на них вешают солдатскую одежду для обработки от вшей. Двери плотно закрываются на засов, в железной топке, сделанной из бочки, разводится огонь – этим поддерживается высокая температура. У обслуги имеется бочка тут и бочка с соляркой, которую они возят с собой. Не везде разживешься сухими дровами. Подходишь к вошебойке, сдаешь свои вещи и голый бежишь по дещечкам в баню. Из ящика тянет духом пожаренной овчины, подпаленной одежды и горелым бельем. Из него после прожарки извлекают сморщенные полушубки, испорченные варежки размером в детский кулак.
Мы голые бежим и перепрыгиваем по дощечкам, уложенным в снегу. Хлопает дверь. Мы залезаем в продолговатый ящик. Здесь пар стоит и жарко наверху, а внизу сыра и холодно, по полу стужей несет. Лавки и пол покрыты какой-то давно налипшей слизью. Два крана у стены и десяток жестяных шаек валяются на них. Открываю горячую воду, добавляю холодной и лью на себя. Подошвы и пятки ног мерзнут на полу. На чем собственно основано мытье? Вместо мочалок намыливаешь мокрую тряпку, льешь на себя из шайки, стоишь в густом холодном тумане и паре, через в котором ничего не видать. Размазав грязь на груди и животу, я ногтями скребу в голове, черпая ладонями холодную воду смываешь ее водой из шайки. А санитар уже кричит:
– Давай, кончай, следующая партия заходи!
Выливаю на себя остаток воды из шайки, я выхожу на доски, лежащие на снегу. Выхожу наружу. Здесь на ветру, нас поджидают каждого два санитара, работают здесь под присмотром врача. У них ведро со смазкой и помело на длинной палке. В ведре желтого цвета вонючая мазь. Один макает палкой в ведро и небрежно проходиться по всем местам, где растет у тебя растительность. Другой спрашивает твое звание и фамилию, заносит в список, потому что в голом виде воинского звания не определишь. – Подходи следующий! – кричит он. После того, кто прошел спецобработку, получает пару стиранного нательного белья. И уже в исподнем ты бежишь к вошебойке. Из жарилки достают твое обмундирование. Здесь только спрашивают воинское звание и по погонам определяют твое капитанское барахло.
Дело поставлено на поток. Врач своих санитаров торопит, кричит, подгоняет. Хорошо еще, что немец не разнюхал о банном месте и не ударил сюда.
Я стою и ищу глазами своего старшину. Да вот он, рядом стоит в своем сморщенном полушубке. Не старшина, а замухрышка какой-то! Ну и внешний вид у тебя! Это кто ж тебя так обезобразил подхожу я к нему и спрашиваю его.
– Ты вот что, старшина! Пока тебя ребята не видели, отправляйся в тылы и меняй себе полушубок на новый. Увидят – засмеют! Интересно! – думаю я. Третий год воюем и походных бань у немцев не видели. Интересно, как у них эти ящики вошебоек устроены? Говорят, они применяют газовые камеры для людей и для солдатских вшей. К сожалению, нам ни разу не удалось их захватить.
Армейская баня или как мы их называли ее мыльно-дрочильный комбинат, очередное мероприятие в полку, взбудоражило солдат и ротных офицеров. Но как все необычное – как мимолетная суета, и вскоре прошло. Все успокоилось, все встало на свои места.
Со дня на день в полк ждали новое пополнение. В полк должны были прибыть две маршевые роты из тыла. Одна обычная, а другая штрафная. Мне разрешили из штрафной роты подобрать в разведку людей. Это не солдаты штрафники. Это уголовники из тюрем и лагерей, направленные в качестве штрафников в действующую армию. У них различные сроки наказания и различный срок пребывания в штрафной роте. От месяца до шести – как сказали мне в нашем штабе.
– Товарищ гвардии капитан, разрешите обратиться?
– Обращайся! – говорю я Сергею.
– Я слышал, вы будете подбирать ребят из штрафников?
– Да, мне в штабе разрешили набрать здоровых. А те из тыла маршевой роты одни старики и да слабосильные ребятишки.
– Товарищ капитан! Не берите шпану! Всякая мелкая шваль в разведку не годиться.
– Почему ты так думаешь?
– Я то знаю!
– Откуда ты знаешь?
– Я товарищ гвардии старшина сам там сидел. Меня товарищ старшина тоже взял из штрафной роты. Мне дали пять лет за одно дело, которое я оглоблей хотел разрешить. Я работал трактористом в колхозе. Подвернулся один под оглоблю, я трое суток не спал, на тракторе сидел. Не стал я терпеть от него брани и надругательства. Попалась под руки оглобля и ударил его.
– Ну и что?
– Что, что? Пять лет за нанесение увечья.
– Я раньше не говорил вам о своей судимости и что сидел. Думал узнаете, отчислите из разведки в пехоту.
– Ты что ж и по тюрьмам шлялся?
– Все испробовал, товарищ гвардии капитан!
– Ну и ну! Ты и блатной язык и воровские законы знаешь?
– Я два года по этапам ходил.
– Мне, Сергей, что ты судим или в тюрьме сидел не важно. Ты знаешь, что в разведке деловые люди нужны. Нам все равно кто, кем и где раньше был. На войне перед смертью все равны! Я имею в виду тех, кто воюет! Старик он, несмышленый мальчишка, вор, жулик или уголовник. Важно, чтобы он делал свое дело здесь впереди! Россия, Родина наша от нас этого требует!
– Ты говоришь лучше взять уголовника, чем мелкого карманника или шпану! Я согласен с тобой. Мелкий крохобор вор, он и в жизни и в деле ничтожен ничтожеством будет. Уголовное их прошлое меня не интересует. Мне важно, чтобы все было по честному и с прошлым сразу должно быть покончено. У разведчиков свои законы и порядки. Вор он или налетчик, важно чтобы он с первого дня все выполнял и знал свое место. Кто не хочет менять своих взглядов и привычек, кому дисциплина воротит душу и он хочет жить по настроению своему, тому в разведке делать совершенно нечего.
– Иди, сходи поговори с ребятами, отбери кандидатов, запиши фамилии, список мне принесешь. Потом мы вместе сходим, посмотрим поговорим, я посмотрю кого ты отобрал. Завтра штрафники прибывают в тылы полка, заночуешь у старшины, даю тебе сутки на это дело. Ребят подбирай не торопясь.
Через сутки, как мы договорились, Сергей вернулся назад. Принес список, но был смущен обстоятельством, что в полковую разведку подобрал всего пять человек.
– Маловато! Товарищ гвардии капитан!
– Ничего Сергей Иваныч! Крупинки золота из речного песка не горстями гребут. Лучше иметь пятерых надежных ребят, чем десяток прохиндеев и шкурников.
Я посмотрел на список. Фамилии, которые я увидел мне ничего не говорили.
– Сходим с тобой и посмотрим поговорим еще раз с ними. Где они сейчас располагаются?
– в лесу, километра два отсюда не доходя до штаба.
Когда мы вошли в лес, там шла стрельба из всех видов стрелкового оружия. Штрафники были одеты в солдатскую форму. На всех валенки, шапки со звездами, как положено солдату быть по форме. Здесь впервые они получили оружие, сидели кучками и стреляли с упора живота. Один лежал, уперев приклад ручного пулемета в плечо и полосовал трухлявый ствол поваленной ели. Другой целился в из винтовки в торчащий сук. У всех на лице сосредоточение, удовольствие и упорство. До сих пор их водили под дулами винторезов. Теперь они держали в руках боевое оружие. Это не солдатское полусонное пополнение из запасных полков, которые двигают ногами на фронт еле-еле, для них винтовки и пулеметы как мертвый и совершенно лишний груз. Это здоровая, плечистая, мордастая, и живая и настырная братия готовая завтра с утра ринуться на немцев вперед, чтобы все свое прошлое смыть с себя не мыльной водой в армейской бане, а своей кровью, очиститься сразу. От прошлого всего и стать полноправными среди нас после первого боя.
– Ну, кто тут у тебя первым по списку? – спрашиваю я Сергея.
– А вот, товарищ капитан, который смотрит на нас! – и Сергей показывает мне рукой на солдата.
– Коля Касимов. По национальности казах, девятнадцати лет.
Я смотрю на солдата. Широкое, круглое, молодое лицо.
– Хочешь в разведку? – спрашиваю я.
– Если возьмешь, не пожалеешь капитан! Я говорил с вашим ординарцем, мне подходит ваша работа. Важно, чтобы работа умная была.
– А как у тебя со зрением и со слухом?
– Я проверял, товарищ капитан. – вмешался Сергей.
– Ну ладно, по твоей рекомендации Сергея беру!
Еще трое подошли к нам, не дожидаясь пока я их позову. Я переговорил с каждым отдельно и сказал, что беру их в разведку. Сергей был доволен, что я не забраковал его кандидатов. Список я подписал и послал Сергея в штаб полка. Начальник штаба наложит резолюцию, я передам список командиру штрафной роты и заберу ребят. Пятеро вновь прибывших были распределены по группам захвата. Вскоре они стали ходить на передовую с разными заданиями.
Остальных штрафников планировали послать на штурм опорного пункта немцев которая шла вдоль опушки леса севернее Бондарей. Накануне на участок полка из 26 ГВАП /артполка/ подкинули две батареи пушек. На каждую пушку дали по полтора десятков снарядов. Артподготовка должна быть две минуты, после чего штрафники встают и идут в атаку. Штрафников предупредили, кто побежит назад, того расстреляют на месте. К чему им бежать назад, подумал я. Их дело решенное. Все они лягут мертвыми не добежав до немецкой проволоки. Какой дурак днем сует их туда? Их можно бы ночью пустить с угла леса, в обход колючей проволоки. Наши в отместку немцам решили пустить их именно здесь.
И вот настало утро. Небо на востоке едва тронул рассвет, в небо взметнулась красная ракета и в тот же миг ударила артиллерия и поднялись штрафники. За две минут они должны были успеть добежать до немецких позиций. Перед самой проволокой взметнулись взрывы. Казалось еще десяток шагов и наши будут в траншее. Но в тот же миг немцы поставили заградительный огонь. Первые фигурки штрафников уже миновали колючую проволоку. Немецкие снаряды уже рвались около них. И тут же всё снежное поле закрылось грохотом взрывов и затянулось дымом. Над снежным полем полетели трассирующие. Немцы били изо всех видов оружия. Сколько погибло штрафников пока никто не мог сказать. Разведка боем провалилась. В живых остались те пять человек, которые накануне были зачислены в разведку. С тоской и страхом смотрели они на покрытое взрывами поле, где остались лежать их собраться по штрафной. Ночью выползли первые раненные. Мертвые и тяжелые остались лежать под проволокой около немцев. Кто-то должен был за ними туда идти? А кто пойдет под огонь? И под немецкую проволоку вытаскивать раненых? У солдат стрелков это не принято. Послать разведчиков на верную смерть я бы т тоже не дал. О потерях в штрафной роте старались не говорить. Я пришел в штаб полка, там сидели (вертелись) офицеры штрафной роты. Их задача вывести на передний край своих штрафников, поставить задачу, назначить старших, которые поведут солдат вперед. А сами они во время штурма в атаку на противника не ходят. Это принято у них и они, когда остаются в тылу этого не скрывают и даже этим гордятся. Им за службу выслуга идет в два раза быстрее чем нам фронтовикам.
– Почему командир штрафников в штабе полка сидит (торчит) когда его солдаты идут в атаку? – спрашиваю я входя в землянку начальника штаба полка.
– У них так положено! – отвечает мне наш майор. Они сопровождают свою роту до исходного положения, назначают старших из числа самих штрафников. Роту в бой ведут их собратья.
– Мы отвечаем чтобы никто из них в тыл не сбежал! – вмешался лейтенант, командир штрафной роты.
– Кому война и смерть, а кому выслуга лет идет? Ну и порядки?
– У нас при наступлении рота обычно имеет до девяносто процентов потерь. – говорит лейтенант штрафников.
– А кто ваших тяжело раненных будет выносить? Кто за вас трупы с проволоки будет снимать? Или они так и останутся висеть на ней до весны?
– Ну зачем ты их так? – прерывает меня майор.
– Как зачем? Завтра мне прикажут на этом участке брать языка, и мои ребята должны любоваться трупами?
– Пойдут в дивизию и нажалуются на тебя.
– Мне на их жалобы наплевать. Пусть уберут свои трупы (из-под) с проволоки.
– Ладно, что-нибудь сделаем. – сказал лейтенант штрафников. Прошел день другой. С неба пошел легкий снежок. В передней траншее под Бондарями (из тех никто не появился) сидели солдаты нашего полка. Я позвонил ешё раз в штаб нашего полка. Мне ответили что офицеры штрафной роты из полка ушли в штаб дивизии и в полку они больше не появлялись.
– Чего ты переживаешь? Штрафники это особый контингент. С ними не обращаются особо ни как с нашими солдатами. На то они и штрафники! Понимать, а не переживать надо!
Так закончилась еще одна эпопея. Немцы попрежнему сидели на высоте севернее деревни Бондари.
* * *
– – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -
Разведка. Деревня Бондари. Коля Касимов.
– – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -
30 января 1944 года.
Разведка

Каждый раз с наступлением темноты я с поисковой группой ухожу за передний край, ползаю и лежу под немецкой проволокой. Я имею категорический приказ в кратчайший срок подобрать (в немецких окопах) объект и взять языка. Я должен разработать план ночного поиска, подготовить людей и на участке полка захватить контрольного пленного. Ко всему, что от меня требуют я давно привык и порядком устал. Им что? Они сидят в блиндаже, лаются (на меня) по телефону, спят по ночам, моются в баньке по пятницам, как евреи, выдумывают, чтобы еще такое придумать, а ты выполняй. Я торчу ночами в снегу, мотаюсь целый день на ногах, ткнуться, глаза закрыть некогда. У меня ночи длинные (зимние), дни короткие. Мне выспаться не дают. Вызывают (нотации читают), сообщают свои важные домыслы, а я должен, как мне сказано, меньше рассуждать и все выполнять.
А не послать ли мне их (на три буквы) к чертовой матери подальше?
После неудачного броска штрафной роты, командир полка потребовал от меня решительных действий.
Разведка боем, которую провели штрафники, не удалась. Теперь мы должны были (захлебнуться кровью) показать на что способны. Общего наступления, как я полагал, в ближайшее время не предвиделось, и командир полка решил активизировать оборону боями местного значения (силами разведки). Как-то надо было прикрыть провал операции. Командир полка требовал от меня отчета за каждую ночь, проведенную под немецкой проволокой. Я каждый вечер являлся к нему для доклада, а вечером снова выходил (и ползал под проволокой) за передовую. На снежном бугре наши дважды потерпели позорное поражение. Я должен был смыть с командира полка как-то это пятно. Один раз немцы уволокли из полка. Потом штрафники легли под немецкой проволокой. По замыслу полкового мне (предстояло привести четырех немцев, извлечь для компенсации, атака штрафников на участке полка захлебнулась кровью) на этом участке взять языка. Не много ли провалов для карьеры командира полка. (Штрафников бросили на бугор, чтобы воздать немцам должное за вылазки накануне. Но из этого ничего не получилось. Уж очень прямолинейно он пустил их на штурм высоты. Немцы обнаружили их и расстреляли в упор. Раненные, кто сам не мог уйти, были добиты потом днем из пулеметов. Теперь командир полка требовал от меня бросить разведчиков на немецкую проволоку. Мы должны повторить подвиг штрафников).

Я сопротивлялся как мог, тянул время, ходил и ползал вдоль проволоки, не находил ничего подходящего, где можно было бы сработать ночью тихо, доказывал, что провести операцию на хопок мы не можем. Для захвата траншеи у нас мало людей. (Пусть захват проведет дивизия. В их распоряжении целая рота разведчиков. Я ничего не могу сделать, у меня в наличии всего двенадцать человек). Сначала я уговаривал, потом доказывал, а потом встал на дыбы, взял и послал всех подальше. Валяйте сами, организуйте и посылайте. Вызовите Рязанцева, прикажите ему сегодня взять языка. Что вы из меня жилы тянете? Возможно я устал, а вы не дурей меня. Разработайте операцию и пошлите ребят на смерть. Но командир полка не хотел больше брать на себя провалы, срывы и потери. Им нужен был рыжий стрелочник, который отвечал бы при нужде за это. После каждого провала нужно давать объяснения. (Вот и решил он закрутить всё вокруг полковой разведки. Они специалисты разведчики, они несут потери, суются не туда, не могут взять без потерь языка). После серии срывов ребята идти на бугор за языком отказались. Вопрос стоял так, или очередной провал или массовый отказ. Я видел, что это назревало. Штабные дивизии вопросы разведки решали просто. Готовили (составляли) приказ, подписывали у начальника штаба дивизии, спускали его в полк, назначали срок, а потом хоть не рассветай. Люди шли, погибали и за это никто не отвечал. Командир полка искал возможности как-то оправдать происшедшие срывы. Он как всегда надеялся на авось. Мне дали три дня сроку на подготовку, чтобы я с ночи с 26 на 27-ое на участке севернее Бондарей взяли языка. Тянуть было больше нельзя. Я дал слово ребятам, что вот так мы идем последний раз. И вот наступила ночь, когда мы встали и пошли на позиции немцев. Кругом было тихо.

(Ничто не предвещало, что немцы чем-то встревожены и поджидают нас). Группа прикрытия первой вышла вперед, таков в разведке закон(таков заведенный порядок). Она легла под немецкой проволоки у проходах. Мы с Сергеем отошли несколько назад и легли в воронку в метрах двадцати от группы прикрытия. Отсюда хорошо было видно и вправо и влево (и вперед). Мы лежали в небольшом углублении и ждали когда мимо нас к проходу пройдет группа захвата. Мелкий снег щекотал лицо, я морщился, смахивал его с лица варежкой и смотрел по сторонам. Но и эта наша вылазка не увенчалась успехом. При подходе на исходную группы захвата, немцы неожиданно осветили ее с двух сторон. Одна за другой полетели осветительные ракеты, и тут же немцы открыли пулеметный огонь. Мы потеряли сразу двух разведчиков (из группы захвата). Через минуту по нейтральной полосе обрушился шквал огня. Пути отхода (к своим) нам были отрезаны. Стрельба продолжалась до самого утра. А наша артиллерия как всегда (скромно) молчала. Весь день мы пролежали в снегу под пулеметным и минометным огнем. Нельзя было повернутся на бок (даже шевельнуться). Еще два разведчика получили ранения. На следующую ночь оставшимся в живых и раненным удалось выползти к своим. Мы действовали по приказу и провал мог произойти в любой момент, потому что место (не) было (как следует изучено)для поиска не подходящее. Я сделал вывод, что мы сами (идиоты) дураки. Заставить ребят пойти на смерть, ради чего? Для отчета, который потом составит наш полковой, чтобы доказать, что полк ведет бои местного значения, что он руководит активной обороной? На потери и на солдат ему наплевать. Его больше заботило, что и как скажут сверху? Я понимаю, когда на смерть пустили штрафников. Их специально готовили и отобрали смыть кровью свои преступления. А почему добровольцы разведчики должны идти на смерть как штрафники? Ради кого они должны лезть под пули, чью славу они своей кровью обмыли?

Очередные наши потери и срывы выводили ребят из себя. Убитые товарищи угнетали. Нужны не дни, а недели (отдыха), чтобы ребята пришли в себя. Людям нужно время, чтобы разобраться в своих делах (и мыслях). Не успели мы вернуться, нас опять гонят за передовую. Какая-то горячка у наших штабных из дивизии и у нашего командира полка. Они снова от нас требуют языка. Ни дня ни отдыха, ни минуты покоя. Иди под пули и под проволокой ложись.Я понимаю, когда нужно проделать что-то рискованное, но при этом есть шанс остаться живым. А тут, просто иди, лезь напролом, потому что так надо ради прихоти какого-то (прохвоста) майора.
– Разведка дело добровольное – отвечаю я когда командир полка начинает орать на меня (и сыпать угрозы). – У меня заявления всех ребят о переходе в пехоту! Полковой разведки больше нет! Мне надоели ваши наскоки! После такого разговора вышестоящие инстанции успокоились (заткнулись). Не сколько дней нас не трогали. Дали нам выспаться и прийти в себя. Дня три спустя, ползая в нейтральной полосе, я (обнаружил) обратил внимание на отдельный окоп, расположенный в глубине немецкой обороны. Окоп как окоп! Он прикрывал открытый участок низины, (где нельзя было рыть землянки и окопы). В окопе, как потом мы выяснили (узнали), сидели два немца. Один светил ракетами (низину), другой стрелял по низине из пулемета. Вот, подумал я, подходящий окопчик. Прикажи сейчас командир полка выкатить пушку на прямую наводку, ударь по окопу осколочным, и одного пулемета и двух немцев нет. Но разве он решится на это? Вдруг немцы нашу пушку тут же подобьют. У нас пушки прячут в тылу.

Не думаю, что командир полка не может догадаться выставить орудия на прямую наводку. Но он знает прекрасно, что артиллеристы станут на дыбы. По начальству пойдут разговоры и перетолки. До командира дивизии дойдет. А наш не хочет, чтобы Квашнин выговаривал ему. Зачем среди начальников служб наживать себе противников и врагов. Разведчиков пошли, за них никто (с него не спросит) не отвечает. (Наши тоже стреляли из пушек. Но делали это всегда издалека. Выпустят десяток снарядов, зацепят за передок орудия и галопом на другое место, чтобы не засекли немцы. Постреляли! И пушки целы!) А что? Тактика активной обороны и без всяких потерь! Вот такие в нашем полку тогда творились дела. (Хотя мы и несли потери в мелких стычках и попытках взять языка, но немцы нас исключительно боялись. Не все у нас было блестяще и хорошо, как некоторые считали, писали в донесениях и хранили в официальных отчетах.) Подготовка к ночному поиску требует особой предварительной работы. При сплошной линии немецкой обороны куда ни ткнись, везде проволока в два кола, охрана день и ночь и ждут тебя (снаряды, мины и свинец) на каждом шагу немецкие часовые. К отдельному немецкому окопу сразу так не подъедешь. Его нужно как следует рассмотреть, полежать, послушать, изучить знать точно, сколько немцев в нем сидят, чем они вооружены, кто их и откуда прикрывает и какой силы огонь может быть с их стороны, как простреливается местность, есть ли надежные подходы, где вблизи окопа есть укрытия, когда у немцев происходят смены, как регулярно и часто светят они ракетами. Это только сведения о противнике. А нужно знать им свои действия досконально. После неудачных попыток и срывов нужно дать успокоиться немцам. Они сейчас сидят и таращат глаза, боятся что мы сунемся где-либо в новом месте. А наше начальство об этом ничего не хочет знать.

Командир полка взбеленился, (уперся) требует своего. Но с ним дело покончено. Я ему сказал, что не пошлю ребят на неподготовленный объект (нахрапом). Нужно будет. Будем готовить месяц. Или сам готовь его. Я случайно узнал, что в разведотделении штаба дивизии появился знакомый человек, бывший комбат нашего полка Чернов. Сейчас он исполнял обязанности начальника отделения. С приходом Чернова в разведотдел дивизии и закрутилась вся эта кутерьма. Командир полка во что бы то ни стало захотел ковырнуть немцев около Бондарей. Кто-кто, а Чернов не задумываясь отправил бы нас удовольствием в преисподнюю. Он не только хотел угодить нашему командиру полка, но не мог простить мне, что однажды я водил его с батальоном в тыл к немцам. У Чернова чесались руки. Он, как я слышал, заверил начальника штаба дивизии, что наведет порядок в полковых разведках и заставит их каждую неделю брать (таскать) с переднего края немцев языков. «Одного, двух офицеров под суд и все заработают.» Не успели мы с проволоки снять двух убитых, как из штаба дивизии пришел новый приказ. С 30-го на 31 января взять языка и об исполнении приказа доложить (в штаб дивизии). (Донести письменно в штаб дивизии, что разведчики отказываются выполнять приказ, это взять удар на себя.)
– Знаешь чего, Федор Федорыч! Не будем лезть на рожон! Плетью обуха не перешибешь! И этому проходимцу ничего не докажешь! Делай Федя своё дело, не торопясь! Самое главное сейчас выиграть время. Разговаривай с этими прохвостами учтиво.

– Хотя знаю, что это противно тебе. Я скажу Сенченко, чтобы положил чучело около немецкой проволоки. Пусть несколько раз дернут телефонным проводом, так чтобы слышан был звон немецких банок пустых. Проделаем это на самом правом фланге. Немец такой откроет огонь, что дня три будет грохот стоять, может от нас и отстанут.
– А ты готовь спокойно свой объект. Мы ходили каждую ночь под немецкую проволоку (и лежали там вынюхивая там контрольного пленного), а полковое начальство парилось в баньке, хлестало себя по бокам (и заду пахучими вениками). Эти венички угодливые тыловики настрогали еще с осени. Теперь они были в засушенном виде. Веники возили все это время в обозе. Боевого состава во взводе разведки осталось восемь человек. Ребята были измотаны, ползали у немцев под проволокой целыми ночами. (Без этого нельзя, не подготовить объект). Как-то утром после очередного выхода ко мне подошел Касимов. Тот самый из штрафной роты, которого подобрал Сергей.
– Товарищ гвардии капитан! Двое нас. Мы пойдем на тот окоп.
– Не возражаю, – ответил я – подбирай себе напарника. Подберешь, приступай к изучению объекта. Что, как делать я расскажу, и сам с вами схожу. Готовить объект это ползать туда, лежать каждую ночь, изучать, смотреть, прослушивать. Потом возвращаться перед рассветом, докладывать данные и записывать. Днем кто-то не спуская глаз должен смотреть за окопом в стереотрубу. Иногда за объектом приходиться наблюдать целую неделю. Нужно изучить немцев, их повадки и привычки. Нужно точно знать время, когда меняться они. Из двух смен нужно выбрать самую подходящую. Наметил жертву, изучил ее досконально, стереги, чтобы ее никто не спугнул. Ты с немцами должен как бы сжиться. Знать все про них. К примеру, спрошу я тебя, что сейчас делают твои немцы. Ты должен подробно мне все рассказать. Нужно знать по времени когда один из них бросает ракеты. Когда они начинают зябнуть. Когда их заедают вши. (Когда он руку запускает под рубаху и скребет объеденное место вшами на боку). Нужно знать, что в это время делает пулеметчик. Когда он стреляет. Куда он целиться. Сколько патрон пускает в нашу сторону. Нам нужно знать их ритм и режим

Присели они закурить. Огня от сигареты отсюда не видно, а ты мне докладываешь. К кусту можно во весь рост (идти, мои немцы сидят на корточках, у них перекур) подойти. У немцев сейчас перекур. Нам нужно знать все. Иначе мы сделаем промах, совершим грубую ошибку, понадеемся на авось, попадем под огонь и отдадим богу душу. Взять живого немца без потерь дело сложное. Вот задам я тебе такой вопрос: Смена у немцев происходит после ужина, когда стемнеет. Мы это по опыту знаем. Вот стоит твой немец в окопе (и воняет), и пойдет. Скажи мне, (закрывает он при этом глаза или смотрит себе под ноги. Может когда он поднатужился, его и хватать) может он присел и закрыл глаза. Видишь сколько много вопросов встают перед разведчиком когда он готовит объект. Касимов выбрал себе в напарники, как ни странно, нашего повозочного Валеева. Я конечно не возражал. Но был удивлен. Во взводе разведки были достойные ребята, с богатым опытом. Но как говорят, разведка дело хозяйское. Тот, кто идет на захват, тот и выбирает себе подручного. Тот, кто возглавляет разведгруппу, тот и определяет план действий. Я могу лишь посоветовать или подсказать что либо. А он хочет примет мой совет или сделает по своему, это его полное право. Навязывать что-либо я не могу.
– Почему ты выбрал его? – спрашиваю я Касимова.
– У меня с ним контакт! С другим я не могу!
– Пусть идет! Я скажу старшине, что бы отпустил его на это время. А там посмотрим! Считай, что завтра с утра он в полном твоем распоряжении.
– Сколько тебе нужно на подготовку объекта?
– Неделю не меньше капитан. Перед смертью неделя не так уж много времени. (Смертнику в тюремной камере больше дают.)
– Сколько нужно будет столько и готовь. Я вас с Валеевым временем не ограничиваю.
– Может больше недели, а может и меньше. Как пойдут дела? Я потом скажу. Вот кину камушки – и назову точно день, когда пойдем на захват.
– Какие еще камушки? Ты гадаешь (что ль) на них?
– Ты капитан все верно сказал. Сорок один камушек, есть такое восточное гадание. Их бросают в определенные дни. Каждый день их нельзя бросать. Потерпи недельку, я тебе сам срок назову.
– Ты Касимов из уголовников, прошел огни и воды, а сам веришь какую-то мистику (ерунду какую-то несешь). Тут при взятии языка не камушки нужны. (Камушки тут ни к чему).В нашем деле характер нужно иметь и мозги, чтоб хорошо работали.(Вот к примеру: Я дам тебе приказ и командира полка новые валенки унести. Другой попрется сразу на КП в блиндаж, а часовой его туда не пустит. А тебе сообразить надо. У командира полка тоже валенки бывают мокрые, когда его вызывают в дивизию. Валенки сушить надо. Командир полка велит это сделать своему ординарцу. Но он ему не разрешит вонять ими в блиндаже на КП. Скажет, пойди в землянку к связистам и там посуши. Значит тебе нужно зайти к связистам погреться. Часовой около их землянки не стоит. Затравишь сыграть с ребятами в картишки, втянешь ординарца. Скажешь валяй поиграй,а я посушу. Наденешь новые валенки и был такой. Или еще вариант: командир полка по пятницам моемся в баньке. Взял охапку дровишек и пошел прямо туда. Мне дров велели натаскать. Сюда чтоль их складывать. Посидел, покурил.

А как ушел ординарец хозяина хлестать веником, взял валенки подмышку и иди спокойно. Потом по тылам полка, кинутся искать. Кому в голову придет, что ты выполнял важное задание на соображение. Это я тебе для примера сказал, а то ты еще сообразишь и штаны подбитые цигейкой у командира полка сопрешь. На, мол, капитан. Для тебя старался. Парь яйца. А то ты все время на снегу в каких-то дырявых ватных ползаешь. Верно я говорю. В нашем деле первое разумом нужно брать.)
– Скажи мне Касимов, почему тебя Колей зовут? Ты наверно имеешь другое имя.
– Да, раньше меня маленького звали по другому. А потом когда в тюрьму попал, стали звать Колей. С тех пор я себя Николаем считаю. И в документах у меня теперь Николай.
– А откуда ты так хорошо по-русски говоришь?
– В тюряге и лагерях научили. Я капитан, там многому научился. А теперь на фронте я себя (как все) почувствовал человеком. Ты капитан всем нам как старший брат родной. В неволе все было совсем по другому. Расскажу тебе про камушки, а потом как-нибудь на досуге про то как заключенные люди живут.

– У меня были мокрые дела. Последний раз я убил кассира и взял у него всю выручку. Мне дали вторично десять лет, за побег из лагеря пять лет прибавили. Судили меня. Сижу я в лагере, отбываю срок. Мокрые дела, суды, все позади. Смотрю кругом тайга. От ближайшей железной дороги верст пятьсот, а то и больше (будет). Слышал про такие места? В пятницу молюсь и бросаю камушки. Они всегда при мне. Бросаю камни и мне сегодня бежать. Что-то думаю не так. Ведь только что все колоны вернулись в закрытую зону. Работы отменены. Слушок прошел. У начальника лагеря жена _ от родов умерла. Будем сидеть в землянках, охрана усилена. Сидим по нарам! Как я побегу? Вдруг слышу дежурный команду сиплым голосом подает. Первый барак! Выходи в баню строиться! У меня так и сердце зашло. Вот оно! Это бывает, когда очень хочешь. Если из бани не убегу, то другого случая не будет. Совпадения редко бывают. Может другого случая придется долго ждать. Погнали в баню. Я все тороплюсь. Мелким шажком вперед тянусь. Переднему на пятки наступаю. Мелкую прыть на бег готов сменить. Нет! – думаю. И ловлю себя на этом. Заметит конвойный, остановит колону, заподозрит чего, повернет обратно, вот тебе и камушки выпали. Они смотрят на всех и все замечают (по одному человеку зеку). У них глаз на этом набит. Взял себя в руки и успокоился. Видно когда долго едешь свободы, заторопился, не выдержал. Заводят нас в баню. Это длинный рубленный из бревен сарай с маленькими окошками без стекол для света. Зеки могут стеклом порезать кого. Сбросили мы с себя грязное бельишко и голыми просунулись в дверь. Оглядываюсь кругом, рубленная стена, вдоль неё лавки и деревянные шайки разбросаны. Тут бочка с4 горячей водой, там чугунный бак налитый холодной водой. При входе схватил я кусок тряпицы, это вместо мочалки и кусок мыла в палец размером. Иду толкаюсь дальше, ищу свободное место у стены. Пар стоит над потолком. Смотрю сквозь туман, от пола на метр видно. Кругом белый пар стоит. Вижу только голые ноги и тела зеков до пояса. Смотрю в стене, где кончилась лавка, у потолка пробивается свет (с наружи). Подхожу ближе. Это маленькое, в одно бревно оконце. Хватаюсь за край, подтягиваюсь на руках, кладу голову на бок и высовываю ее наружу. Голова наружи, тело внизу, а шея в проеме. Верчу головой, налево стена, направо стена, и больше ничего не вижу. Ни проволоки, ни собак, ни часовых. Одна тайга на тысячу верст. Подтягиваюсь выше, сухие плечи в дыру не лезут. Поворачиваю, голову, вынимаю ее из дыры и опускаюсь на лавку. Мне нужно намылить плечи, грудь, спину, бока, живот и бедра. Вот он момент! – думаю я. Впереди тайга на тысячу верст, а я голый, намыленный и в руках с мокрой тряпкой. Тряпку не бросаю. Может еще пригодиться. Подтягиваюсь на руках, обдираю грудь, живот и плечи, проскальзываю вниз, падаю на руки, вскакиваю на ноги и бегом ухожу в тайгу. Бежал без отдыха километров двадцать. Мне все время слышалось, что сзади погоня и какие-то голоса. Бегу, падаю, обдираю ноги и руки, поднимаюсь (на ноги и) снова и бегу. На другой день в тайге я встретил старуху. Она собирала кедровый орех. Дала мне поесть. Сытный такой. Несколько горстей съел по дороге. Довела она меня до лесной сторожки, дала мне во что одеться, хлеба на дорогу и ореха насыпала. Так я и шёл по тайге пока до железной дороги не добрался. Осмотрелся кругом, дошел до первого полустанка. Забрался в товарный вагон с дровами (и дальше я ехал товарными вагонами). Города и большие станции обходил стороной. Так я добрался в свои родные места.
– И подолгу ты кил на свободе?
– Когда год, а когда и полгода. Последний раз мне за ограбления и за побеги дали вышку. Я послал в Верховный Совет просьбу о помиловании. Меня помиловали и определили на шесть месяцев в штрафную роту. Вот я и попал к вам.
– Сколько же тебе лет Касимов?
– Девятнадцать, товарищ капитан. Я улыбнулся и покачал головой. Трудно было сказать по его смуглому лицу шестнадцать ему или двадцать.
– А как же ты без документов на воле жил?
– Мне доставали за деньги справку из колхоза, что мне исполнилось шестнадцать лет. Писали, конечно, другую фамилию и имя. Кто может сказать на лицо, сколько мне лет? Вот такая история с камушками, а вы не верите.
– Посмотрим! Посмотрим! – сказал я, – Как ты по камушкам ты возьмешь языка. На этом наш разговор закончился. Через неделю Касимов опять подошел ко мне.
– Вышло! Товарищ капитан! Будет большая удача. Когда будет не знаю. А мне выпала подушка.
– Какая подушка?
– Я сам точно не знаю. Может ранит, а может убьет?
– Причем здесь подушка?
– Подушка будет! Лежать мне обязательно на госпитальной, койке или в земле. Завтра вечером узнаем! Прошел день, наступила ночь. Еще прошел один короткий день. Он был короткий для меня. А для него он был, по-видимому, тягостным и длинным. Дождавшись темноты, мы с Сергеем Курдюмовым вышли за передний край.

Мы постояли на месте, осмотрелись кругом, прилегли на передний развал воронки и стали наблюдать за немцами. Все было как прежде. Вскоре в воронку явился Касимов и его напарник Валеев. Мы присели на корточки и молча посидели. Я не стал давать указания и обычные наставлёния. Пусть все решают (и делают) сами. (Сейчас каждый думал о своем. Подняться и встать это тоже решающий момент. Каждый по своему успокаивает нервы. Пока ты не встал у тебя в голову лезут разные мысли. Каждый думает о смерти. Что будет когда ты встанешь и пойдешь? Но когда встал и сделал несколько первых шагов сомнения и страх пропадают. Ты встал и решился на всё. От первых нескольких шагов зависит многое. Но вот подходит момент, когда надо встать и решиться.)
– Возьму языка, судимость сразу снимается? – спрашивает (наклонившись ко мне) Касимов.
– Как договорились – подтверждаю я. Касимов повернулся на бок. Мы с Сергеем лежали (на край воронки) посматривая в сторону немцев. Очередная осветительная ракета повисла в ночном небе. Сейчас она пролетит свой путь и огарок ее ткнется в снег и погаснет. Мерцающий свет ракеты побежал перед глазами. Ракета зависла в воздухе, потеряла скорость и медленно полетела к земле (вниз). Вот она ударилась в снег, завертелась на месте (и тут же погасла). На снежное поле надвинулась темнота. Касимов и Зал ее в, как призраки поднялись. Они стояли (к нам спиной) касаясь друг друга локтем. Касимов сделал первый шаг, Валеев немого пригнулся и подался за ним. Они, не оглядываясь, пошли на пулеметный окоп. Теперь их внимание было приковано к немецкому окопу. На них были одеты чистые маскхалаты и вскоре они растворились в ночи. По нашему расчету они должны были успеть дойти до одинокого (стоящего) куста и лечь за ним, пока (очередная осветительная ракета не вспыхнет перед ними в ночном темном небе. За кустом они будут лежать и ждать очередную ракету) немцы не пустят очередную ракету. Для верности две ракеты они пропустят,а когда третья погаснет (и шлепнется в снег) они встанут и пойдут (на немцев). Немцы со света в ночной темноте будут плохо видеть (не увидят). К ним в такой момент можно подойти (незамеченными) вплотную. Это не раз нами было предварительно проверено. (Каждый из них на практике убедился в этом сам). Касимов и Валеев лежали в снегу и пускали ракеты, а мы с Cepгеем (в чистых маскхалатах) ходили на них. (Человек должен быть уверен в своих действиях. Иначе нельзя. Мысли. Что может быть быстрее мысли? За секунду себе представить целую картину. Как-то мне нужно было проверить новичков на выдержку, на xхрабрость и трусость. Человек должен на немца спокойно и хладнокровно идти. Пускать их без такой проверки в боевую обстановку тоже нельзя. Мало ли дело как может сложиться. У нас несколько в тылу за лесом стояла пустая деревня. Тыловики почему-то в ней не стали располагаться. Видно близко она была от линии фронта и они побоялись немецких обстрелов… Нам туда не по дороге было ходить. Так и стояла деревенька пустая в стороне. Вызвал я старшину и велел ему приготовить немецкий пулемет и ленты с трассирующими. Пойдешь с Валеевым в крайнюю избу. Выбьешь окно и из окна в нашу сторону будешь постреливать трассирующими, а Валеев будет бросать осветительные ракеты.)

(Сделаешь все, чтобы как у немцев было. Мы ляжем в низину, а ты по краю низины короткими очередями бей. Я выведу проверять новичков на вшивость. Покажу им передний край немецкой обороны и потом пошлю крайнюю избу где вы лежите брать. Чтобы с твоей и с нашей стороны не было потерь, ты минут пятнадцать не дай нам поднять головы. Бей по самому краю, чтобы рикошетом пули визжали. Потом Даш одиночные Та-та-ти-та-та! И из избы, дадите хода. Пулемет бросите на месте. Пусть думают что они трофеи взяли. Трем новичкам был дан приказ подползти к крайней избе, в окна забросать гранатами. Возьмете с собой фонарики. У немцев внутри коптилки обычно горят. А после взрыва гранат ворветесь туда в полной темноте. От взрыва гранат всех не перебьет. В избе будут убитые, живые и раненые. После броска гранат, тут же ворвётесь вовнутрь. На всю операцию даю вам одну минуту. Немцы могут из соседних домов крайний дом огнем обложить. Вот тогда вам оттуда не уйти. Ворветесь в избу осветите по углам фонариками, возьмете живых или раненых, прихватите пулемет и сразу бегом назад. Мы вас здесь в лощине будем ждать. Все ясно? Завтра выходим! Вот так однажды пришлось проверять новичков. Старшине я сказал: отойдешь во вторую избу, дашь по крыше длинную очередь из автомата. Для полного впечатления. /I смотри никому ни гу-гу! А то потом над ними смеяться ребята будут. Валееву прикажи строго на строго держать язык за зубами. А если новичков не проверить на мондраже, можно всех людей из-за одного погубить.) На Валееве и Касимове были одеты новые маскхалаты, с накидной белойt марлей на лицо. Оружие было обмотано (белым) бинтами. Они как призраки поднялись (на снегу) и исчезли в снегу (из видимости не сделав и двадцати шагов). Я смотрел им вслед и вслушивался в ночное пространство. Кругом (по-прежнему) все было тихо и я мысленно отсчитывал их шаги. Вот они подошли, к кусту и легли (в снег). Правее нас, в стороне пролетела кривая нитка трассирующих. Я напряженно вглядываюсь в неясную, снежную даль и пытаюсь ловить (любое, даже) едва заметное движение, или звук. (Но кругом все неподвижно и тихо). У Косимова пока все идет хорошо. Ничего другого в такой тишине не может случиться. Я представляю себе этот куст. Мы ходили с Касимовым туда предварительно. (Я вижу все мелкие детали как наяву. Я представляю как они там спокойно лежат и ждут, как словлено третью ракету.) Вот быстро набирая скорость (высоту) в небо взметнулась первая (мерцающая, дрожащим светом осветительная) ракета. Я, прищурив глаза, провожаю ее полет (по восходящей траектории). Вот горящий огонь ее с кривой дуги сорвался (вспыхнул) и разлетелся на мелкие куски, горящие осколки (и угольки) вертикально полетели к земле. Немецкий пулемет по-прежнему молчал. Опять наступила темнота, опять начались томительные минуты ожидания. (Теперь в стороне слева пролетела лента горящих и светящихся пуль). Над головой высоко в небе прошуршал немецкий снаряд (дальнобойной пушки). (Темнота и мерцание снега снова расплылись перед глазами. Мне даже в такой момент показалось, что перед нами стоит немец с автоматом в руках, показывает мне стволом, чтобы я встал и сделал руки хенде хох!) Сергей заерзал от холода и неподвижной позы. По моим расчетам сейчас в небо взметнется вторая ракета.

Мы её пропускаем и ждем третью. Когда третья взлетит и погаснет, ребята встанут и пойдут на окоп. Вот она вскинулась из темноты, и до нас долетел хлопок. Яркий след прочертил в темном небе кривую. Снежные бугры и их тени побежали быстро (полетели неестественно) назад. (Потом) Светлое пятно на снегу (понеслось вперед) замелькало и закачалось. (И вот) Ракета наизлете. (Меркнет её след, она ударяется в снежный настил и исчезает в снегу). Из немецкого окопа в нашу сторону летит короткая очередь из пулемета, пуль десять трассирующих (не больше). Что это? Случайный выстрел, (дал очередь) на всякий случай? (просто так?). Или немец обнаружил наших ребят? Стрельбы больше нет. Трескотня не последовала (пули провизжали, и всё стихло кругом). Если бы он обнаружил ребят, то тут бы взревела немецкая артиллерия и вся передовая. Тут бы такой гром и грохот поднялся, что живого места не осталось бы на снегу. А тут короткая очередь в десять пуль и опять тишина.и полная темнота. Успели они (двое) подняться в рост до стрельбы? Слышу как у Сергея стучат в кармане (со звоном) карманные часы на цепочке. Впереди все по-прежнему тихо (непроницаемо и недвижимо). Сколько времени прошло (пролетело) с момента, когда погасла ракета? – спрашиваю я себя и мысленно хочу представить что там происходит. И вот (вдруг) из снежной ночной пелены вырвалось едва заметное очертание идущей фигуры. Она медленно двигалась на нас. Если бы она застыла на месте, я бы ее сразу потерял из вида. А она шла (покачивалась) прямо на нас. Теперь я ясно вижу одного из наших ребят. На снежном фоне белым пятном мелькает его маскхалат. (Покачиваясь и тяжело дыша он подходит всё ближе).
– Идет кто-то один! – говорю я Сергею.
– Второй наверно сзади тащит немца! – отвечает мне Сергей.
Я привстаю на колени. Перед нами во весь рост поднимается фигура Валеева. Он бесшумно спускается на дно воронки (укрытия) и подобрав ноги ложится на бок.
– Касимова убило – говорит он, несколько откидываясь назад и тяжело дыша.
– Как убило?
– Так! Восемь пуль в грудь! Мы встали вместе. Я стоял рядом. Не успели шагнуть. Немец дал очередь. В меня ни одной, а ему подушка! Одна короткая очередь прямо в упор! Смотрю Касимов присел, а я стоял рядом. Пули прошли, маня не задели. (Тогда я тоже упал). Ну думаю, сейчас начнется! Весь снег кругом изроет! А немец, пустил одну очередь и замолк. Я к Касимову вплотную приткнулся, по вернул его на спину, смотрю на груди в маскхалате восемь рваных дыр. Нагнулся над лицом, а он уже не дышит. На мне хоть бы телогрейку задело. А ему вся очередь в грудь пришлась. Вот, товарищ гвардии капитан (все) как вышло!
– Иди отдыхай! Передай старшине, что бы водки тебе налил (тройную порцию выделил). Потом я зайду, поговорим еще. Я послал Сергея в ротную траншею и велел ему от командира роты по телефон немедленно вызвать группу Сенько. Серега быстро сбегал в ротную землянку и вернулся обратно. Вскоре явилась и группа разведчиков (во главе с Сенько).

– Пошлешь двух ребят по следам до куста. Нужно вынести тело Касимова. Немцы от куста метрах в двадцати. (Нужно) Действовать осторожно и скрытно! Пусть подползут, перекинут под руки петлю телефонного провода, оставят концы метров на тридцать, а потом вытянут (его потихоньку. Как всё сделать по тихому, мне вас не учить!) Немцы не знают, что наши были под кустом. Мы с Сергеем уходим, вы остаетесь здесь. Тело Касимова часа через два вынесли.Разведчики принесли его в тыл. Слева от шоссе на участке от Лососины на Панове, недалеко от моста, мы взорвали мерзлую землю и вырыли неглубокую могилу. (Мы по всем правилам похоронили своего погибшего разведчика). Дали залп из автоматов и поставили на могиле фанерную дощечку, на которой чернильным карандашом, сделали, надпись:
– "Коля Касимов, гвардеец разведчик, погиб в боях за Родину под деревней Панова 52 гв. полк. 17 гв.стр. дивизии.".

Ребята были подавлены этой новой потерей. Мертвые товарищ всегда наводят тоску. Смерть разведчика действует угнетающе, вызывает протест. А тут не успели мы засыпать землей – убитого, как из штаба дивизии последовал новый приказ, взять языка. Я получил еще один втык за безделье. Но дело было не во мне. Дело было в другом. Об этом речь пойдет насколько позже. Теперь я думал о провале задуманного под кустом. Как случилось так, что Касимов не сделав и шага получил случайную очередь из пулеметам грудь. Все ли я учел и все ли я до мелочей продумал. (Не из-за этого ли куста мы и совершили ошибку?) Куст, как куст! Торчит на полметра чуть выше из-под снега. Тонкие, голые ветки качаются на ветру. Их не так много. Из них метлы не сделаешь. Всего с десяток торчит. Мы втроем, Касимов, Сергей и я, ходили к кусту, лежали за ним, наблюдали за немцами. Тридцать метров, расстояние до окопа небольшое, главное тихо и незаметно подойти и лечь. Я в Белом ходил и в двадцати метрах от немцев. Ходил по тропе, которую они видели и на которой они нас каждую ночь ловили. Мы строем ходили под куст и все было тихо! (Обошлось без единой пули в нашу сторону). Бот так же ночью, как и сейчас шел мелкий снежок, щекотал подбородок и нос. Мы лежали и смотрели, как немец бросал осветительные ракеты. Видели, что иногда пулеметчик пускал в сторону нашей обороны очереди трассирующих. До немцев было рукой подать. Каких-то (двадцать или) тридцать метров. Ночью расстояние сокращается. Ночью его трудно (точно) до метра определить. Ошибка часто бывает в десяток метров. Считаешь что двадцать, а днем глянешь, там метров тридцать будет. Смотришь на неясный контур окопа, когда не стреляют, расстояние одно. Посмотришь на всплески трассирующих или на полосу взлетевшей ракеты, кажется, что до окопа всего десяток шагов. Лежишь и смотришь на искрящийся след пуль, на темное небо и на непроглядное мерцание снега. Сейчас у меня возник один вопрос, почему мы легли за куст и не использовали подход к немцам с открытого места! От пуль куст все равно не спасет, а внимание немцев привлекал постоянно. К кусту могли подползти русские и затаиться за ним. Как это раньше немцу в голову не пришло. А мы, идиоты, так и сделали. Нужно было подвесить к ветке клок белой тряпицы. Подвесить ночью тихо и уйти. Утром немцы увидели бы ее, как она на ветру болтается. Тряпица их внимание как магнитом притянула бы к себе. Ориентир, мол, русские повесили себе. По ночам за этим кустом следует усилить наблюдение. Они таращили бы глаза на этот куст. Мы могли подойти к ним на двадцать метров с любой стороны по открытому снежному полю. За кустом, ты знаешь, люди могут лежать. А в поле ветра ищи! В какую сторону будешь вглядываться? Куст стоит перед тобой и мозолит глаза. На кусте тряпица болтается (которую ночью не видно. Здесь они и должны прятаться, когда подползут и лягут). Нужно следить за кустом. Но мы не пошли открытом снежным полем, К кусту нас притягивали какая-то сила (хотя это было явно не разумно). Мне казалось, что мы все продумали и предусмотрели, но одной мелочи главной и решающей не заметили. Этот куст для нас имел (один очень) важный момент. Подойдя к кусту, (мы точно выходили) мы знали что точно вышли к немецкому окопу, знали расстояние до окопа. (К кусту были протоптаны в снегу следы). Я знал по опыту, что ночью можно подойти во весь рост и немец заметит. Идти нужно медленно, не делая резких движений. Какая-то неведомая сила тянула нас к этому кусту. (Когда мы стояли в подвале в Белом, он бил нас тогда на тропе. Он не видел нас, когда мы по ней шли, но знал, что с наступлением темноты мы должны появиться на ней. Он бил наугад вдоль тропы и мы каждую ночь теряли солдат. И что поразительно, никто не хотел свернуть с этой проклятой тропы. А можно бы было сделать крюк и пройти в подвал со стороны открытого поля. Все знали, что на тропе их поджидает, а сделать полсотни шагов в сторону никто не хотел. Всех как нечистая сила тянуло на эту тропу.) Отчего так бывает. Почему человек не способен мыслить широко (этого понять). Опыта нет? (Все лезут под пули, значит другого пути в подвал нет. Что? Не хватает ума или воли? Взять и сделать всё наоборот. Взять немцев. Немцы, те думают только по уставу. Их пугает наша расхлябанность, потому, что мы на войне делаем не логичные ходы и выпады. Не тогда, когда нужно, не там, где они их ждут. Тут по логике вещей мы должны наступать, а мы гоняем вшей, сидя в глухой обороне. И наоборот, немцы нас ждать не ждут, а мы тут как тут. Логика хороша тогда, когда мы делаем не логичные для противника.) Я тысячу раз об этом думал и вот попался на этом жалком кусте, попался и загубил жизнь человека, (а он очень хотел, чтобы сняли с него судимость). Жизнь разведчика это всегда ошибки. Легко рассуждать потом, когда в голове все (разложено по полочкам) предельно ясно и четко. А когда готовишь ночной поиск, много неизвестного, много субъективного своего. Кажется все проверил и продумал, а сомнения мучают тебя. Вон у старшины, никаких сомнений (и раздумий) по поводу жратвы. Пришел раздал, разлил баланду по котелкам. Проблема одна, не обделить кого. А когда дело имеешь не с котелками и черпаком, когда от твоих рассуждений зависит жизнь человека, когда приходиться решать задачу со (двумя) многими неизвестными (жизнь и смерть) тогда поскребешь затылок. (не от того что тебя заели вши. Вся наша работа – неуверенность, сомнение, ожидание смерти и страх за людей). Когда человек случайно попадает под поезд или машину (или трамвай) о смерти он не думает, страха не испытывает. И у нас бывает смерть легкая, когда тебя убивает шальная пуля или случайный снаряд. Ты сидишь где-нибудь или идешь, думаешь, хорошо бы сейчас чего пожрать. Мысли приятные. Какая к черту смерть, когда ты не евши!

Смерть мучительна тогда, когда ее ждешь, когда идешь ей навстречу, считаешь шаги и говоришь себе – Ну вот и все! Каждому в такие моменты бывает страшно, но страх этот переживает каждый по своему. На что-то надеешься, вдруг пронесет! Сама смерть не страшна, тягостно ее ожидание. Никому не хочется умирать. Может пуля пролетит мимо, может только заденет? А когда смерть близка и ты обречен, когда видишь что деваться некуда, (тебя она уже не страшит, ты принимаешь спокойно её, чтобы скорее избавиться от переживаний, тягостного бремя). Каждому было ясно, что на войне, солдаты делают только одно (что убивают друг друга. Но успеешь выжить – убей первым его! А разведчики на войне, к сожалению, немцев не убивали. Мы сами несли потери и за это не мстили, нам нужны были живые немцы. Мы трупами не питались. Иногда мы, конечно, стреляли в немцев, били без промаха, но это было не главное наше занятие).
Не успели мы похоронить Касимова, к вечеру из дивизии пришел приказ. В ночь на 30-е взводу пешей разведки взять языка.
* * *

В разведотделении дивизии исполняющим обязанности назначили (знакомого мне А. Чернова) бывшего комбата нашего полка Чернова, (этого типа) его я (прекрасно) знал. Впервые мы встретились с ним в лесу около озера Жижица, когда мы стояли в резерве армии, и дивизия получала пополнение перед наступлением на Духовщину. Несколько раз я с ним встречался и потом (и видел в нем с первого дня раболепие перед начальством, прыткость и льстивость). Попав в разведотделение штаба дивизии, он пообещал вышестоящей инстанции, что не только в кратчайший срок наведет порядок в полковых разведках, но и по графику будет брать языков. Взяв сразу решительно и круто, он не (давал никому ни дня, ни отдыха) считаться с неудачами и потерями, которые мы несли. Не все зависело от нас. (В основном все зависело от)У немцев была…продумана по организации обороны. (Если бы немцы где дали маху, мы тут же воспользовались и без шума сделали бы свое дело. А он как жеребец, сорвавшийся с узды, требовал своего и доходил до истерики.) Чернов перед начальником штаба дивизии дал клятвенное обещание поломать старые порядки и по масштабу (добыче) взятых языков вывести дивизию на первое место в армии. Чернов тот самый бывший комбат, которого я 10 ноября 43 года водил с батальоном в тыл к немцам. Тогда он не мог самостоятельно перейти с батальоном немецкую линию фронта. Тогда он прикинулся дурачком. А в дивизии простачков и дурачков ценили. Из тыла он вышел с группой солдат из трех человек, бросив две роты около высоты на произвол судьбы. Две роты полка тогда назад (так никогда) не вернулись. (Он сумел тогда втереть очки командиру полка. Немецкие танки атаковали нас в тот момент. Позиции полка висели на ниточке. После такого). Роты естественно были списаны как боевые потери. С тех пор в полку сменился не один командир полка. (И он сумел втереться в доверие к поледнему). Последний командир полка Бридихин рекомендовал его на работу в штаб дивизии. И теперь Чернов попав во второе отделение штадива, вдруг почувствовал себя специалистом по разведке. (Мои ребята даже об этом не знали. Это не наше дело ворошить прошлое). Тогда он не мог по карте сделать пяти километров (, а теперь он кричал и хотел нас взять на испуг). Командир полка тянул его (по лестнице вверх) и…, помогал ему карабкаться вверх (по трупам), он хотел иметь в дивизии своего человека.
– Ты чего орешь? – одернул я его однажды, при разговоре по телефону. -Я каждый раз теряю людей, когда вы с командиром полка начинаете подгонять меня. Вам что это не понятно? У меня в разведке осталось всего десять человек. Еще один неподготовленный выход и в полку не останется ни одного опытного разведчика. Они хотели собрать воедино остатки дивизионной разведки и полковой и сунуть нас на угол леса (что находится левее шоссе) юго-западнее Панова. По замыслу Чернова, я должен был взять угол леса и углубиться к немцам в тыл. В ближайшем тылу у немцев взять языка и переправить его к своим. Я не подумал что будет потом и дал согласие. Штаб дивизии план операции утвердил. Но когда я прикинул все и взвесил, понял, что мы идём на верную гибель и смерть. Отказываться от своих слов было уже поздно. Я собрал ребят и хотел с ними провести беседу. Но в это время к месту нашего сбора явились радисты с огромным ящиком за спиной.
– А это что? Откуда вы?
– Гвардии капитан Чернов приказал.
– А рацию (с собой) зачем принесли? Несите обратно!
Через некоторое время меня вызвали к телефону.
– Какие у тебя основания? Почему ты рацию направил назад.
– Радисты не имеют элементарных навыков действий разведки. Для меня это лишняя обуза. Радисты не умеют работать в ключе. А крикуны мне в тылу у немцев (в разведке) не нужны. Я отвечаю за жизнь людей. И эта обуза мне будет мешать (в разведке).
– Нам нужно через каждый час начальнику штаба дивизии докладывать о ходе операции. – пояснил мне Чернов.
– Можешь докладывать, а рацию я с собой не возьму! Вы что собираетесь мне помогать артиллерией?
– Нет, ты должен действовать тихо.
– А на какой хрен мне ваша радиостанция тогда нужна. Я всю войну без нее к немцам в тыл хожу. Говоришь нужно докладывать? Вот ты ее себе и возьми. Забирай своих десять человек дивизионной разведки, бери радиостанцию и отправляйся к немцам в тыл. (Я иду на захват языка и мне этот гроб с музыкой ни к чему. Разведка дело добровольное! Если мои соображения вас не устраивают, бери сам обе группы и иди брать языка).
– Нам работникам штаба дивизии запрещено переходить линию фронта!
– Ты много раз за линией фронта был? – спросил, меня Чернов – А я вот по официальным данным ни разу не был.
– Как не был? Я тебя сам водил.
– Тогда линии фронта, как таковой на карте не было. Была открытая ничейная земля! Вот тебя, например, для работы в штабе дивизии не возьмут. Ты много раз за линию фронта с разведкой ходил.
– Смешно Чернов ты говоришь. Я ходил с людьми. У меня свидетели каждого моего шага есть. Как устроены твои мозги? Ты всегда из-за чужой спины действовать норовишь. Тебя (видно) и убьет из-за спины какого-нибудь солдата.
– Мы не знаем кому и как суждено отдать свою жизнь за нашу любимую Родину!- сказал в заключение Чернов.
– Я не про отдачу, а про красивые и лживые слова!
– Ты капитан ящик с собой возьмешь. Это приказ начальника штаба дивизии.
– Без радиостанции в тыл к противнику теперь разведгруппы запрещено отправлять. Зря ты капитан ершишся! Я собрал людей, поставил боевую задачу, дал указание на подготовку и, вечером мы покинули (свою) траншею. Мы спокойно проходим нейтральную полосу, минуем передний край немецкой обороны и приближаемся к лесу. Сзади по нашим следам топают дивизионные радисты. Я поворачиваю голову назад, смотрю на их багаж и говорю Сергею:
– Отведи их метров на двадцать назад, покажи наши, следы в обратном направлении и вели не останавливаясь топать, да поскорей. Если сунуться еще раз сюда, я их (лично) на месте прикончу. В наших двух группах нет двадцати человек. Нам нужно под самым носом у немцев пройти открытое поле. (На моей шее висит жизнь разведчиков). Я осматриваюсь кругом и подаю знак рукой двигаться дальше, не отрывая живота от снега.
На углу леса должен быть немецкий окоп. Мы обходим его стороной и подходим к нему из глубины леса. В окопе нет никого. Повсюду валяются стреляные гильзы, окурки сигарет, пустые банки из-под консерв, картонные коробки от галет и торчащие из снега пустые бутылки. Если этот окоп оказался пустым, наше счастье и нам повезло. В обороне немцев произошла (по-видимому) смена. Одна дивизия сменила другую. Старые немцы из окопа ушли, а новые ещё не явились. (на рассвете. Нам колоссально в этот раз повезло) Не будь у немцев смены, они бы сидели в окопе (нам фейерверк. Погибло бы несколько ребят, раненые были бы среди двух десятков, а остальных он продержал бы здесь на подходе в снегу дня два не меньше, таковы правила игры в разведку. Единственно что неизвестно, кто будет убит, а кого ранит из всех). От окопа в глубь обороны немцев уходила натоптанная в снегу тропа, слева лиственный лес. Голые стволы и вётки. Стежка идет по самому краю опушки. А справа от стежки стоят зеленые елочки. Они прикрывают стежку со стороны открытого поля. Дорожка прямая, метров на тридцать впереди все видно. Немцы могут на ней появиться в любой момент. Я разделил разведчиков на четыре группы и расположил их в густом ельнике справа от тропы. (Ельник узкой полоской прикрывал тропу со стороны открытого поля, где находился пулеметный окоп немцев). Как только немцы по тропе дойдут до места середины засады, разведчики встанут и цепью выдут на тропу, даваться немцам будет некуда, в лес они не побегут (не побежишь в метре из-под автомата). Придется поднять руки вверх (без криков сдаться в плен. Ни один из них не выдержит если на него неожиданно выйдет целая шеренга русских). Важно сделать так, чтобы никаких надежд на спасение не было. Это парализует волю (и остается только поднять руки вверх. С такого расстояния немцы сами бросают оружие поднимут лапы вверх.) Прошло часа два, на тропе никто не появлялся. Я дал Рязанцеву команду выставить головной дозор с задачей следить за тропой, а остальным, не выходя на тропу, разрешил потоптаться на месте, чтобы согреться.
– Передай по цепи, чтоб следили за дозором, команды не будет, если появятся немцы. Так прошел день. Дозорные сменялись через каждые два часа. К вечеру, когда стало темнеть, на тропе появились немцы. Их было четверо. Один тащил пулемет. Еще у одного руки были заняты коробками с лентами и двое шагали с винтовками, закинутыми на плече. (Руки они держали в карманах. Всех четверых мы забрали без писка. Двух я отдал дивизионной разведке и двоих я оставил себе. Добыча была разделена по-братски и поровну. Мало ли как там дело дальше пойдет? Дивизионные потом скажут, что они взяли[всех. А полковые в этом деле, мол, участия не принимали. Потом доказывай, что ты не верблюд. А тут получай свою долю и отваливай. Это ваши, а это наши! Их еще довести до штаба нужно. Когда мы вернулись из поиска и сдали своих немцев в разведотделение дивизии, я получил выговор от Чернова, почему я не пошел на Щегловку не занял ее.)
– В Щегловке, Чернов немцы сидят, а я не стрелковая рота, что бы на деревни в атаки ходить. Наше дело разведка. Получил языков и будь доволен.
– Откуда ты знаешь что немцы в Щегловке?
– А ты вызови Клепикова, переводчика штадива, пусть он спросит у пленных немцев кто в твоей Щегловке сидит. Тебе конечно хотелось бы, чтобы я (не только) Щегловку (, а и Витебск) взял. (Ну и аппетит у тебя! Ты случайно пули ртом не глотаешь? А то у меня был такой командир полка. Он знал только одно, что кричал на нас, что мы его идею загробили. У меня во взводе разведки осталось восемь человек. Твоими разведчиками я руководить не намерен. Я такой же штабной как и вы. Посылайте своих штабников на задачи. У вас в дивизионной роте разведки командиры взводов. Командир роты да и вас тут на каждый взвод по одному, если расставить то хватит. Что вы ко мне прилипли. Нашли эскимоса на котором в тундру ехать можно? Я приказ выполнил. Я пленных вам сдал и пошли вы подальше со своей лицемерной стратегией. Следующий язык не раньше чем через месяц. Нам положен отдых! Покедыва! Я пошел!) Командир полка на меня смотрел тоже косо. Ему нужны были успехи, решительные наши действия, отвоеванная территория. (Тогда он часть заслуг мог взять на себя). А за двух языков ему орденов не положено. (Ах так!- мысленно решил он. Вот это «Ах так» – я подсознательно уловил в его злых глазах, когда он меня вызвал. Собственно нам не о чем было говорить. Если бы даже он мне приказал пойти и с ходу взять Щегловку, я всё равно послал бы его подальше.
– Мы не штрафная рота! – сказал я ему -Разрешите идти?) И общем (из-за моего упрямого характера) у меня сложилась напряженная обстановка (и почти паршивые отношения). Они давили на меня и требовали своего. (А их каждый раз ставил на место, что мне было не положено ничего не делал.) Я мог, конечно, послать ребят под огонь. Не долго загнать всех в могилу ради прихоти полкового. В глухой обороне, на ком еще можно было ездить, как не на разведчиках. Командир полка мне дал понять, когда я сказал ему, что у меня в разведке всего восемь ребят (боевых штыков, способных к разведке). Вот когда ты останешься один, тогда с тебя не будет никакого спроса. Пока люди есть, они должны воевать! А ты их выгораживаешь (разными обоснованными способами). Мне нужны результаты! (Вот заставили тебя пойти на угол леса и получилось. А не заставили бы, языков не имел. Может ты вошел бы в Щегловку, а немец с перепугу и убежал. Ты должен ни спать ни день ни ночь. Все время лезть на немца. Может где и получится. Твои люди должны работать, а не отдыхать. Мне звонил Чернов и сказал, что ты собрался месяц бездельничать. Так вот! Завтра с вечера пойдете вперед. Пойди и передай приказ своим разведчикам. Я ушел и долго думал, к чему это приведет).
16.01.1980
февраль 1944 г.
Бондари
Как-то утром, перед самым рассветом, когда бывает особенно (томно) зябко и холодно, когда выходишь на снег и в двух шагах ничего не видно, когда от голода и пустоты в животе внутри урчит, бурлит и мучительно сосет, когда подниматься с нар и тащиться на холод нет никакой охоты, из поисковой группы прибежал связной (по срочному делу). Меня растолкали и он сообщил: -На левом фланге из снежного окопа немцы прекратили стрельбу и перестали светить ракетами!
На левом фланге перед нашей обороной находился отдельный, небольшой немецкий окоп. Если верить связному, то там наступила тишина и обнажилась немецкая оборона.
Возможны разные варианты! – подумалось мне (поднимаясь с нар, подумал я.) Здесь под Витебском мы топчемся давно. (У немцев постоянно не хватает солдат. Может решили снять, видя что наши здесь не стреляют). Могла произойти перегруппировка частей, и немцы забыли про этот окоп. Могли отойти на новый рубеж, чтобы усилить свою оборону. Ловушки здесь я почему-то не видел. У немцев здесь постоянно не хватало солдат, хотя они цеплялись за каждый метр земли, за каждый бугор и господствующую позицию.
И так, ловушка здесь исключена. (У них хватает только ума, прикрыть солдатами свою оборону). Каждый отбитый нами окоп или рубеж давался нам с большими потерями. Что их заставило покинуть этот окоп? Почему они сняли с опушки леса два пулемета? Почему солдаты под покровом ночи снялись и ушли? Вопросов было много, а ответа я не находил. Первое, что я почувствовал, это была какая-то непонятная (и зловещая тревога) ситуация. Я лениво поднялся и не спеша одел маскхалат, толкнул Сергея в бок и велел ему собираться.
– Как там погода?
– Снег небольшой и ветер!
– Это хорошо! Успеем до рассвета?
Через некоторое время мы (наконец) вылезли из землянки. Кругом летела пурга (лежал свежий снег). Легкий ветерок подхватывал снежную пыль и она кружилась, впереди ничего не было видно. Я пропустил связного вперед, и мы с Сергеем пошли (следам, пробитым в снегу вслед за солдатом). Идти тяжело сыпучий снег ползет под ногами. Кругом снежное поле. Идешь, толчешь сыпучий снег и не знаешь, где точно находишься. Взглядом зацепиться не за что. Надеешься на солдата, который идет впереди. Он ищет свои следы, которые здесь оставил. Я смотрю ему в спину. Он идет уверенно (по едва заметным следам). Где-то вправо через снежную пыль пробивается свет взлетевшей ракеты. Слышаться короткие пулеметные очереди и глухие разрывы (ротных) мин. Там правее немец сидит на месте. Мы подходим к сугробу, где лежат наши разведчики. До снежной бровки окопа осталось метров сто. Ни стрельбы, ни ракет, вокруг полная тишина. Немцы окоп по- видимому оставили (удрали). У меня вначале были сомнения. Я решил сам проверить эту тишину. Но полежав с полчаса, я пришел к выводу, что нужно действовать, время тянуть дальше нельзя, скоро рассвет, а окоп еще нудно обследовать.
– Ну как Федя? У тебя сомнений нет?
Рязанцев пожал плечами и ничего не ответил. Мелкий снег подхваченный ветром лезет в глаза, щекочет под носом. В снежном сугробе лежать мягко и тепло. (Сейчас прикрыть бы лицо марлевой накидкой и поспать как следует, в сон клонит, лень тряхнуть головой). Смотрю на ребят, те лежат не шевелятся. Спят наверно, только не храпят. Разведчик где лег, там и уснул, если немец не стреляет (если нужно чего-то ждать). Капитан придет, подаст команду, ребята толкнут в бок, разбудят. Ребята спят чутко. Каждый шорох ловят во сне.
– Ну что пора? дышу я в лицо Рязанцеву и говорю ему шепотом.
– Давай посылай вперед троих. Дело тут верное! Пусть ползком подберутся к окопу (и проверят)!
Рязанцев знаками показывает кому идти. Трое уходят вперед, мы остаемся на месте. Сон со всех как рукой сняло. Все вытянули шеи, смотрят вперед, лежат и прислушиваться. Наступает ответственный момент. Все понимают, что кто-то должен первый туда пойти. Это мы только думаем, что там нет никого. Сейчас подползут метров на десять, встанут над бровкой и полоснет пулемет. Даст короткую очередь, и, считай, нет троих.
Кто не ходил на немце в, тот не имеет понятия, (какие сомнения) что сейчас у людей. Идти на верную смерть, это не то, когда тебя шальная пуля заденет. " И это не то, когда ты сидишь в окопе и немец врастяжку одиночными из миномета бьет.(Тут ты наверху, в трех шагах от окопа, а он с пулеметом на мушке тебя ведет. Как ты думаешь? Возьмет и не стрельнет?) На войне у каждого своя передовая. Комбат клянется, что не вылезает с передовой. А сам сидит километра за два от передовой за спиной у солдат стрелковой роты. А о тех, кто сидит еще дальше, думаю, не стоит и говорить. Трое ушли вперед, чтобы остальные, лежащие за сугробом остались живыми. Трое пошли на смерть! Кто-то должен идти! Другого способа нет. Окоп нужно проверить. И так каждый день, всю войну, если случайно уцелеешь. За это наград не дают. Возможно были и другие причины почему немцы бросили этот окоп? – думаю я здесь на заболоченной опушке леса землянку вырыть нельзя. Подземные воды. Снежный окоп углубления в землю не имеет. Окоп насыпной, снежная бровка всего вырыта на полметра. Дно обледенело. Немцы не могут подолгу лежать в холодном снегу. Им подавай теплые землянки и укрытия. Им нужно топтаться на месте. А тут окоп по колен. Тут ни встать, ни шагнуть. (Нужно прыгать, ноги колотить, чтобы согреться). Это наш русский безответный, молчаливый и терпеливый солдат, лег на снег и может лежать в нем, не двигаясь, сутками. Лежит себе с боку на бок и только трет себе нос обледенелым от жидкости рукавом. Его можно не кормить по трое (четверо) суток. Дай только махорки и скажи, что подвоза нет. Я делаю глубокий вздох и медленно выпускаю воздух наружу. Я вижу впереди, на фоне снежного ската на нас во весь рост движется человек. Это один из трех, посланных в окоп для проверки. Я поворачиваюсь к Рязанцеву и показываю ему рукой. Он кивает голевой, что, мол вижу. Нам остается только встать и идти вперед. Путь открыт! Немцы окоп покинули! Я киваю Рязанцеву головой. У него на этот счет своя привычка. Он молча встает и делает шаг вперед. Ребята тут же поднимаются и следуют за ним, они знают в чем дело. В группе прикрытия пять человек. Эти – пять самые опытные и старые во взводе разведчики. Мы их не пускаем по всякому поводу вперед. Мы их придерживаем и бережем. Они можно сказать, о снова и костяк взвода разведки. Они ходят по очереди в захват группы и натаскивают молодых. На них держится вся наша опасная и тяжелая работа. Они ходят на дело, когда все разведано и подготовлено, когда нужна особая выдержка нечеловеческое напряжение, когда нужно сделать что-то невозможное. На предварительный поиск и на проверку немецких окопов их не посылают. Сейчас у нас во взводе всего восемь человек. (Посылать вместо них некого). Вот и приходиться их использовать в группе прикрытия. Вслед за группой прикрытия поднимаемся с Сергеем и мы. Мы идем к немецкому окопу по следам, пробитым в глубоком (и рыхлом) снегу. Восемь разведчиков и нас трое. Этого количества вполне хватит – рассуждаю Я. Мы можем уйти к немцам в тыл. (Небольшая группа может уйти незаметно километров на десять). Днем мы отсидимся где-то в лесу. А с наступлением ночи выйдем на тропу или дорогу. Под покровом ночи можно сделать засаду, и без всякого шума взять языка. Проход через линию фронта назад у нас обеспечен. Нужно только оставить охрану и удержать этот окоп. Трех разведчиков на оборону окопа, думаю, хватит. Разведчик, это не стрелок солдат. Эквивалент тут один к пяти. Нужно учесть здесь еще один момент. Выход к немцам в тыл мы должны согласовать со штабом дивизии. Получить от них, так сказать, разрешение. (За самовольные действия в немецком тылу нам потоми накрутят хвоста). Положим, об этом можно было бы и не докладывать, если бы сейчас был вечер, и мы смогли бы обернуться к утру. Осмотрев окоп, я подзываю к себе Рязанцева.
– Ну что Федь? Одно дело сделано? Нужно в полк докладывать. Они об этом окопе пока ничего не знают. Может, ты пойдешь, а я здесь пока останусь?
– Ну нет уж! Ты сам давай топай! Я не люблю к ним ходить!
– Ладно! Я сам пойду!
Ты займи здесь оборону! До рассвета нам с Сергеем не обернуться назад. Приду в полк к начальнику штаба, пока доложу, пока он подумает, а потом скажет, нужно хозяину доложить. А хозяин, сам знаешь, с Манькой на нарах у стенки лежит. Пока он глаза протрет, через ту Маньку перелезет, сколько времени пройдет? Потом он чесаться начнет, звонить в штаб дивизии будет, с А.Черновым разговор заведет.
Пока они это дело вдвоем обмозгуют, глядишь и день на исходе. Темнеть начнет, мы с Сергеем вернемся. Так что весь день до вечера будешь здесь сидеть. Раньше вечера мы сюда не вернемся. Тебе Федя все ясно?
– Всё ясно! Чего там!
– Может, ты все-таки вместо меня в штаб пойдешь?
– Не! Я спать завалюсь капитан! Перед делом надо выспаться как следует!
Выставлю часовых! Смены назначу! Парами будут дежурить. Двоих на светлое время вполне хватит. Вон туда в мягкий снег отойдем, ляжем под куст.и отоспимся как надо до вечера. А ты капитан давай топай к начальству с докладом. Ты умеешь с ними говорить. А я не могу. Душа эти ихние разговоры не принимает!
– Ну ладно! Пока!
Мы с Сергеем повернулись и пошли обратно. Мелкий снег продолжал сыпать и кружиться в воздухе. Узкую стежку, по которой мы шли, еще не занесло, чуть присыпало ямки от следов (на поверхности снега видны). Мы ступаем по нашим следам. Ступишь ногой в сыпучую ямку, и тебя поведет опоры. Так и идем, пошатываясь из стороны в сторону. Шагаем медленно. Да и торопиться теперь вроде некуда. У нас целый день впереди. В голове разные мысли. Прикидываю варианты и решаю их на ходу. Откровенно говоря, мне в полк тоже не хочется идти. Там сейчас опять услышу недовольство сквозь зубы, косые взгляды из-под бровей. Я понимаю все это. У них позиция такая. У них на языке только одно – Давай! И все! Без этого им никак нельзя. С них по инстанции это "Давай!" каждый день требуют. А что, собственно, давай? Если вот так спросить в упор, смысл, логика где? "Ты мне тут свою философию не разводи! Мне результаты давай! Вы целую неделю чем занимались? "Под проволокой у немцев ползали!" Вот то-то и видать, что ползали! Я понимаю, что командира полка, его могут снять. Он два раза с этой высотой опозорился. А он карьерой своей дорожит. А нас, которые ходят на смерть, с должности не снимешь. Ну предположим, снимут с должности и куда денут? В тыл, в резерв пошлют отдыхать? Этого еще не хватало! А кто вместо нас воевать с немцем будет? Нас не снимешь, нас можно только как убитых списать. А мы тоже не лыком шитые! С начала войны слышим только – Давай и давай! Мы тоже знаем как от этого «Давай!» отлынить. От усталости конечно, от беспросветности и бесконечности войны. Мы иногда и сами лезем на немца, когда чувствуем, что это нужно. А тут каждым день только и слышишь – Давай и давай! Вот поэтому они и грызут и шипят недовольно. Мы как прыщ у полкового на носу. Побило бы нас, и с него никакого спроса не было бы. (Потери в разведке есть?). Потери в разведке есть? Нет! Давно? Недели две или три! Вот и считай, что ты три недели бездельничаешь! По всему этому мы большее время проводим под немецкой проволокой. Уйдем туда, ползаем под ней, шарим около немецких окопов и вдоль ходов сообщений, ищем, где бы без шума, тихо, без потерь взять языка. Не все ли равно где валяться в снегу? В' траншее со стрелками или под носом у немцев, под проволокой. У нас давно нет никакого страха переступать свою переднюю траншею и уходить в нейтральную полосу. Это у солдат стрелковой роты глаза лезут на лоб, когда кого, из них приглашаешь прогуляться на ночь под немецкую проволоку. Солдат стрелок к этому не привык. Его пугает проволока, неизвестность, поэтому он и боятся. Нужна привычка ходить туда каждую ночь. Или вот еще. Прихожу в штаб полка, говорю нужны саперы. Приводят партию человек пять. Эти с нами пойдут резать немецкую проволоку? Скажешь и смотришь на них, а они зубами стучат, их мелкая дрожь пробивает. Этих я должен с собой вести? Мне такие не нужны, я с ними своих ребят не пошлю. Пусть топают под проволоку сами. Мы. им телефонный провод протянем. Тот конец привяжем за кол, где резать нужно. С пути не собьются. На место выйдут точно. Провод в руки возьмут. А я с ними своих не пошлю. Проходы сделают, мы потом проверим. Не буду же я их за штаны держать, они еще никуда не ходили, а уже полные наложили. Мы идем с Сергеем по стежке, впереди ни черта не видно. Мелкий снег застилает видимость. По загривку ползают вши и начинают в вспотевшую кожу вгрызаться. Пошевелишь плечами, а они опять за свое. Рукой туда не достанешь, А хорошо бы ногтями поскрести объедение места. Останавливаюсь и показываю Сергею
– Поскреби как следует, больше терпения нет!
Сергей снимает варежку, засовывает руку за шиворот по локоть и начинает скрести.
– Чуть левее! Вот так! Теперь пониже! Я приседаю на корточки, а он стоит и шурует рукой.
– Возьми снежку! Снегом потри! Вот хорошо! Век тебя не забуду! Л подымаюсь, застегиваюсь и мы снова не торопясь трогаемся в путь. Сегодня пятница. Полковой наверно в баньке париться. А тут не спамши несколько суток. Только лег вчера – прибежал от Рязанцева связной. Вот так каждый день. То одно, то другое. Начальство на завтрак горячий кохий пьет. Вши перестали грызть, а теперь бурлит в животе. Но главное не это. В ряд ли нам разрешат, используя этот окоп, просто так взять языка. Думаю, что нас пошлют брать высоту. Скажут, что зайдете им со стороны леса с тыла и ворветесь на блиндажи. Высота эта намозолила всем глаза. Карьера Бридихина под ударом. Квашнин ему этого не простит. У Квашнина тоже какие-то старые грешки, и он лезет на пролом, ни с кем не считаясь.
– Куда сворачивать? Прямо к себе или на дорогу в полковые тылы? – спросил Сергей, останавливаясь на развилке.
– Давай зайдем сначала к старшине. Нужно пожрать. А то в полку можем проторчать до самого вечера! Мы пошли по дороге в направлении полковых тылов, дошли до леса и свернули на стежку, которая шла к палатке нашего старшины. В лесу било тихо и безветренно. Старшины на месте не оказалось. Нас встретил Валеев, он подогрел нам хлебово в котелке и мы поели. Теперь на сытое брюхо можно и в пол идти, вести переговоры. Мы с Сергеем явились на КП полка. Я доложил начальнику штаба о пустом, занятом нами немецком окопе. Он переговорил по телефону с Черновым и пошел докладывать командиру полка. Полковой жил в отдельной землянке, метрах в стах от штабного укрытия. Часа через два они явились вместе, и начальник штаба объявил мне, что подождем Чернова. Он должен вот-вот подъехать сюда. Когда явился Чернов, мне было объявлено, что я с двумя группами разведчиков пойду штурмовать высоту.
– Этот вопрос согласован с начальником штаба дивизии и что важнее задачи на сегодняшний день не стоит.
– Это задача номер один! Возьмешь с собой рацию!
– Опять рацию?
– Ты кончай разговоры! Кто тут приказывает? Твое дело приказ выполнять!
– Вы можете мне приказать мне пойти на высоту и взять языка. А штурмовать высоту я не обязан, для этого есть пехота. И в любом случае я вашу шарманку с собой не возьму. Радисты в разведку ходить не обучены. Обнаружат себя, а я потеряю из них своих последних людей. У меня во взводе осталось восемь человек. Из-за рации попадать под огонь и нести напрасно потери я не имею желания.
– Рация пойдет со взводом дивизионной разведки, который придается тебе!
– Бот и отлично! Пусть взвод берет рацию и действует сам по себе. Тем более, что я ваших людей не знаю и знать не хочу, а вы хотите чтобы я за них отвечал. Разговаривать больше не о чем. У вас в дивизии есть штабные офицеры. Вот пусть они и ведут ваш взвод. Ты же Чернов и сам можешь пойти.
– Почему ты не хочешь взять рацию?
– Потому, что она будет мешать. Неужели вам это не понятно? Вы бы мне еще жеребца запрягли и сказали, давай поезжай с тыла на немцев (на высоту).
– Вас могут немцы отрезать, и без радии, мы вам не сможем помочь.
– Вы что, выделяете полсотни нам стволов для поддержки?
– Нет!
– Если нас немцы отрежут, и мы погибнем, то нам ваша и рация ни к чему.
– Без радиостанции к немцам в тыл разведгруппы нам не разрешают отправлять.
– Тебе и карты в руки – сказал я и посмотрел на Чернова. Бери взвод своей дивизионной разведки и отправляйся к немцам в тыл. Только рацию не забудь (с собой взять)! От такой фразы Чернов аж позеленел.
– Я, я!
– Что я, я? Чернов вытянул шею, уставился на меня в упор, и резанул меня злыми глазами, А я не такие злобные и перепуганные смертельной тоской лица видал. Был у нас такой в сорок первом Карамушко, я его выражение лица и сейчас помню.
– Чего сморщился? – спросил я капитана Чернова, Спросил, а сам подумал – такой вместо меня на высоту не пойдет. Сейчас они меня втроем согнут в дугу, а своего добьются. А раз не пойдет, значит в этом деле я хозяин положения. Во мне тоже вскипела злость. Нет! Я вам ничего не спущу! Вы хотите на чужом горбу славу себе заработать. Ни на такого напали!
У меня тоже злость и самолюбие есть. Если будет успех. Успех, они конечно припишут себе. Им нужно перед Квашниным оправдаться. Они своего не упустят. С мясом вырвут, в трупы нас превратят, а себя как стратегов выставят. Я не пойду в дивизию, доказывать и бить себя в грудь кулаком, что я вывел людей и провел операцию. Да и кто я такой? Что за вшивая личность? Кто со мной в дивизии разговаривать будет, Майор Бридихин и капитан Чернов создадут нужное мнение. Они мне пихают рацию, чтобы Чернов мог лично докладывать начальнику штаба дивизии от своего имени ход операции. Представляю, как он доложит. Вот почему они так усердно пихают мне свою рацию. А я то, дурак, уши развесил! В блиндаж в это время вошел наш начальник штаба майор Денисов. Он куда-то выходил на короткое время. Мужик он был порядочный и никогда мне не вкручивал мозги. Говорил всегда по делу и понимал наши трудности и опасную работу.
– Ты чего сопротивляешься? – обратился он ко мне.
– Вот смотри! – и он протянул мне письменное распоряжение по разведке, которое только что поступило из дивизии.
– Тебе приказано в ночь с 20-го на 21-ое февраля провести поиск в районе леса севернее Бондари.
Я взял из рук начальника штаба отпечатанное на машинке распоряжение по разведке и стал читать его внимательно, разбирая дословно. Вот оно. Привожу его полностью, как оно было дословно. Оно по случайности осталось у меня на руках.
Приказание по разведке 10 штаб 17 ГСДКД,КП 0,5 км. южнее дер. Цирбули. 10.00. 19.2.44г. карта 1:50 000
Противник подразделениями 3OI пп, 246 сап. батальона, 413 пп,206 пд перед фронтом дивизии обороняется на рубеже;Марченки, юго-восточная опушка леса сев. Бондарей, южная окраина Панова, юго-запад. опушка леса сев. Шеверда, овраг южнее ст. Заболотинка, сев. окраина Шапуры. По имеющимся данным противник перед фронтом дивизии произвел перегруппировку. С целью уточнения группировки противника, его сил, намерений, огневой мощи системы и инженерных сооружений на переднем крае противника КОМАНДИР ДИВИЗИИ ПРИКАЗАЛ:
Командирам частей немедленно приступить к организации наблюдения за противником, оборудовать для этого по два НП для командира полка. 45 гв,сп. организовать НП на сев. опушке леса сев.-зап. Лапути и на безымян. высоте 3ОО м. южнее Марченки. 52 гв.сп. организовать НП на безым. высоте 200 м. южнее Новки и вдер. Бондари. 48 гв.сп. организовать НП в Горелыши и на ст. Заболотинка. На НП, ближайшем к переднему краю, установить круглосуточное наблюдение постоянными наблюдателями во главе с офицером. На втором НП организовать круглосуточное наблюдение офицерами штаба полка, составив график дежурства. На НП иметь надежные укрытия, приборы наблюдения, карту и журнал для записи наблюдений. Между передним и основным НП, а также между последним и штабом полка иметь прямую телефонную связь. Командирам батальонов и рот иметь свои НП с постоянными наблюдателями. Начальнику второго отделения штадива организовать для СКД три НП. Основной – сев. опушка подковообразного леса и вспомогательный на сев-вост. опушке леса 400 м. сев-зап. Лапути и на безым. высоте 200м. южнее Горелыши. На основном НП установить круглосуточное дежурство и наблюдение офицерами штадива по графику, на вспомогательных НП постоянными наблюдателями, во главе с офицерами. На НП иметь приборы наблюдения, карту, журнал наблюдения. Дивизионному инженеру проверить надежность укрытий на НП и принять меры к устранению замеченных недостатков. Начальнику связи дивизии – обеспечить прямую связь между штабом дивизии основным НП КСД, а также с НП командиров полков и основного НП с вспомогательными.
Об исполнении и принятых мерах донести письменно в штадив к 22.00 I9.2.44г. одновременно представить списки наблюдателей, графики офицерского дежурства на НП и схемы НП до роты включительно, с указанием секторов наблюдения и полей невидимости.
2. Командирам полков и 3 ОГРР /отдельная гвардейская раэведрота/ в течении 19 и 20.2.44 г. доукомплектовать разведподразделения, доведя взвода пешей разведки до 20 человек. и разведроту до 60 человек, воспретить практику использования разведчиков не по прямому назначению. Проверить обеспеченность разведподразделений обмундированием, обувью и снаряжением. Принять меры к тому, чтобы разведчики выглядели лучше других подразделении части. Об исполнении донести к 20.00 20.2.44 г.
3. Командирам полков вести непрерывную разведку перед своим фронтом небольшими поисковыми группами и захватить контрольных пленных и документы.
52 гв.сп.- в ночь с 20 на 21,2.44 г. в районе леса сев. Бондарей.
48 гв.сп.- в ночь с 21 на 22.2.44 г. в районе Забежница.
45 гв.сп.- в ночь с 2с на 24.2.44 г. в районе Щербино.
Командиру 3 ОГРР вести разведку по захвату контрольных пленных и документов в ночь с 22.2.44т. в районе леса сев. Шеверда и в ночь с 24 на 25.2.44 г. в районе Щербино.
Под личную ответственность командиров полков производить тщательную подготовку разведподразделений к поискам, изучения объекта поиска и наблюдения за ним.
Штабам полков производить сбор и обобщение данных наблюдения и разведки и доносить их во второе отделение штадива в установленные сроки. Ответственность за своевременную информацию несут начальники штабов полков.
Начальник штаба 17 ГВ СДКД
Гвапрдии полковник / Карака/
Начальник второго отделения штадива
гвардии капитан /Чернов/
– Тебе приказано действовать в районе высоты севернее Бондарей – сказал начальник штаба, когда я кончил чтение.
– Да, но в распоряжении не указано, что я должен брать высоту. На счет действий в тылу и об рации ни гу-гу! Все что вы от меня требуете, и что я с разведчиками должен сделать, все это одни лишь ваши слова; – Давай, мол, бери высоту! Давайте приказ по дивизии! Может это ваша отсебятина, а я должен пойти на высоту и умереть.
– Тебе предлагают зайти в лес с тыла!
– Да! Но мне предлагают не просто взять языка, а штурмовать и захватить немецкие позиции. Я не отказываюсь пойти в лес и взять языка.
– А тебя лично брать никто и не неволит. Высоту будут брать разведчики. А ты их должен вывести лесом с той стороны.
– Разведка! Вам известно, дело добровольное! Я не имею права приказать ребята штурмовать высоту. Как вы этого хотите..
– Ты опять за свое? – злым и гневным голосом рыкнул на меня Бридихин.
Я не смутился от этого окрика. Я спокойно опустился на корточки возле стены, как и все другие, сидевшие вдоль стены на лавке, и спокойным голосом сказал:
– Если солдаты откажутся идти на штурм высоты, то ни я и ни вы их насильно не заставите, Единственно, что вы можете – это перевести их в пехоту.
Меня другое удивляет, почему со мной разговаривают тут свысока? Почему рычат и орут как на бесправного лейтенанта? Почему все время хотят растоптать и унизить? И после этого вы хотите, чтобы я вам высоту к ногам положил? Я понимаю, вы хотите возвысится надо мной. Боитесь, не дай бог я вам врежу этой высотой по глазам. Мы два лагеря и я в вашей компании не состою. Между нами разница только в том, что мы ходим на смерть, а у вас пролежни на заднице от сидения под накатами. Поэтому вам и нужно орать. И после этого вы хотите чтобы мы вас покорно слушались. Почему-то я обращаюсь к простому солдату с пониманием и уважением. А со мной здесь как с денщиком.
– Ну-ка подай сапоги!
– И в общем мне все ясно[Я могу завести людей с той стороны (как договорились). Рацию я с собой не возьму. Пойду готовить людей.
– Разрешите идти?
– Идите!
Я повернулся и вышел из блиндажа. Сергей сидел у входа и дымил махоркой. Может я зря все это им высказал? Они мне этого разговора никогда не простят.
– А! – подумал я, – Первая брань лучше последней! Разговор этот давно назрел.
И если бы я на этот раз стерпел и смолчал, то мной помыкали бы еще больше и хамство продолжалось бы бесконечно. Вот ПНШ 48-го по разведке сидит на НП и не ходит никуда и не лазит, как я дурачок под немецкую проволоку. Важно во время их одернуть. Им конечно смирение и покорность моя нужна. Им наплевать, если я завтра останусь лежать под немецкой проволокой. Бридихин даже в затылке от угрызения совести не почешет.
Сколько нашего брата валяется зря на земле!?
Командиров полков у нас за время войны с десяток сменилось. Были среди них и люди. Они понимали, что такое для солдата война. А были и такие, которым вынь и деревню положи. Он приказал, а ты бери как хошь! Не жирно ли будет, чтобы я перед этим майором гнул спину и заискивал и раболепно смотрел ему в глаза. Разрешите, мол, пойти и умереть, похлопайте меня, мол, по плечу.
– Разрешаю великодушно! На всех не угодишь! Каждый из них хочет на чужом горбу славу себе заработать. Вот ведь останется жить. Будет бить себя в грудь после войны. На мне мол вся тяжесть войны стояла! Он два раза обжегся на этой высоте. Стрелковой ротой он ее брать боится. Знает, что в третий раз погорит на ней. А разведка что? Пошли за языком и понесли потери! Тем более что в приказе на разведку о штурме высоты ни слова. Мы с Серегой опять топаем по снежному полю. Сергей имеет такт. О моём разговоре с начальством не спрашивает. Он конечно скажет свое мнение, если я с ним об этом заговорю. Но я молчу и он не пытается разговаривать. Он чувствует, что я на взводе. Идет и тихо сопит. Ну что капитан? – спрашивает меня Рязанцев, когда мы перешагнули снежную бровку немецкого окопа.
– Что, что!
– Зачем вызывали в штаб? Какой разговор там был? Куда пойдем? Где будем брать языка?
– Приказано взять высоту!
– Сколько можно на смерть ходить?
– Как сколько? Пока не убьют! Убьют, и избавишься от приказав сверху!
– Ты опять шутишь?
– А что делать? Раз наша жизнь ничего не стоит! Каждый дует в свою дудку. Конечно у нас дело общее. Немцев надо бить. Но ведь голыми руками их не возьмешь. Общее наступление когда оно будет? А с нас, с разведчиков, требуют языков давай, высоты давай! А у нас тобой курсак совсем пропал!
Что я могу тебе сказать. Мне лично приказано вывести вас в лес с той стороны, с нами вместе будет действовать взвод дивизионной разведки и вы должны пойти на штурм высоты. А мы не знаем даже с тобой где у немцев с той стороны блиндажи и хода сообщения. Вам придется идти вслепую. Командир полка и Чернов на меня навалились. Давай им высоту. Я им и то и се. А они давят своё. Я конечно могу пойти. Я ходил не на такие высоты. А они вместо делового разговора стали орать. Я взбеленился и встал на дыбы.
– А почему я должен идти к штормовать высоту?
– Не знаю, Рязанцев! Это ты сам должен решить!
– Почему я должен ребят на смерть вести? Для кого? Квашнин тот с Клашкой из медсанбата утеху имеет. Гридилин, или как его там, Бредихин, Маньку из санроты приспособил на ночь себе, держится за сиськи, с нар упасть боится. Это не жизнь, капитан, а сплошной юмор.
– Да, непостижимо! Пришел я к полковому, а он опять на меня рычит. Прищурил глаз, бровь дугой согнул, сквозь зубы цедит:
– Ты что струсил?
Я молчал, молчал, а потом и говорю:
– Я четвертый год на войне! День и ночь под пулями на передке хожу! Из меня боязнь и страх немец в сорок первом фугасными выбил. У меня ни боязни, ни робости! И на штурм высот я давно не хожу. Вот перейду из разведки в пехоту, тогда и буду ходить. Страх у тех, кто в блиндажах всё время сидит. А мне что! Я день и ночь на ветру и в снегу под немецкой проволокой болтаюсь.
– Вот такие, Федор Федорович, нынче наши дела! Теперь ты в штаб полка давай топай!
– А мне туда зачем?
– Велели передать, что б и ты лично туда явился. Я пока с ребятами останусь здесь. А ты давай собирайся и отправляйся! Обратно вернешься, взвод дивизионной разведки с собой приведешь. Связного возьми с собой. Один по полю не шляйся!
Ребята не слышали наш разговор. Мы отошли в сторонку. Серега был рядом и ухом ловил наши слова. Но я надеялся на него, он был парень смышленый и неболтливый. Он много знал, что творилось вокруг. Он даже со старшиной не делился своими познаниями и информацией.
Время тянется медленно, когда вот так лежишь без дела и чего-то ждешь. Что там у немцев на высоте? Как расположены блиндажи? Есть ли с той стороны хода сообщения и дежурные пулеметы? Я конечно могу и пойти. Стоит мне только взять себя в руки. Вот и теперь у меня ни боязни, ни робости. Ко всему можно привыкнуть, даже на смерть иногда плюешь. Часа через два возвращается Рязанцев.
– Ну что? – спрашиваю я его.
– Что, что! Вон привел взвод дивизионной разведки.
– Ты мне про дело говори! Чего молча сопишь? Быстро они тебя уломали! Это Федя наверно и хорошо. У меня совесть чиста. Приказ штурмовать высоту ты получил непосредственно от полкового. Меня хоть совесть не будет мучить, что я вас на штурм высоты послал. Языка, Федя, сейчас взять проще простого. Зашли к немцам в тыл километра на два, сделали засаду где на дороге, взяли одного или двоих и тихо, спокойно вернулись назад. Считай дело сделано.
– Да Федя! Жизнь наша непостижима и разуму не доступна. Сегодня ты жив, а завтра тебя нет! Кому как война! Кому она война, а кому хреновина одна! Они нам приказывают, а мы выполняем! У меня всегда внутри поднимается протест, когда я вижу, как полковой лицемерит и ищет шкурную выгоду лично себе. Сам он из блиндажа выйти боится. Разговор разговором. Все это только слова Ты давай иди готовь ребят. А мы с Серегой здесь полежим и покурим.
На душе у меня кошки скребут. Люди идут на высоту, а я как бы остался в стороне и это не мое кровное дело. Теперь меня совесть гложет и сомнение (скребет). Да! Не очень вышло все гладко и хорошо. Вот ведь как получилось. 16-го февраля я составил схему оборонительных сооружений противника перед фронтом нашего полка и послал ее в штаб. На схеме я стрелкой указал направление ночного поиска взвода пешей разведки. Подлинник схемы остался у меня, и он лежит в планшете. А копию я отправил капитану Чернову. Я полагал по указанному в схеме направлению провести ночной поиск и взять языка. Чернов показал мою схему командиру полка и предложил взять высоту. Сразу двух зайцев убьем. Возьмем высоту, и контрольные пленные будут. Командиру полка эта идея пришлась по вкусу. И он стал требовать от меня решительного штурма. Они знали, что разведчикам не положено штурмовать высоты. Но надеялись, что они со мной быстро справятся вдвоем. Воt так я и остался, как бы в стороне. В ночь на 21-ое мы должны пересечь снежную низину, которую с двух сторон немцы освещали ракетами и простреливали из двух пулеметов. План у нас такой (объявил я собрав всех в круг): мы идем цепью броском через поле, падаем при первой ракете и лежим уткнувшись в снег, ждем пока она погаснет. Затем рывком поднимаемся и бежим дальше. Через поле нам нужно будет сделать два броска, если немцы нашу перебежку не заметят. А заметят всем нам хана! Из лощины обратно не уйдешь. Важно незамеченными добраться до опушки леса. Там дело спокойней пойдет. По лесу двигаемся гуськом, друг за другом. Выходим немцам в тыл со стороны высоты, занимаем исходное положение. Группа Рязанцева располагается справа, взвод дивизионной разведки вытягивается цепью влево, с таким расчетом, чтобы охватить все блиндажи. Осматриваемся пару минут и по моей команде бросаемся сверху на блиндажи. Стрельбы никакой. Никаких там Ура! В каждую трубу опускаем по гранате. Окна и двери, выходы из блиндажей взять под прицел и ждать что будет. Часовые попадаться на пути бить прикладами, сбивать (наваливаться на них телом). Если откроют стрельбу бить в упор короткими очередями. Главное остальных немцев не спугнуть, не дать им выскочить из блиндажей и занять боевую позицию.
От выдержки каждого зависит жизнь. Если сделаете быстро, часовые у немцев в панике разбегутся. Вам останется взять только тех, что останутся в блиндажах.
Сейчас выходим на тропу и следуем вперед по тропе цепочной. Дистанция друг от друга полтора, два метра. Головной дозор высылает Рязанцев в количестве трех человек. Я, Рязанцев и командир взвода дивизионной разведки двигаемся за головным дозором. За нашей группой идет взвод дивизионной разведки, за ним следует разведка полка. У кого какие вопросы? Вопросов нет приступить к движению! Вперед уходят трое разведчиков. За ними следуем мы и остальные ребята. Мы идем по тропе вдоль опушки леса. Мы прошли метров двести. На первом этапе пока все тихо и спокойно. Я делаю знак головному дозору остановиться. Теперь нужно осмотреться. В таких делах торопиться и идти на пролом нельзя.
– Метров сто нужно бы еще пройти! говорю я Рязанцеву и показываю рукой в низину на взлетевшую ракету из немецкого окопа. Он молча кивает, командир взвода молчит.
Я не помню фамилию лейтенанта, командира взвода дивизионной разведки. Сегодня я его увидел первый раз. Вчера Чёрнов раз назвал его фамилию, когда я был у командира полка, а я как-то пропустил мимо ушей. Все это время не до него было, чтобы уточнять как его фамилия. Лейтенант и лейтенант!
Мы прошли еще метров сто и снова встали. Нужно было постоять некоторое время и почувствовать обстановку, осмотреться кругом, взглянуть как немец себя ведет в этом проклятом окопе. Там под кустом у самого окопа погиб Коля Хасимов, когда они с Валеевым хотели взять языка. Вот судьба! Под случайный выстрел попал!
Тропинка, на которой мы стоим, тянется вдоль опушки леса. Здесь все знакомо. Здесь две недели назад мы взяли языка. Тропинка под ногами твердая. Чуть только сверху припушена налетом свежего снега. Справа ее прикрывает узкая полоса густых елей. Кругом пушистым ровным слоем лежит снег. На снегу никаких следов, ни воронок от наших снарядов. На елях снежные шапки до самой земли висят. Вот красота! Ни пуль тебе, ни снарядов! Кругом тишина, аж в ушах комары звенят. Вот в таком бы снежку завалиться и отлежаться, выспаться как следует, а я считай вторые сутки и всё на ногах. Мы стоим на тропе и всякая ерунда лезет мне в голову. Hу что? Наверно пора? – думаю я. Вот ведь так всегда. Перед нами низина. В низине смерть. Почему такая тишина? Я стою и медлю. В душе должно что-то подняться и появиться решительность. Тогда уж будет легче. Тогда полное безразличие придет. Нужно собраться заставить себя! А оно еще не созрело. Оборачиваюсь назад, смотрю на цепочку разведчиков. Каждый из них живой человек, как и я, каждого из них сомнения и мысли мучают. Нет никакой реальной надежды, крохотной зацепки, что мы благополучно проскочим низину. Каждый сейчас представляет, что будет в низине, если по нашей цепи ударят немецкие пулеметы. Один шанс из ста проскочить, если ушастый немец в окопе носом клюёт. Я трогаю за плечо Рязанцева, и мы идем в середину шеренги. Пока мы идем, у меня в голове созревает новая расстановка групп. Если пойдут все сразу цепью и попадут под пулеметный огонь, погибнут все, никому из низины не выбраться. Нужно идти по очереди. Пойдем в три группы, прикидываю я. Мы останавливаемся, трое ребят из головного дозора сзади стоят.
– Пойдем в три группы! – говорю я Рязанцеву и лейтенанту, – Всем рисковать сразу нельзя. Первой пойдет группа Рязанцева. Если она попадет под обстрел, мы с остальными ведем огонь по окопу. Даем возможность ей отойти. Если первая проедет без шума, за ней пойдет вторая. Ты лейтенант своих поведешь. Мне оставите трех дозорных (и Рязанцеву еще одного). Мы прикроем на случай обстрела вторую группу. Когда обе группы достигнут опушки леса, я со своими последую через низину. Нас немного, всего пятеро, мы через лощину самостоятельно перейдем. Две группы пройдут, для третьей опасности не будет. Обстановка будет ясна.
– На всякий случаи договоримся. Вы меня ждете на опушке ровно десять минут. После двух осветительных ракет, мало ли что может случиться. Мы можем здесь на немцев напороться. Порядок следования ясный? Вопросы ко мне есть?
– Вопросов нет!
– Может кого из вас порядок следования не устраивает? Сейчас говорите! Потом поздно будет! Кто-то должен идти впереди, кто-то потом и кто-то последним. Кому из вас последним поручим идти?
– Тебе капитан! Какой разговор!
– Я могу пойти через поле первым. Это самое безопасное. Немцы нашего перехода по низине не ждут. И группа у меня самая маленькая. У кого есть сомнения
– Как ты сказал, так и действовать будем. Первым тоже идти опасно.
– И так все решили! Ночная темнота перевалила на другую половину ночи. Немцам видно надоело без конца светить ракетами. Ракеты стали взлетать реже. Немцам видно надоело смотреть на летящие огни.
– Всем приготовиться! – сказал я, – Первую ракету пропускаем, а по второй, когда она ткнется, первая группа бросается вперед. И вот очередная ракета полетела по дуге и ткнулась в снег. Взвод Рязанцева словно подкинуло вверх. Белые маскхалаты пригнулись и цепью метнулись в низину. Еще одно мгновение и они исчезли в снежной пустоте. Прошло несколько секунд ожидания выстрелов и надрывистого удара взахлеб из пулемета. И вот в воздух взметнулась осветительная ракета. Я подался вперед и стал всматриваться в мерцающий свет, бегущий по снегу. Ни лежащих в снегу людей ни белых бугорков их маскхалатов на фоне снежного поля я не увидел. Они видно ткнулись в снег сразу в первый момент. До леса они не успели добежать. Лежат сейчас где-то на полпути. Трудно сказать, где в каком месте они упали. Ночью снежное пространство скрадывает расстояние. Но эта ракета не очередная. Немцы видно заметили какое-то мерцание в низине на снегу. Я напряженно ждал всплеска свинца. Во время войны у немцев на вооружении были скорострельные пулеметы МГ-34. Он давали большую плотность огня. Сейчас врежет в то место, где уткнулись в снег наши разведчики, и считай половина получит приличную порцию свинца, Мы приготовились открыть огонь из автоматов. Точности прицельного огня у автоматов к сожалению нет, убойная сила небольшая, будет конечно трескотня. Из двадцати автоматов плотность огня будет приличная. Бить будем трассирующими. Пулемет сразу подавим. Но тут же в дело войдет немецкая артиллерия. И не известно чем все это кончиться. Она бьет по заранее пристрелянным квадратам. Обрушивается всей мощью нескольких батарей. Как это было с ротой штрафников. Не успели они добежать до немецкой проволоки, как их разметало снарядами. Ни один не вышел оттуда. Прошло минуты две, немецкий пулемет не рыкнул. Я вздохнул глубоко. Тяжесть и напряжение свалились.
– Ну! Теперь твоя очередь! – похлопал я по плечу, стоявшего рядом, лейтенанта. -Одну пропускаем! Вторая ракета твоя! И вот в небе повисла вторая ракета. Лейтенант и его разведчики сжались в комок, немного пригнулись, застыли на месте. Сейчас она ткнется, зашипит, и в набежавшую темноту ринуться люди, надеясь на случай. Они так же бесшумно, как видение, как призрачные тени метнулись сквозь ели и исчезли в снежной полутьме. Мы стояли меж елей и напряженно смотрели в пространство в каком-то неуверенном, напряженном, томительном сосредоточии слуха. Проходит минута, вторая – ракеты нет. Еще минута тягостного ожидания, ракеты нет. Нас среди ельника осталось пять человек. Теперь очередь наша. Мы ждем очередной немецкой ракеты, чтобы сорваться с места и броситься в низину. Проходят первые томительные минуты. По моим расчетам ребята уже на опушке, послали вперед небольшую разведгруппу. Время идет, а очередной осветительной ракеты нет. Нельзя начинать движение, у немцев глаза свыклись с ночной темнотой. Только после яркого света они некоторое время ничего перед coбой не видят. На этом и основаны наши перебежки через низину под носом у немцев. Нужно ждать ракеты. Нельзя рисковать. В ночном поиске всякое случается. Случаются такие дела и возникают такие ситуации, о которых никогда не думаешь и не предполагаешь. Заранее угадать ничего нельзя. " ' ' " Через десять минут группа Рязанцева и взвод лейтенанта углубятся в лес и нам их придется по следам догонять. Они пойдут медленно и осторожно,
осматривая все вокруг себя и впереди. Мы по пробитым следам можем идти ускоренным шагом. Пять, десять минут разницы для нас не играют роли. Мы их успеем нагнать. Между нами такая договоренность, если в нашей группе непредвиденная осечка (вдруг произойдет), они нас не ждут. Через десять минут они покинут опушку и выйдут на лесную дорогу, перережут телефонную связь и повернут в сторону немцев, которые сидят на высоте под Бондарями.
Я сижу в низине и жду немецкой ракеты. И в это время я четко слышу немецкую речь метров в двадцати от нас. По тропе в нашу сторону идут немцы и мирно разговаривают между собой. Я делаю знак рукой ребятам, которые со мной. Оглядываюсь вокруг. Справа стоит Сергей, слева трое ребят из головной заставы. Мы тихо, не касаясь обвисших лап елей, освобождаем тропу, припорашиваем снегом свои следы (на снегу), отходим и приседаем за елями. Напряжение и ожидание растет. Сколько их там? Какая группа немцев? Кажется, что в ушах начинают стучать их шаги. А немцы спокойно не торопясь, ничего не подозревая, идут, покашливают, переговариваются меж собой. Прошло несколько секунд, считай они на десяток метров к подошли к нам ближе. Мы их пока не видим, но чувствуем всеми фибрами души. Тропа идет между опушкой леса и бровкой елей. На тропу нам выглядывать нельзя. Всю обедню можно испортить. Когда они поравняются с нами и нами (как на ладошке), мы их одним движением глаз, одной секундой, не успеешь (только) моргнуть, всех можем пересчитать. Сколько их идет по тропе? И сколько их приходится на каждого из нас? (Каждый из нас увидит и решит без всякой команды). Тут дело решается на секунды. Я чуть высовываюсь из-за ели и вглядываюсь в пространство на тропе. Остальные только следят за мной глазами. Я вслушиваюсь в их голоса и делаю вывод, что их трое или четверо. Я зубами снимаю варежку с левой руки и показываю ребятам три растопыренных пальца. Они меня понимают (опуская ресницы). Я показываю большой палец, выставляю указательный и еще один, а большой к ладони прижимаю. Это значит, что крайний из нас (лежащий позади) возьмет на себя двух идущих впереди. Попеременно показывая' большой и указательный палец я даю знать остальным, что они берут на себя, каждый по одному (идущему сзади немцу). Я показываю Сергею, что он будет брать последнего. Я подвигал двумя пальцами быстро, быстро, а потом растопыренной пятерней ткнул себе в живот. Это обозначает, что если последний немец броситься бежать назад, Сергей должен короткой очередью всадить ему пули в живот. Я не стал ждать, пока Сергей мне качнет головой. Немцы были уже на подходе. За пушистым и плотным рядом елей мы расступились по двое. Один из ребят остался на месте. Вот на тропе показался первый немец. Он не спеша подвигал ноги, как бы волоча за собой сапоги. Голова у него вполоборота назад. Он отвечает что-то идущим сзади. Немцев трое. Они цепочкой двигаются по тропе, не глядя по сторонам. У первого на ремне перекинута через плечо винтовка. Второй несет пулемет, обхватив его поперек руками. У третьего винтовка за спиной, в обеих руках по металлической коробке с лентами. Мы начинаем с третьего. Он идет и не знает, что сейчас получит в грудь очередь свинца. Сейчас он сделает еще шага два и получит и получит удар трассирующими и мир для него померкнет навеки. Первый, который говорит, руки засунул в карманы, винтовка у него за спиной, как у повозочных, у которых в руках вожжи и кнут. Мы с Сергеем меняемся местами. Он будет бить по немцу с пулеметом в руках. Мне нужно брать живьем того, что несет коробки. Первого будут брать без выстрела трое ребят. Когда второй с пулеметом поравнялся с Сергеем, в него плеснула короткая очередь, патрона три не больше. Она треснула, как попавший под каблук сапога сухой сучек. Те двое даже не поняли, что это были выстрелы. Они даже успели сделать пару шагов вперед. Спустя секунду выражение лица у них изменилось. Они, как вкопанные остановились, попятились назад и затряслись. Они увидели, как белые призраки метнулись им навстречу. Они только успели пригнуться, съежиться, напрячь мускулы, чтобы пуститься наутек. А эти белые и быстрые. как видение фигуры успели уже приставить к их груди свои автоматы. А тот второй, что получил три пули в грудь, опустил медленно свой пулемет, ткнулся коленами, (положил его осторожно в снег), повернул голову в сторону Сергея, посмотрел на него (и улыбнулся ему) и даже не пикнул.
Он замер с поднятой головой на некоторое время, уставил взгляд перед собой и стал смотреть на снег, как будто по снегу ползла божья коровка. Ординарец шагнул к нему и ногой толкнул его в плечо, держа автомат на изготовке. Немец шатнулся навзничь и упал на тропу. Двое других заморгали глазами, вскинули руки вверх и засуетились на месте. Один из них, который нес банки с патронами, неожиданно поскользнулся, потерял равновесие, отпустил банки и взмахнул руками. Падая, он успел схватиться за ствол автомата, ища себе в воздухе опору. Сергею показалось, что немец хочет вырвать у него автомат (из рук) и он не раздумывая полоснул немцу в бок короткую очередь. Немец, как подраненный гусь, замахал руками, запрокинул голову назад и повалился спиной в снег. Пули вышли из ствола автомата, ударили немцу в боки и застучали по стволам деревьев (скрипит несмазанная дверь). Сергей нагнулся над немцем, у того расширились и побелели глаза, выперли наружу со страха как у судака, который глотнул крючок и изогнул застывшее тело. На троп лежало два трупа и один стоял полуживой дрожащий от страха Если ни этот один, нам бы не поверили, что мы наткнулись на группу немцев. Сказали бы что мы струсили и в лес не пошли… Посмеялись бы мне прямо в лицо и добавили: – Рассказывай сказки! Этот один для нас доказательство. Бридихин и Чернов на каждом шагу сами врали и наши слова (без всякого) принимали за чистое враньё. Пленному немцу они поверят. При допросе он скажет, что произошло на тропе. Нам бы его теперь только довести и доставить в штаб живым. Почему нам не верят? Почему мы всегда должны перед ними оправдываться и доказывать свою правоту? Интересно получается! Они сидят где-то там в тылу. Вот и сейчас, спят себе в удовольствие, посапывают. Ждут когда мы вернемся и явимся к ним с докладом. А уважения к нам за постоянный риск, кода мы идем на верную смерть, мы не видим. Идешь на задачу – орут! Вернешься из поиска – снова рыки и втыки. Никто ведь из них никогда не видел живого немца с автоматом в руках. А пойди, скажи – тебя заплюют, в лицо будут смеяться с презрением. Нам высоты и опорные пункты нужны. А ты нам представил задрипанного немца и думаешь геройство совершил. Командованию продвижение вперед нужно! А это твоя черновая работа. Подумаешь невидаль немец с винтовкой! Нам результаты нужны, а не твои мелкие потуги! Да! Подумал я. Вся жизнь вот так кувырком идет! Ребята стояли и виновато смотрели на меня. Они как бы спрашивали – что теперь сделаешь? Сорвалось! Вроде один миг, упустили! Я показал на пулемет и махнул на убитых рукой, документы с убитых нужно взять! Остальное – забираем и отправляемся к своим обратно! Рязанцев должен был слышать наши выстрелы. Он видно понял, что здесь произошло. Ждать нас он больше не будет. Он должен действовать и быстро идти на высоту. Надо успеть до рассвета захватить немецкие блиндажи. На нашу стрельбу немцы с других мест не реагировали. Считали, что это стреляли свои. Я велел Сергею в нашу сторону бросить две белых ракеты. Если Рязанцев увидит, то должен понять, что мы возвращаемся в сторону к себе А для немцев, которые сидят в соседних опорных пунктах, это будет сигналом, что в окоп вернулась группа с пулеметом и стала освещать подходы впереди. Похлопав себя по карманам, я показал на убитых немцев. Ребята от расстройства забыли у них документы забрать. Разведчики нагнулись, проверили карманы убитых, подали мне документы и протянули ручные часы. Я не глядя, засунул все под рубаху маскхалата. Пошли мотнул я головой в сторону, окопа. В окопе у нас дежурили двое.
– Свои! – сказал я негромко и тихо пошевелился для верности. На мой голос и свист навстречу поднялся разведчик.
– Свои! Не стрелять!
– Вас поняли! Товарищ гвардии капитан! Это вы там две очереди дали?
– Пойдете по тропе к быстро сюда убитых! Пару минут на все!: Мы подождем вас здесь. Разведчики вскоре вернулись.
– Положите их на бруствер. Руки согните, пока не застыли. Положите их так, как будто они лежат и наблюдают. Вы останетесь, здесь до утра! Если у Рязанцева все в порядке, то я пришлю за вами связного. Если не пришлю, останетесь на день здесь. Менять пока некем.
– Мы пошли в Бондари! Мы вышли с Сергеем на снежную стежку в рыхлом снегу, идти по ней было тяжело. Валенки утопали и скользили в снежной крупе. До тропы, которая в Бондари нужно, пройти с километр снежным полем, Серега шел впереди, а я как всегда, занятый мыслями, тащился в двух метрах сзади. Сделали мы наверно полсотни шагов, Сергей вдруг остановился и замер на месте.
– Мины! Я подошел к нему вплотную, нагнулся вперед и посмотрел в пробитый след в снегу. Там темнея одним боком, лежала немецкая мина. Сколько раз мы здесь проходили, ничего не замечая. Мы отошли несколько назад. Сергей прочертил прикладом поперек тропы и насыпал в нее, чтоб было видно, целую горсть махорки. Это знак тем, что остались в окопе, если они здесь по тропе пойдут. Сергей повернулся ко мне лицом, посмотрел мне в глаза и сказал: – Будем по снегу ее обходить! Вы постойте пока здесь! Я попробую обойти кругом метров на двадцать Ясно было, что мы находились на минном поле. Сергей взял весь риск на себя. Можно было бы немца пустить по снегу первым. Но пленные обычно разведчикам дороже собственной жизни.
– Чего встали? – спросил кто-то из ребят
– На мину наткнулись! Сейчас Сергей по целине обойдет, и можно будет следовать вперед. Скажи остальным, и немца ткните носом, чтобы ступали след в след. Сергей прошел метров двадцать, и мы тронулись по его следам. Никто из нас, которые шли сзади, не говорил: – Ох! Ах! Какое геройство! Для нас это была обычная работа. Пройти по минному полю из нас мог каждый. Мы, конечно, смотрели на Сергея, когда он стал её обходить, ждали взрыва, но тут же успокоились, когда он её миновал. Дойдя до тропы, которая вела в Бондари, я велел ребятам идти на КП полка, передать пленного, документы, оружие и доложить обстановку.
– Передайте в штабе, что Рязанцев вышел на исходное положение. Доложите, почему наша группа осталась на тропе. Передайте, что я пошел на передний край и как только от Рязанцева будет сигнал, что они на высоте, я пойду туда. Мы с Сергеем обогнули овраг, обошли стороной снежное поле, и подошли к стрелковым окопам. В это время я увидел сигнал. Как мы условились, Рязанцев дал две зеленых ракеты. Я поднялся на бруствер и собрался уже идти на высоту, но меня окликнули, к телефону вызывают. Я обернулся, в проходе стоял командир стрелковой роты.
– Кто звонит? – спросил я.
– Командир полка вас требует к телефону. Я спрыгнул в транше и пошел в землянку за ним. Траншея шла под уклон зигзагами. Обледенелые и покрытые снегом бока ее расположены были узко. Под ногами узкая неровная утоптанная тропа. На тропе бугры и какие-то ямы. Идешь и все время руками опираешься на боковые стенки. Из траншеи в сторону немцев прорыты узкие проходы и солдатские стрелковые ячейки. В конце каждой из них видны согнутые спины солдат в шершавых шинелях. Простым солдатам белые халаты не дают. На всех солдат халатов просто не хватает. Маскхалаты имеют только разведчики. Командиры стрелковых рот, батальонов по этим халатам нас в передних траншеях и узнают. Спускаюсь в землянку, телефонист сует мне трубку – Говорите! – добавляет он.
– Аля! Аля! – (Вместо Алё) говорю я в трубку – Мне нужен «Первый», кто на проводе?
– Щас передам – слышу ответ.
– Первый слушает! Кто докладывает?
– Гвардии капитан!
– Какой еще капитан? Я называю ему свою фамилию. Он фамилию мою не знает.
– Капитан из полковой разведки! – уточняю я.
– Вот так бы сразу и говорил! Ты откуда звонишь? Высота взята? Ты был на высоте? Отвечай мне толком! Да или нет!
– Ha высоте я не был!
– О чем будешь докладывать? Ты что, в стрелковой роте сидишь? Мои разведчики с пленным немцем до него еще не дошли, мелькнуло у меня в голове
– Я послал вам контрольного пленного, документы и оружие, которое мы захватили на тропе.
– Какого еще там пленного? На кой мне твой пленный сдался? Мне высота нужна?.
– Высота в наших руках!
– Почему ты не на высоте? Почему ты оказался в траншее стрелковой роты? Опять от дела отлыниваешь? Ты лично должен быть на высоте! Подожди я доберусь до тебя! Немедленно на высоту! И пришлешь мне от туда связного! Связь на высоту через час дадим. Будешь докладывать мне лично оттуда! Из опорного немецкого пункта больше ракеты не вскидывались. Стрельбы не было слышно. Я представил, чем разведчики сейчас заняты. Нашу пехоту они вызывать не торопиться. Сначала нужно самим порядок в блиндажах навести. А то налетит солдатня, сразу все блиндажи распотрошит. Не успеешь глазом моргнуть, все землянки и блиндажи немцев будут очищены. Федя наверно уже под мухой сидит, дает указания, что бы бутылки, хлеб и консервы в один блиндаж сосредоточили. На пробу велит открыть и ту и другую. На переднем крае у немцев полнейшая тишина. Вот так, когда-нибудь и закончится воина. Ни немцев тебе никаких (не будет), ни языков, ни колючей проволоки, ни мин под ногами, ни посвиста пуль, ни разрывов снарядов. Сиди, пей. Закусывай, размышляй в свое удовольствие. А у меня еще втык от командира полка впереди. Я поморщился, мотнул головой и говорю Сергею:
– Пошли! Нам на высоту нужно идти! Связных от Рязанцева можно не ждать. Он сделал свое дело и теперь не торопится. Ему теперь на всех наплевать. У него сейчас райское настроение, кого, кого, а Федю я до тонкости знаю.
Пошли он сейчас в полк (сюда своего) связного, ему и минуты отдыха не дадут. Командир полка тут же прикажет прочесать лес и двигаться на деревню Уруб или рать высоту 222,9. Это только разговоры возьми высоту! Возьмешь деревню Уруб, а правей eё господствующая высота с отметкой 222,9. Пока немец не укрепил её нужно без задержки с хода захватить. А там левей Уруба высота 210.8. Вот если полк. займет новый рубеж на высоте 210.8 – (дер. Уруб- выс. 229.8),то командиру полка меньше золотой звезды не дадут. Это не важно, что он лично все это время седел в блиндаже километрах в трех от передовой позиции. Важно, что он операцию провел. Когда подсчитают наличие солдат в полку, то их окажется около полсотни. Мы вроде как дураки. Ничего не понимаем. Мы прекрасно знали, что он на этом… (хочет в рай угодить). На нас ему наплевать. Не все ли равно, кто будет в полку брать высоты и деревни. Для того, чтобы взять Уруб и 210,8 или 222,9 в полку нужно иметь по крайней мере тысяч пять пехоты и артиллерии на километр (по двадцать) стволов по тридцать. А нас можно сунуть на высоту послать брать деревню, На войне всяко бывает. Высоту под Бондарями с маху, с налета взяли, теперь можно и в другом месте попробовать. Вот в дивизии и в штабе армии разинут рты. Кто это? Кто взял? Кто, кто? Командир пятьдесят второго, Бридихин!. Вот человек железной воли. То на него пишут несоответствие, а он оказался каков? Мы с Сергеем шли по нейтральной полосе и в голове у меня вертелись разные (мысли) представления.
– Осторожно капитан! Не задень колючую проволоку! У немцев здесь мины натяжного действия под снегом лежат, обернувшись сказал Сергей и я медленно вернулся на землю.
– Тут.минное поле, а мы топаем без разбора!
– Это вы не смотрите под ноги, где и как мы идем, а я смотрю в оба глаза и все точно (подозрительное) подмечаю, минное поле осталось влево. Мы обошли его стороной. Теперь нам осталось пройти колючую проволоку. Здесь были где-то проходы с заходом между рядами проволоки. У немцев они были для выхода в нейтральную полосу. А с нашей стороны их не видно. Проходя зигзаг в узком проходе в заграждении я цепнул раза два халатом за про волку, взрыва мины не последовало, а маскхалат я порвал. (в нескольких местах) (Тишина кругом-красота! Вот и подъем на высоту. От сюда виден снежный край немецкой траншеи. Но ни где ни часовых, ни постовых – как будто все живое вымерло. Мы подходим к переднему брустверу и смотрим вдоль траншеи. В двух блиндажах двери открыты, снег у входа светится отблеском горящих коптилок. Вон тот самый большой блиндаж. В его проходе стоит часовой в маскхалате. Это кто-то из наших.
– Где Рязанцев? – спрашиваю я.
– Здесь, в блиндаже.
Мы опускаемся в проход и идем навстречу свету.)
Колючая проводка у немцев сталистая. Режешь ее щипцами, она как пружина звенит. Дернется из под резака и мотнется куда-то в сторону и как стальная струна Загудит. Были случаи резанет по лицу человека и не почувствуешь, только видит, что кровь с подбородка на снег струйкой бежит. Это наша, как льняная веревка мягкая, обрежешь ее, она как мочало висит. Притом немцы ставят проволочное ограждение близко от своих окопов. Это нас до войны учили ставить проволоку подальше от траншей, чтобы солдаты противника не могли добросить до нас гранаты (до твоего окопа). Война оказалась совсем другой. Когда немцы идут в атаку они не применяют ни гранат, ни штыков. На винтовках они штыков не носят, штыки у них болтаются на поясе в чехле. Атакам у них обычно предшествуют массированная бомбардировка или трёхдневная обработка позиций противника артиллерией. Они с винтовкой идут вперед когда вся земля впереди перемешана. А как мы ходим без всякой подготовки с диском патрон, (и винтовкой наперевес) они этого не понимают.
Я шел за Сергеем, забыв про мины и минное поле. Правда, накануне прошел довольно сильный снег и над минами вырос новый слой снега. Но вот немецкая проволока позади. Впереди подъем на высоту. Подымаемся выше, отсюда виден снежный край немецкой траншеи. Смотрю поверху снежного бруствера, нигде ни часовых, ни постовых. Здесь в немецкой траншее как будто все вымерло. Мы идем вдоль бруствера и смотрим вперед. Вот два снежных бугра, это немецкие блиндажи. В блиндаже двери открыты, снег на проходе у дверей светится отблеском горящих свечей (сальной коптилки). В проходе блиндажа стоит часовой. Приглядываюсь к часовому, лица его пока не вижу, но думаю, что это один из наших. Уж очень знакомая фигура со спины.
– Где Рязанцев? – спрашиваю я
– Вон в том блиндаже!
– А ты чего здесь стоишь?
– Блиндаж стерегу, чтоб пехота не заняла, если явится.
– Ну! Ну! Мы спускаемся в траншею и идем к большому блиндажу. Впереди мерцает свет (на снежной стенке, мы идем ему на встречу). Кругом полнейшая тишина. Вот красота! В проходе блиндажа часовой. Из глубины блиндажа доносятся голоса. *
– Ура, капитан пришел!
– Давай быстро братва! (Три бутылки на стол!)…для капитана! Я смотрю на них и понимаю их восторг. Взять высоту без потерь – не малое дело! Они к бутылкам успели приложиться. У них настроение веселое. A мы с Сергеем трезвые, и у меня кошки скребут на душе. Вот русский солдат! Ему наделов земли не надо, как обещано немцам за войну. Ему бутылки со шнапсом открывай. Наелся, напился и спать завалился! А что будет завтра? Завтра проснемся, дай бог похмелиться! Тут главное душу не тяни! Захотел бы командир полка взять высоту. Выставил бы перед разведчиками флягу чистого спирта. Вот возьмете высоту – ваша! Дадите с высоты красную ракету, тут же фляга будет доставлена. Два дня можете гулять. На третий день пол фляги на похмелку пришлю. Вот это деловой разговор! А то все орет и пугает, на горло хочет взять. А что нас пугать? Мы ничего не боимся! Когда к нам с протянутой кружкой. Мы со смертью можем под ручку, как с блудливой девкой, как с гулящей кралей. У нас у русских, чай каждый знает, какому обычаю после такого дела положено быть. Мы с Серегой стоим в проходе блиндажа. Рязанцев сидит за столом, откинувшись слегка и растопырив ноги. Он как Стенька Разин, вроде как на ладье, по Волге матушке с хмельной компанией пирует после богатой добычи. Не хватало только (для общей картины) персидской княжны!
– Капитану штрафную! – нараспев прогудел раскатисто он. – Надо отметить нашу удачу! Нас с Серегой усадили за стол, откупорил и бутылки, подали к каждому в руки. Рязанцев поднял свою недопитую, поднес к моей и ударив чокнулся
– Давай, капитан! В ней градусов тридцать (не больше будет. Мы сегодня прям из бутылки)
– Сенченков, закусить! (Капитану и ординарцу). Открой немецкие шпроты!
– Ты вот что Федя! Пока мы не забыли и де предела не дошли, пошли в полк связного Командир полка там орет. Я с ребятами не смог к вам сюда следом т попасть. Немцы неожиданно на тропе появились, двух пристрелили. Одного взяли в плен, отправили в полк. Но ему этого мало. Он орет почему я с тобой не пошел на высоту.
– Я так и понял, когда сзади перестрелку услышал. (А здесь немцы сразу сбежали, когда мы вскочили на их блиндаж… выходили сюда по дороге, вижу. Так что всё обошлось без потерь).
Я дал потом сам как условились две зеленых ракеты, а за пехотой не стал посылать.
– А ты сколько пленных взял?
– Мы взяли двоих. Один унтер-офицер артиллерист, а другой солдат из немецкой инфантерии. Вон в углу за нарами сидят. У них тут кругом деревянные настилы. Куда ни глянь струганные доски и нары с каймой. На стене вон зеркало висит. Рамы со стеклами для дневного освещения. Спят с открытой форточкой, чтобы воздух чистый снаружи шел. Разве так воюют? Мы подошли со стороны леса, смотрим, у них в окнах свечи горят. Вскочили на насыпь сверху. В трубу им по лимонке сунули (приложили ухо к концу трубы) и слушаем, что после взрыва будет. Она рванула, немцы как завопят, у меня аж волосы дыбом встали. Я такого никогда не слыхал. Смотрим, дверца в блиндаже – скрип; и от туда немецкий унтер с поднятыми, руками является. Один показался. Мы его взяли. Второй вон в том блиндаже на нарах лежал. Сенько сам лично за ногу стащил его с нар культурно. Гранаты бросили в два блиндажа. Четверых у печки убило. Седели на лавке около печи, Двое без сапог. Вигоневые носочки возле печки сушили. У дивизионных разведчиков ни одного живого пленного. Они штук по пять гранат в трубу им сунули. Один немец выбил окно и в лес убежал. Пристрелить не успели. А остальные все замертво остались лежать. Так что у лейтенанта из дивизионной разведки ни одного пленного нет. *Вот мы подошли и деревянные ступеньки, уходящие в глубину блиндажа (По словам разведчика Рязанцев сидел, Рязанцев напротив стенного зеркала сидит и играет на трофейном аккордеоне) Рязанцев сидит напротив стенного зеркала, в руках у аккордеон. (Я спустился в блиндаж, увидел раскрасневшегося Федю со всей его). Увидев меня, Рязанцев поднимается с лавки. Передает сержанту блестящий аккордеон и, подавшись вперед, приветствует меня пожатием руки.
– Видишь капитан! Мы все сделали как ты говорил! Как надо! Я слышал сзади стрельбу на тропе и понял, что вы вслед за нами на опушку леса не придете. Я сразу понял, что вы на немцев наткнулись. Я посоветовался с Сенько и мы не долго думая подались сюда на блиндаж. Перерезали им связь. Пять проводов в лесу на деревьях были подвешены. Вот видишь сидим, справляем победу.
– Сержант Сенько! Доложи капитану – как было дело – пробормотал Рязанцев, (как бы) язык у него уже заплетался (косточки от компота). Он говорил и как будто слова выплевывал. Видно Федя был уже как следует поддавши. Рязанцев опустился на лавку (ноги его не держали, губы не слушались).
– Давай выпьем – за победу каштан! – сказал он, вспомнив о главном. Он поманил к себе пальцем разведчика и показал ему двумя пальцами на ящик.
– Достань для капитана шипучего! Мадьярское, шипучее. Как сейчас помню – золотистого цвета. Открыли бутылку и оно закипело, переливаясь из бутылки в кружку. (Да, да! В бокал!) (На столе стояли тонкостенные стеклянные бокалы, немецкие фужеры) Я посмотрел на железную печку, где рванула брошенная сверху в трубу граната и удивился почему не разбилось зеркало не выбило стекла в окне.
– Давай капитан! Выпьем за наши успехи! Серега говорит, что вы тоже пленного взяли. Молва, знаешь, быстрее пули летит! Давай по первой! Потом по второй. Теперь нам можно! Ящик шнапса у нас в кармане. Шнапс для нас, а пленных для
командира полка. Ты капитан с докладом не спеши. Подождем до утра! Я часовым приказал сюда никого не пускать. Здесь вдоль проволоки везде мины навешены, Пехота без нас не сунется. Утром пусть разминируют проходы. А мы до утра отдохнем. Сколько можно быть без отдыха и без сна? Разве это справедливо? Я лейтенанту из дивизионной разведки сказал, что тут не все немцы из землянок выбиты, займи оборону в двух блиндажах. Сиди и не рыпайся! С рассветом разберемся! Я знаю командира полка! Он нас опять куда-нибудь вперед сунет. Ему территорию подавай А нам она на хрен нужна. Наше дело контрольные пленные. Пей капитан! Все равно они нас не оценят! Открой Сенько нам с капитаном еще по одной! Ребятам дай по бутылке на рыло и сам угощайся! Дежурному наряду ничего не давай! Они завтра получат свое! Так им и передай! Рязанцев посмотрел на меня,и видя что я молчу, улыбнулся. Он был доволен, что раздал столько важных указаний и распоряжений. Решительно наполнив кружку он опрокинул ее, надел на плечи ремни аккордеона и посмотрел на себя в висевшее на стене зеркало.
– Бывало, впашешь пашенку, лошадку распряжешь! А сам тропой знакомою в заветный дом пойдешь!…
– Нет у меня больше жены, капитан! Хоть она в Москве на Рождественке, в доме два живет.
– Почему же нет?
– Уж так! Нет!
– Ты вот что послушай капитан. Лейтенант из дивизионной разведки спросил меня почему вашего капитана начальство не любит? Я ему говорю, кого ты имеешь в, виду?
– Нашего Чернова и вашего командира полка,
– Я ему говорю. Что ты понимаешь в людях? Капитан – человек! А эти двое – шкуры!
– Хватит Рязанцев! Дальше можешь не рассказывать! – сказал я, – Налей-ка лучше! Что-то ты вдруг хвалить стал меня. Как будто разлука предстоит, прощаться пора пришла.
– А что капитан! Допьем этот ящик, возьмем я простимся! Лучше заранее проститься! Я сон не хороший видел. Некоторое время мы сидели и молчали. Выпили еще. Рязанцев отвалился на нары и тут же заснул. В это время я услышал шум и голоса наверху.
– Сергей! Сходи, узнай! В чем там дело? Сергей перебросил из рук автомат на плечо, поднялся рывком и исчез за дощатой дверью.
– Лейтенант из дивизионной разведки проситься сюда!
– Скажи, чтоб вернулся на место! До рассвета через проволоку идти нельзя. В темноте могут подорваться на минах. Когда я, Рязанцев и лейтенант из ЗОГРР явились на КП командира полка, на дворе, если так можно сказать было уже совсем светло. Командир полка сразу набросился на меня, почему я не доложил о завершении операции и не стал преследовать немцев.
– А кого, собственно, преследовать. Двое пленных остальные перебиты. Вот у лейтенанта один через окно удрал. Рязанцев молча сплюнул на пол и отошел к двери. Лейтенант просунулся вперед, нагнулся над Черновым и стал нашептывать ему что-то на ухо.
Хорошо, что мы держали его в стороне, подумал я. Он об ящике шнапса ничего не знает. А то бы нам было с этим свидетелем хлопот.
– Командир дивизии запрашивает нас о ходе операции, а мы ничего ему не можем сказать. Тебе капитан это так не пройдет. Мы сидим здесь как дураки и ничего не можем доложить.
– Вы знаете, что вдоль всей немецкой проволоки навешаны мины. Я не мог в темноте рисковать жизнями солдат.
– А как ты сам прошел?
– Где прошел один там другие могут подорваться (запросто). Я посмотрел на них. Они были выспавшись, позавтракали и начисто побриты. А у нас глаза липнут к щекам. Хорошо, что они не знают о ящике шнапса.
– После взятия опорного пункта мы дали в вашу сторону две зеленых ракеты. А то, что ваши наблюдатели прозевали их, я не виноват! Опорный пункт взят! Сколько ушло на это времени, это дело наше! Мы могли брать его двое суток или вообще не взять. Звоните в дивизию и докладывайте о деле. Солдат и командиров взводов надо представлять к награде. Вот список (представленных и) наиболее отличившихся. А обо мне можете не беспокоиться. Я и без медали вашей вшивой как-нибудь обойдусь. Себя не забудьте! Часа через два немец опомнится многие, что сидят на высоте до наград не доживут… Я положил на стол список представленных к награде и вышел на волю. Вслед за мной вышел из блиндажа начальник штаба майор Денисов. Он подозвал связных, стоявших около блиндажа и послал их в батальон с приказом пехоте занять Бондари. Чернов оказался тоже наверху.
– Вот что капитан! – обратился он ко мне – Нужно срочно пока не оправился немец овладеть отдельно рощей около деревни Уруб. Смотри сюда! Показываю по карте!
– Здесь у немцев батарея на прямой наводке стоит и – сказал я и покачал головой.
– Вот майор Денисов свидетель. Восемь разведчиков против десятка орудий, которые стоят на прямой наводке! Как ты думаешь? Не смешно? Что-то я за всю войну такого не слыхал, чтобы десяток разведчиков уничтожили батарею самоходных орудий, причем днем у всех на виду. Я согласен пустить людей и сам лично пойду при одном условии – ты и командир полка будете идти рядом со мной. Ни ты, ни он из блиндажа носа не высунете. Вы же немецкую шрапнель никогда не нюхали.
– Ладно иди капитан – сказал примирительно Денисов.
– На войне ценятся те, кто действует не рассуждая – услышал я (фразу сказанную мне) вдогонку голос Чернова. Я замедлил шаг и обернулся.
– Я с сорок первого с ротой на немцев ходил. Тогда не рассуждал, думал так надо. А потом оказалось, что я на прохвостов работал. Кишка тонка у вас накрыть артиллерию немцев. А солдатская жизнь вас не волнует. Чужими руками жар хотите загребать! Я повернулся и пошел на высоту. Пока я вел с Черновым разговоры Рязанцев ушел на высоту (допивать оставшийся шнапс). Он с ребятами допил бутылки (оставшиеся в ящике), ему надоело сидеть перед зеркалом и он решил погулять с гармошкою по высоте. Пока полковое начальство организует саперов на разминирование проходов, пока пехота явится на высоту, пока в разведку придет распоряжение прочесать лес, они успеют погулять.
(прогуляться по разбитой деревне) Видно приятно было Рязанцеву вспомнить, (что вот так когда-то с своей) что ходил в молодости он под гармонь вдоль деревни и драл песняка.
– Бывали дни веселые, гулял я молодец. Не знал тоски кручинушки, был вольный удалец…
– Рязанцева ранило! – запыхавшись, выпалил, бежавший мне на встречу разведчик (связной).
– Тяжело? – спросил я.
– На ноге пальцы оторвало!
– Где же это его угораздило?
– Они товарищ гвардии капитану немецкой гармошкой по деревне решили пройтись! Взялись под ручки, и целым гуртом песни горланили. Немец из миномета по ним (дал) саданул. Когда я пришел на опорный пункт в Бондари, Рязанцев сидел на лавке и держал перевязанную ногу на весу. Через наложенный бинт сочилась свежая кровь. Рязанцев был бледен, но совершенно спокоен. Сенько доложил:
– Взял нож и отрезал пальцы, которые у него болтались на мясе. Выпил полбутылки шнапса и велел послать связного к вам, вас найти. Так мол и так! Отправляюсь в медсанбат. Сенько за себя оставляю!
– Отбери, Сенько, четырех самых здоровых ребят. Положите его на палатку и мигом к старшине доставьте! Передайте старшине, пусть сам его в медсанбат отвезет.
– Ну как Федор Федрыч, ты со мной вполне согласен?,
– Я согласен! Только пусть мне пару бутылок в дорогу дадут. В карманы заткнут. Он хотел чтобы его поскорей отправили в тыл к старшине. Я думал, что он спешит в медсанбат на перевязку. (А как выяснилось потом он на сутки задержался у старшины. Старшина, конечно, расстроился и расстарался, достал флягу спирта и на закуску нарезал сала).А он, как потом выяснилось, решил опохмелиться и поспать до утра, у старшины. Старшина достал из запасов флягу спирта, сала на закуску, и Рязанцев изрядно выпив, провалялся у старшины до самого вечера. Он знал наверняка, что попади он сразу на перевязку в медсанбат, ему бы в горло ничего не попало. Вечером он еще поднабрался и только утром через сутки отправился к врачам. У него уже были признаки гангрены. Вот собственно и вся история. На этом и кончилась наша совместная служба.
Потом летом сорок четвертого, я разыскал его в госпитале на улице Радио. Я лежал тогда в госпитале на ул. Осипенко. И когда я стал понемногу ходить, я поехал на улицу Радио к Рязанцеву. Встреча была шумной, но не особенно радостной. Рязанцева вскоре вызвали на осмотр к врачам. Ждать его я не мог и мы расстались. Когда я стал ходить, я заехал еще раз в госпиталь, но его там уже не оказалось. При первом посещении я оставил ему свой московский адрес, но писем от него не получал. В общем Рязанцев запустил свою ногу. У него пошла гангрена.Ногу отняли сначала ниже колен, а затем отрезали выше. Больше мы с Федор Федорычем никогда не виделись. На Рождественке у жены он жить не стал, по выписке из госпиталя куда-то уехал.
Я много раз справлялся через Мосгорсправку, но мне каждый раз отвечали, что адресат в Москве не значится.
* * *
Текст главы набирал SSS Сергей@mail.ru
21.07.1983 (правка)

После отъезда Рязанцева в госпиталь полковая разведка осталась без командира взвода. Пополнение из госпиталей из курсов, но никто из них идти в полковую разведку идти не хотел. Разведка дело добровольное, тут приказным порядком ничего не сделаешь. После февральских боёв на передовой… лишь те сотни солдат… Участок фронта на котором мы занимали оборону… метров в общем майор Бридихин хоть и назывался командиром полка, а фактически командовал не полной ротой, к ней бы солдат, чем в обычной школе укомплектованной по военному времени роты. На войне часто бывает, с утра солдаты в полку есть, а к вечеру их не стало. С утра их в роте сотни, а к вечеру их десятка не насчитаешь… Сунь сейчас эту сотню вперед и тотчас никого не останется. Командиру полка остаться без солдат… нельзя… А в резерве ты не хозяин, и ни Манькиной сиськи…
Эту мысль полкового подхватили тут же комбаты. Приказали командирам рот беречь своих солдат(и без предварительной разведки полковыми разведчиками не куда не соваться). За потерю каждого солдата будут строго спрашивать! Мы с Сергеем вышли из штаба и пошли на передовую. На полпути от переднего края в стороне от тропы находилась землянка комбата. Около неё не большая группа солдат и топтался комбат. Я посмотрел на него и решил (подумал), что он кого-то дожидается. Около него стояли связные (солдаты) из роты и ординарец с автоматом наперевес (на плече). (А) Может в роту собрались идти, подумал я. Только мы поравнялись с ними, слышу немецкие снаряды летят.
– Ложись! – истошно закричал комбат и бросился (стремительно) в проход землянки. Солдаты, стоявшие около него, (покатились вслед за ним в поход землянки) повалились на землю. Снаряды прошуршали низко над головой и урча пошли куда-то дальше (тылы, нашим полковым тыловикам тоже иногда доставалось). Звуки утихли и я услышал голос комбата. Мы с Серегой продолжали (идти дальше) свой путь по тропе.
– Гвардии капитан подойди!
– (Можно вернее поговорить)Хочу поговорить с тобой!
– Иди догоняй (я тебя жду)! Говори! Что надо?
– Есть приказ командира полка подобрать для нашей роты новые позиции.
– Ну раз есть, так подбирай! Что ты мне об этом говоришь?
– Ты меня не правильно понял! Командир полка майор Бридихин велел вам для нас подобрать позиции.
– О таком приказе я не слышал.
3.
– Командир полка мне о таком приказе не говорил. Я только что был у начальника штаба, и о (приказе)тебе разговора не было. Ты что-то путаешь комбат.
– Нет, я не путаю! Командир полка звонил по телефону и велел передать, чтобы разведчики нам подобрали позиции. Вот я передаю тебе этот приказ. Я повернулся. Похлопал его по плечу и сказал:
– чтобы отдать новый приказ, нужно сперва старый отменить, чтобы не было путаницы и накладки (никакой). Ты меня понял? Я имею (сейчас) другой приказ. Всё запомнил, о чем я тебе говорил? Передай Бриндихину, если будет еще раз звонить (что ты видел меня, говорил со мной и что я тебя послал подальше. На счет новых позиций, ты их сам подбирай. Усек? Боишся небось к немцам в плен попасть? Видишь передовую, я хожу и вроде ничего!). Я повернулся к (комбату) нему спиной, (плюнул) подтолкнул локтем Сергея и мы, не торопясь, пошли по тропе на передовую. Когда меня в штабе полка Денисов спросил, кого я думаю назначить на место Рязанцева, я ответил:
– Не знаю! Я с ребятами говорил. Взвод принимать никто не хочет.
– Но ведь это временно, пока мы подберем на это место офицера.
– Вот именно, что временно! Никто не хочет ругань терпеть.
– Кто у тебя во взводе старший по званию?
– Старший сержант Сенько!
– Пришли его ко мне! Я сам с ним поговорю!
– Я не буду в этом деле участвовать. Вызывайте сами.
– Бридихин велел тебе.
– Бредихин? Он тут сорвался и наорал на меня. Вот пусть сам вызывает и назначает. Когда Серафима Сенько вызвали в штаб полка и Денисов предложил ему принять взвод разведки, то Сенько наотрез отказался.
– Почему? Какая причина? – спросил его Денисов.
– Ребята в разведке служить устали. Хотят в пехоту рядовыми переходить. Солдаты там спят и ничего не делают, а здесь передохнуть не дадут, то за языком иди, то высоты бери. На кой мне хрен за всех отвечать.
– После штурма высоты нам положен отдых две недели. А нас гоняют каждый день без сна и еды, на капитана орут.
– Ты за капитана не говори! Это не твое сержантское дело. Ты за себя говори!
– Взвод принимать (будешь. нет) не буду. Сколько можно без отдыха (ходить)? На взвод не пойду. Можете отправлять рядовым в пехоту. Начальник штаба отвернулся (и замолчал), занялся каким-то бумажным делом. Он решил разговор не продолжать. Может старший сержант помолчит и одумается. Сенько не стал ждать когда ему скажут иди. Разговор окончен, значит он свободен. Он повернулся и вышел из блиндажа. Наверху (метрах в двадцати от прохода) его дожидался наш старшина Тимофееч.
– Ну как уговорили? (Можем твоё назначение отметить?). Назначение нужно (отметить) обмыть!
– Нет старшина! Пусть другого найдут! Пошли! Серафим парень решительный. Разговор окончен. Надо идти. А то еще скажут, что Сенько передумал.
– Платить, говорит, будем. А мне деньги на что? В карты я не играю. Родные в оккупации. Посылать деньги некуда. Я воюю с фрицем за Белоруссию, а не за деньги. Мы с Сергеем подошли к солдатской траншее, спрыгнули вниз, прошли вдоль её зигзагов, нашли наших ребят и направились к лесу. В окопах и блиндажах, которые накануне взяли наши ребята, теперь сидели стрелки пехотинцы. Бредихин орал на меня, почему я сразу не стал преследовать противника. А кого, собственно, преследовать? В лесу их и раньше не было. Они леса боятся. И сейчас там нет никого. Кого я собственно должен преследовать? Наступать вперед должна пехота.
– Ты должен был на плечах бегущих немцев ворваться в деревню Уруб или на высоту 322,9.
– Это вы майор так (желаете) полагаете. Разведчиков в наступление хотите послать. А у меня их всего шесть человек.
5.
Разведчиков хотя юридически запрещено использовать в атаку ходить. После Бредихин немного остыл, велел мне лес прочесать, выйти на северную его окраину. Понятие, лес прочесать растяжимое. Для этого нужно иметь сотни солдат. Поставить их цепью и вперед пустить! А сейчас я могу взять с собой трёх ребят и по дороге (пройти. Выйти после…,)на ту сторону. Если вас это не остановит, можете считать, что лес прочесан. Я высказал свое мнение по проческе леса, а сам подумал, у немцев весь участок здесь оголен. Пока они во всем разберутся, дня два, по крайней мере пройдет. Бежавшие в панике будут врать и преувеличивать. Пока их соберут и всех опросят, время уйдет. А то, что наши молчат, не лезут напрасно нахрапом, то это часто бывает. Бридихин орал, почему я сразу не стал преследовать немцев.
– У меня нет сил душевных! – ответил я.
– Каких ещё душевных?
– Таких! Мы много суток (уже) не спим и выдохлись (окончательно). Мы не покойники. Нам отдых нужен! И душа у нас есть.
– Какой тебе же сейчас отдых? Потом отдохнешь!
– Это когда трупами лежать будем?
– Ты опять за своё? Я приказал тебе сегодня ночью прочесать вдоль дороги лес и на выходе из леса поставить заслон. К утру ты (должен) доложить мне о выполнении приказа. Пришлешь мне (солдата) связного. Сам останешься там.
– В таком случае пишите приказ по полку на разведку. Чтобы потом не было никаких (упреков) разговоров. Я мол тебе так сказал, а ты наоборот всё сделал. А на счет преследования противника я вас что-то не пойму. Моё дело разведка, а в наступление должны стрелковые роты идти. Послушать вас, для чего (тогда) стрелки солдаты нужны, если за них деревни и высоты штурмовать и (брать) будут разведчики. Крика и ора я вашего не боюсь (и терпеть не буду). Я сам орать умею. (Так что на будущее без крика прошу говорить, а то я ведь и могу вас послать куда следует). Можете не орать. И на будущее учтите. А то ведь я могу ва с послать куда следует. Часа за полтора, не торопясь, мы с ребятами прошли лес и осмотрели опушку. Выставили часового и установили очередь, кто за кем дежурит.
Я решил дать выспаться всем до утра. Нельзя без сна и отдыха непрерывно вести разведку. Стрелковые роты без нашей предварительной разведки (нами леса) сюда не пойдут. Хотя Бридихин мог вместе с нами сюда послать одну стрелковую роту. Но он чего-то (боялся) медлит. Северная опушка леса, когда мы выходили на неё, была безмолвна и недвижима. Деревья и кусты покрыты пушистым толстым слоем чистого (, нетронутого) снега. Только на (побуревшей) дороге, в наезженной колее (и следах от немецких сапог ног), в наезженной колее видно было следы немецких зимних повозок (солдатских окопов). А кругом все (было) ослепительно бело и удивительно чисто (неприкосновенно). Ни звука, ни шороха, ни полета пули с той стороны. Ни одной старой и свежей воронки от наших снарядов, ни одного упавшего сучка, и (задетого осколком при в взрыве) надломленной ветки перебитой осколком. Куда же били наши артиллеристы? Зачем они пудрили нам мозги, что им на день не достает по десятку снарядов (на расход). Врут как всегда. Стоят не стреляют. Никаких тебе потерь ни в лошадях, ни в людях. Пройдя метров двести по опушке леса в сторону и осмотрев всё кругом, мы никаких следов на снегу не нашли, вернулись к дороге и стали устраиваться на отдых.
– Зайди в лес поглубже, наруби лапника для подстилки! – сказал я Сергею.
– И вы тоже! – посмотрел я в сторону ребят. Выбрав сугроб за пушистой елью, я обтоптал ногами снег (из расчета на двоих). Сергей набросал лапника и мы устроились в мягком, пахучем (свежей елью) углублении. Сергей натянул поверх (нас) шершавое одеяло. Я хотел что-то сказать, но слова не получились. Засыпая, я (просто что-то) что-то пробормотал. Сколько я спал трудно сказать. Когда я открыл глаза небо уже светлело. Меня никто не будил и за рукав никто не тянул. Сергей тихо посапывал, лежа рядом под одеялом. Я вылез из под одеяла, прикрыл Сергея и перешагнул через (край) сугроб(а).
7.
Огляделся вокруг и вышел (из-за ельника) на дорогу. Кругом было по-прежнему тихо. Часовой, услышав поскрипывание моих шагов, повернулся в мою сторону и (подошел ко мне) пошел мне на встречу. Мы стояли на дороге. Я хотел спросить его, что там видно и слышно у немцев, но в это время почувствовал спиной, что кто-то (в лесу) движется в нашу сторону по дороге из глубины леса (по лесной дороге). Обернувшись, я увидел как от поворота дороги отделились темные фигуры солдат. Они были без маскхалатов и двигались в нашу сторону нестройной толпой. Издалека их не разберешь, наши они или немцы. Со сна глаза (у меня) как в тумане. Смотришь вперед, трешь их кулаком и кроме неясных очертаний фигур ничего не видишь. Я особенно не беспокоюсь. Они не видят нас. Мы можем в любой момент отойти в глубину леса и встретить их автоматным огнем. Я поднимаю руку, для всех это команда – внимание! Ребята по два, по одному становятся за (деревьями) стволами и бесшумно взводят затворы автоматов. Но вот фигуры вываливают на дорогу из-за поворота и вижу, это наши славяне идут. (Они ходят обычно как стадо баранов). Если бы это были немцы, они бы шли осторожно, оглядываясь по сторонам. А эти идут никуда не смотрят, бредут (как-то) сами собой. За мной прислали связного. Командир полка вызывает меня к себе.
– Тебе нужно было на деревню Уруб идти, а ты просидел целую ночь на опушке!
– Я не сидел!
– Чем ты занимался?
– Лежал и спал в снегу! Я не кобыла спать стоя не умею! Вы каждую ночь спите. А я уже трое суток не сплю. И разница есть. Вы в блиндаже, а я на снегу. Короче! Куда я должен сейчас идти?
– Пойдешь со мной на опушку леса. Я сейчас туда собираюсь идти. Придем на опушку, там оглядимся, решим и посмотрим. Проспав на снегу я не выспался, не чувствовал бодрости и ясности в (уме) голове! Я был по прежнему, так сказать, в полусонном, полусознательном состоянии.
При выходе на задачу и поиск голова у разведчика должна быть ясная (работать безошибочно, быстро и четко, должно быть ясное мышление и не затуманенные бессонницей мозги. Он должен улавливать вокруг всё, даже мелкие, незначительные детали и карты). Человек должен обладать мгновенной реакцией (светлым, проникновенным разумом). Тут каждое мгновение (может всё изменить) нужно решать умом. Когда мы пришли с командиром полка на опушку леса, он вышел вперед и встал за крайнюю толстую ель. Достав бинокль он долго смотрел (куда-то) вперед. Открыв планшет и проверив свои наблюдения по карте, он подозвал меня и спросил:
– Где твои разведчики? Нужно послать их по дороге вперед, я сам хочу посмотреть где немцы сидят. Кто старший во взводе7
– Старший сержант Сенько! – ответил я.
– Пусть возьмет с собой человек восемь, десять, И подойдет ко мне.
– У нас всего осталось шесть (человек).
– Шесть, значит шесть! Я послал Сергея за ребятами. Они (стояли сзади) сидели в снегу за ельником. Подошел Сенько.
– Пойдешь с группой ребят по дороге – сказал командир полка – Выйдешь в направлении вон той отдельной рощи и поднимешься за бугор. А я буду сам наблюдать за вами (от туда).
– Светло! – возразил было Сенько.
– Ничего! Нечего время терять! Отправляйтесь! Ребята кучкой вышли на дорогу, оторвались от опушки леса и пошли в сторону немцев. По дороге в светлое время! – подумал я. Немцы обычно ждут на дороге нашего приближения. На дорогах, при подходе к деревням в светлое время обычно и гибнут разведчики. Они попадают под прицельный огонь (в упор). А где сидят немцы, с двадцати шагов их не видно. На опушку леса вышли комбат и командиры рот (по-видимому показались наши солдаты из пехоты). Им тоже нужно знать, что будет с разведкой при подходе к отдельной роще. Мы стояли за деревьями, а кто-то вылез из них.
9.
Кто-то вылез неосторожно вперед. Потому, что тут же сразу послышались далекие, глухие раскаты орудийных выстрелов и к опушке леса понеслись снаряды (целой чередой). Командир полка тут же ушел по дороге в глубину леса за поворот, пехота подалась немного назад, а мы с Сергеем остались и наблюдали за ребятами. Я попробовал было лечь, но из-за сугроба (снега) ничего не было видно я поднялся на ноги и встал за толстый ствол высокой ели. Снаряды ложились по опушке леса и вдоль дороги. С каждой минутой обстрел усиливался. Группа Сенько дошла до снежного бугра (на дороге) поднялась на него и стала неестественно пятиться. Нм звуков винтовочных выстрелов, ни трескотни пулемётов не было слышно. Полета трассирующих тоже не было видно. Я увидел, как трое взмахнули руками и стали валиться на спину. Ну вот, Бридихин добился своего! Глаза у меня были открыты, я ясно видел происшедшее, но вдруг почувствовал, что оторвался от ели и отключился от внешнего мира. Мысли мои вдруг ушли во внутрь. Что было дальше я ясно не помню. Я лишь почувствовал, что меня что-то ударило между ног. Как будто до этого я сидел верхом в седле на кобыле и был внезапно выброшен из седла. Острой боли при этом не было. В памяти произошел какой-то провал. То ли меня (наяву) снарядом ударило, то ли всё это я видел во сне. Очнулся я в блиндаже, открыл глаза и посмотрел в потолок, пытаясь вспомнить, что же собственно произошло. Смотря на верхние ряды бревен первого наката, я стал изучать их шершавую кору. Закопченные сукастые бревна были разной толщины. Здесь были такие – толщиной в руку. Сергей сидел на корточках около железной печки…
Всклокочены… в сиянии (пылающего) пламени.
– Это меня мина или меня снарядом? Сергей поворачивает голову, говорит тяжело – Не знаю!… На повозке отправились в лес. Обратно ещё не вертались (вернулись). Ночью пойдут вытаскивать раненных и убитых. Вечером ко мне в землянку пожаловал (майор) Денисов.
– Ты что расклеился? Командир полка хотел с тобой поговорить. Капитана Чернова убило. Снаряд разорвался в проходе блиндажа, где он стоял. Мне доложили, что ты сильно контужен. Вот я и зашел к тебе.
– У меня нижняя часть спины болит. Хочу встать и не могу.
– Ладно, лежи! В штаб вернусь, велю лошадь за тобой послать. Отправим тебя в санроту. Через некоторое время к землянке подъехали сани, заложенные сеном и укрытые брезентом. Сергей и повозочный уложили меня на них. В санроте меня осмотрели, выписали эвакокарту и приготовили на отправку в тыл. В эвакокарте поставили какой-то чужой диагноз. В суматохе и беготне что-то перепутали. На утро я стал понемногу оживать и ходить. Мне показали машину и помогли забраться во внутрь. Открытая полуторка тронулась, и мы поехали куда-то в направлении Смоленска. По дороге на Смоленск нас здорово потрясло. Боли в пояснице стали стихать. Я мог вполне стоять на ногах и ходить не сгибаясь. Нас довезли до какой-то деревни и ссадили. Санитарный грузовик (заглох и завести его) на дороге сломался.
11.
– Кто может самостоятельно, добирайтесь на перекладных – объявил нам сопровождающий санитар – Остальные, кто не может ходить останутся здесь, ждать в деревне. Из госпиталя придет за вами машина. Мы сидели на завалинке покосившейся от времени избы. Со мной рядом пристроился старший лейтенант, тоже слегка контуженный.
– Слушай, капитан! – обратился он ко мне. – Направления у нас на руках. Ты сам откуда?
– Я из Москвы.
– И я из Москвы. Может мотанем в Москву? За сутки туда доберемся. Не всё ли равно где в госпитале лежать? Пока из госпиталя за нами сюда придет машина, мы будем уже в Смоленске. А может успеем доехать до Москвы. (Я тоже контуженный). А в Москву зайдем в эвакопункт, от туда согласно документов в любой госпиталь направят. Скажем машина сломалась в пути. Ждали, мол, когда заберут. Сутки болтались в какой-то деревне. Сопровождающий уехал за машиной, а мы вторые сутки не ели. Самое страшное (если) по дороге задержат! (Снова пошлют на фронт).
– Ты что это серьезно?
– На полном серьезе! Ты на фронте давно?
– С сентября сорок первого.
– А ты?
– Я на фронте уже год и ни разу не был дома. Знаешь как домой охота?
– У тебя как ноги? Идти сможешь?
– Ноги у меня двигаются, голова болит. У меня есть лекарство от головной боли, хлебнешь пару глотков, и сразу все пройдет! Ст. лейтенант скинул с плеча вещмешок, достал фляжку, открутил крышку и подал её мне.
– Давай, пошел! Я следом за тобой! В таком деле нельзя одному. Нужна братская компания. А вдвоем нам с тобой, море по колено. Я взял фляжку, запрокинул голову, сделал выдох и не дыша хватил несколько глотков. В фляжке был чистый и неразведенный спирт.
Ст. лейтенант сунул мне в руку (кусок) обломок сухаря.
– На закуси, капитан! И давай покурим перед дорогой.
– В Москву, так в Москву! – сказал я похрустывая сухарем. – Черт с ними со всеми! Четвертый год валяюсь на снегу, сколько под пулями из них, сколько натерпелся и выстрадал за это время. С сорок первого, не вылезая с передка, воюю, а со стороны командира полка вижу одну злобу. В Смоленске мы зашли на вокзал, сунули в окошко военному коменданту наши документы, он наложил на них визу – «В Москву», написал нам записку в кассе получить два билета. В вагоне мы опрокинули фляжку до дна, залезли на верхние багажные полки, за места нам платить было нечем и под стук колес быстро заснули. Ночью, где-то около Вязьмы нас разбудили. Кто-то потянул легонько за локоть меня (вниз), я открыл глаза и свесил голову с полки.
– Ваши документы, товарищи офицеры! Старшего лейтенанта тоже разбудили.
– Вы куда следуете, товарищ капитан?
– В госпиталь! Там в документах сказано!
– Это мы видим, но вам придется сойти с нами на следующей станции!
– А почему нельзя в Москву? Не всё ли равно где нам лечиться?
– Мы разберемся. Если начальство разрешит завтра поедите дальше. Нас сняли с поезда. Мы спрыгнули на полотно и пошли за лейтенантом куда-то в сторону. Ночью было темно, но мы и не думали от него бегать. Он был вооружен наганом, а мы свои пистолеты сдали в санроте. В тыл с оружием нашему брату было следовать запрещено. Вскоре мы подошли к темному бараку, нас завели в отдельную пустую комнату. В углу стоял стол и по стене, на косых неструганых ногах (ножках), лавка.
13.
– Вам придется здесь подождать! Я пойду доложу о вас начальству! – сказал лейтенант, вышел из комнаты и прикрыл за собой дверь. С ним везде были два солдата. Но они, пока мы шли до барака, куда-то исчезли (в ночной темноте). Никаких признаков не было, что за дверью с той стороны стоят часовые. Два небольших окна в пустой комнате были не зарешечены. На стене, против двери висел портрет нашего главнокомандующего в маршальских погонах. В комнате от пола пахло сыростью. (Видно) Обычное дело, когда мыть пол заставляют солдат. Они (как обычно) это делают (солдаты) просто, (видно) выливают на пол несколько ведер воды, а потом шваброй сгоняют в (широкие) щели воду (между досок). Мы сели у стены на лавку, скрутили закрутки (газетные), задымили махоркой и стали молча рассматривать комнату.
– Как ты думаешь? Это не КПЗ? – сказал я своему спутнику.
– Какое КПЗ? – спросил ст. лейтенант.
– КПЗ, это камера предварительного заключения.
– Откуда ты такие названия знаешь? Ты что служил раньше в милиции или в конвое.
– Нет я в этих заведениях раньше не был и не служил. Я в полковой разведке был. У меня были ребята штрафники. Во всяких разных делах и под следствием побывали, в тюрьмах сидели, в лагерях сроки по уголовным делам отбывали. Рассказывали всякое. Выражение КПЗ я из их рассказов запомнил (усек). Вот я и думаю, зачем нас задержали.
– Чего мы такого преступного сделали?
– А ты как думаешь? Ты явный дезертир! В Москву махнуть собрался.
– Ты уж совсем, капитан! Сутки ещё не прошли. Скажем в пути задержались. У нас документы на руках.
– Это ты следователю скажешь!
– Не валяй дурака, капитан. Мы с тобой всего несколько часов в самовольной отлучке.
– Сутки не прошли – значит не дезертиры.
– У тебя совесть есть? Ты перед Родиной виноват!
– Какая совесть? Ты на счет совести у тыловиков спроси. Подумаешь преступление! В Москву, домой ехать собрались. И сразу враги, предатели Родины?
– Враги не враги, а штрафная обеспечена! Я несколько помолчал, а потом добавил;
– Ладно не горюй! Я просто хотел проверить тебя, не раздумал ли ты ехать в Москву.
– Конечно нет! Что ты! Через некоторое время в комнату вошел лейтенант. Это было новое лицо. Ночной лейтенант не появился. Этот чистенький такой, аккуратно подстриженный (и гладко причесанный).
– Вот и (уполномоченный или следователь) опер пожаловал к нам – (подумал) шепнул я напарнику, вставая с лавки. Лейтенант внимательно посмотрел на меня, сел на табурет и перевел взгляд на ст. лейтенанта.
– У вас что-нибудь есть кроме госпитальных (документов) предписаний?
– Удостоверение личности с печатью, написанное на листке бумажки от руки, партбилет и продатестат.
– У меня? Я комсомолец. Вот моя книжица.
– Не книжица, а комсомольский билет! – поправил лейтенант, рассматривая поданные ему документы.
– Проверка людей, сами понимаете, в военное время необходима (в тылу повсюду). По дорогам и поездам всякий народ (ездит) шатается. Проверим ваши документы, установим личности и в госпиталь направим. (Вот) А пока придется здесь подождать.
– Нам продукты получить нужно. Сутки на исходе, а мы ничего не ели – пожаловался ст. лейтенант.
– Аттестат у вас есть?
– Конечно, есть! Что мы дезертиры?
15.
Дежурный лейтенант забрал документы и аттестаты м вышел. Вскоре он вернулся, вернул нам все (назад) документы и сказал – Поездом вы дальше не поедите. Мы звонили в госпиталь, он рядом здесь в трех километрах, вас там примут. Поведет вас туда наш солдат. Ваши направления он сдаст в приемную часть. Желаю выздоровления и хорошего лечения. Молчаливый пожилой солдат посмотрел на нас исподлобья и нахмурил брови (сурово). Всю дорогу мы шли за ним, изредка перебрасывались между собой негромкими фразами.
– Вот и пришли! – сказал солдат, показывая на деревню. – Офицеры, а ведете себя как мальчишки. Незаконно в поезд сели, людям задали лишнюю работу! Никакого порядка нет. Куда захотели, туда и поехали.
– Это ты прав, нас немного в сторону занесло. Еы солдатик на фронте был? Знаешь что это такое?
– У каждого своё место и каждый отвечает за своё.
– То-то и видать! Тыловик фронтовику, как свинья товарищ лошади! Кончится война, скажешь на фронте был. А мы завшивели в окопах, дыхнуть тишины тыловой захотели. Побаловаться захотели. Это от бессонных ночей многие недели подряд. Ты вот каждую ночь под крышей, на кровати и в тепле храпишь, а нам периной служит снег и поесть не каждый день приходится. Навоюешься вдосыть, выдохнешься как загнанная кляча, шарахнет как следует, вот и соображаешь как быть.
– А куда же вы ехали?
– В Москву перед госпитализацией дня на два решили махнуть.
Ст. лейтенант дернул меня за рукав, чтобы я не рассказывал о наших планах солдату. Тыловой – не окопный солдат. Пойдет и доложит начальству.
А у меня идея. Я разведчик… узнать, что скажет солдат о патрулировании поездов и машин.
– Ты вот солдат толкуешь мальчишество. А я с сорок первого на передке. Дали бы отпуск, сел бы я в купейный вагон и без всякого баловства лежал бы на нижней полочке. А что у вас здесь везде усиленная проверка?
– Да на Москву лучше поездом не суйся. Наши с командировками машинами едут. Ну вот и дошли! Сейчас сдам ваши документы в приёмный покой и можно обратно идти!
– Давай документы. Мы сами дойдем. Ты сам же сказал, что по железной дороге все равно не прорвешься.
– Ладно! Нате! Идите сами!
– Ну и дела! – сказал я старшему лейтенанту, когда мы немного отошли,
– У простого солдата прощения приходится просить. Проще в разведку сходить, чем вот так в своей совести (ковыряться) и перед первым встречным распинаться. Но сделано главное, мы узнали пути на Москву. В приемной нас встретила медсестра. Она посмотрела в…, поправила прическу, поджала губы и пальцем потрогала у края рта, как бы проверяя, не развязались ли (шнурки) у неё по краю рта завязки, чтоб рот не открылся до самых ушей. Потом она зевнула, прикрыв ладонью белые зубы, видимо мы её разбудили, хлопнув дверью при входе. Она взяла со стола перьевую ручку, громко ткнула пером в стоящую перед ней чернильницу и басовито прокуренным голосом проговорила:
– Фамилии говорите! Потом она стала писать звания и прочие данные.
– Ходячие?
– Как видите, без костылей!
– Возьмите в предбаннике по кусочку мыла, подберите себе мочалки, вот вам полотенца и чистое бельё. Баня напротив. Идите туда и мойтесь. После бани зайдете в столовую, скажете, что на вас двоих оставлен расход.
17.
Когда мы вошли в предбанник, под потолком стелился (холодный) белый пар. Человека, стоявшего в рост видно было только ниже груди до половины. Лицо и плечи можно рассмотреть только на расстоянии согнутой руки. А что в самой парной, подумал я. Наверное, больше пару чем жару. Баня худая, вот и парит. Мы быстренько разделись, в предбаннике не было никого. Правда на лавке у противоположной стены лежало обмундирование и под лавкой стояли кирзовые сапоги.
– Ты давай побыстрей! Между пальцами ног потом будешь ковырять. Видно у тебя это любимое занятие. А то славяне всю горячую воду выхлестают. Надо в парную успеть повыше забраться, а то солдатики весь пар с камней изведут. Сидишь ковыряешься, с тобой и веником не хлестнешься. – я пнул его коленкой под зад и сказал: -Пошел! Ст. лейтенант открыл в мойку дверь и переступил порог. Я шел за ним держа в руках обмылок и мочалку. Голые солдатские ноги и плескание воды видны были из-под нависшего пара. Чего-то они сгрудились в один угол. Тут согнутые намыленные спины и бедра. Но что это? Ближайшая солдатская спина согнулась и руки достали до пола. Под рукой молодые крепкие груди и овальные очертания женского торса. Вот белое тело обернулось в нашу сторону и мы увидели всю божественную красоту в натуральном виде. Тело было без головы, как торс Венеры Милосской. Голова и плечи были в белом пару. Я толкнул локтем ст. лейтенанта и показал в сторону голой статуи. У него от неожиданности (перехватило) сперло дыхание и он как заколдованный, прикрыв мгновенно мочалкой свой позор, замер и окаменел. Я тоже прикрыл это место пустой железной шайкой (мочалкой). Одна из женских фигур приблизилась ко мне.
– Ну что девоньки холодной водой мочиться боитесь. Горячая чуть колодезной теплей. И она плеснула в нашу сторону из шайки. Мы стояли прикрывшись (пустыми шайками), и лиц друг друга не видели. Чем выше к потолку, тем гуще туман.
И вот эта шустрая, что плеснула на нас из шайки (водой), видя что мы её шутки не завизжали, решила приблизиться и посмотреть, не начальнице ли госпиталя она плеснула в харю. Что-то она молчит. Мы со старшим было даже попятились к стене вдоль мокрой деревянной лавки (от неожиданности).
Она подошла вплотную и увидела наши лица. Увидела наши улыбки, мы не долго были в смущении, увидела и закричала:
– Бабы, девки, в бане мужики!
– Какие мужики – с хохотом отозвались из угла другие.
– Голые мужики! совсем еще молодые!
– Тащи их сюда!
В бане в бабском углу тут же поднялся гвалт (переполох). Они как бы спохватились (опомнились), повернулись к нам спинами и закричали на нас.
– Ахальники, убирайтесь!
– Давай отсюда! – закричала одна грозно прокуренным голосом.
– Интересно что это за нахалы залезли сюда? – сказала одна чистым, молодым и звонким голосом.
(- А ты дура сходи и посмотри!)
– Совсем молодые – ответила та, что в нас плеснула.
– А ты дура сходи, посмотри! – послышался опять басовитый, видевший все виды, голос.
– А что? Возьму вот и пойду.
Она приблизилась к нам и сказала веселым голосом:
– Здравствуйте, мальчики! Вы откуда и кто такие будете?
– Здравствуйте, девочки! Я гвардии капитан. А мой друг ст. лейтенант. Мы прибыли к вам с самого фронта.
– Ты Манька, дверь на крючок не заложила? Я тебе что говорила?
– Они наверно правда с фронта. Наши сюда не пойдут.
– Вы где, окаянные? Что молчком сидите?
– А что нам прикажете делать? В мыле голыми на улицу из бани (уходить) бежать? Скажут, видали контуженных!
19.
– (Сейчас) Вот щас сполоснемся и выйдем в предбанник. А то хотите за ручку познакомимся?
– Ещё чего? Давай окатывайся и выходи!
– Это наверно старая и костлявая кричит – поясняю я громко вслух старшему лейтенанту – Боится, что мы можем взглянуть на её безобразия.
Мы быстро намылились, сполоснулись, налили в шайки воды, сели на лавку и стали болтать в воде ногами.
– Ну вы скоро там?
– Может спинку потереть?
– Я тебе щас потру шайкой по физиономии.
Потом чей-то спокойный, звонкий, девичий голос сказал:
– Мальчики, поскорей. Мы замерзли.
– Уходим!
Мы вышли в предбанник, притворим за собой плотно дверь, чтобы не нарваться на крики и женские вопли. Если они завизжат и поднимут хай (визг), прибежит охрана (персонал) и нам не поздоровится. Скажут из хулиганства в баню заперлись. Шутить с толпой голых женщин (и девок) нельзя. С толпой лучше не связываться. Налетят – шайками забросают. Получишь пробой головы банной шайкой, для гвардейца это будет позор.
– Одевайся лейтенант. Пойдем снаружи постоим (где посидим). Посмотрим на девок в одеже. Через некоторое время санитарки и медсестры стали выходить наружу. На них были надеты шинели, перепоясанные выше крутых бедер ремнями. Они стояли, не отходя от бани попискивали и посмеивались. Из предбанника вышла их старшая и они стали строиться.
– Равняйсь! Смирно! – услышали мы знакомый басовитый голос. На ней были погоны старшины. Остальные под мышками держали свои банные свертки. Мы зашли в предбанник, разделись, поддали на камни воды и попарились. Помылись не спеша, одели чистое, раскраснелись и пошли искать свою палату. На крыльце избы нам встретились две медсестры (санитарки). Одна из них улыбаясь спросила:
– Вы новенькие? Из бани идете?
– Нет, это не мы.
Девчонки сделали серьезные лица, оглядели нас с ног до головы, прошли мимо, а потом обернувшись захихикали и побежали куда-то. Не успели мы зайти в нашу палату, дежурная сестра были уже в курсе дела. Она знала всё или почти всё. Она знала, что нас с поезда сняли, что мы оба гвардейцы и прибыли с фронта. Что ст. лейтенант командир стрелковой роты, а я гвардии капитан и разведчик.
– Что настоящий?
– А тебе ещё какой? – услышал я вполголоса разговор между двумя сестрами (проходя мимо).
– А как же они с нашими девчатами в баню попали?
– Манька виновата. Забыла дверь на крюк заложить (запереть). Мы были так сказать у всех на виду. В палату входили новые лица из женского пола и все уставляли на нас глаза. Когда я зашел к врачу в кабинет на первичный осмотр, медсестра сидевшая тут же за столом нагнулась к врачихе и что-то шепнула:
– Вот этот! Врач женщина лет тридцати повернулась, посмотрела на меня и улыбнулась
– Раздевайтесь, гвардии капитан и вот сюда на стульчик садитесь. Не успели на место прибыть, уже отметились? Сегодня на (десяти) пятиминутке главврач всех предупредил. Представляете себе, старшина мне докладывает, два офицера забрались к голым медсестрам в баню. И как же вы попали туда голубчики?
– Без умысла, конечно. Нас послали, мы и пошли.
– Прямо анекдот! Раздевайся, чего стоишь? Теперь мы тебя разглядывать будем.
– Кальсоны снимать?
– Разрешаю остаться в кальсонах. Рассказывай, где болит?
21.
В госпитале я пробыл недолго. Меня вызывали к врачу ещё раза два. И через неделю я получил документы, что я здоров. Жалоб у меня особых не было. И валяться на койке в госпитале, как другие, я не хотел. Получив документы, я вышел на большак и стал ждать попутной машины. Я хотел вернуться в свою дивизию, (но попасть при случае в другой полк).Машины в сторону Смоленска долго не было. По большаку проходили иногда отдельные солдаты и офицеры.
– Вы не на Смоленск ждете попутную? – спросил меня, проходящий мимо, пожилой солдат.
– На Смоленск! А что?
– На Смоленск машины не ходят. Мост разбомбило. Нужно идти далеко в обход. Машины будут ходить, когда наведут переправу. Видно судьбе было угодно (изменить) повернуть меня в другую сторону. Откуда-то со стороны проселочной дороги на большак выползла грузовая машина. Я стоял на дороге долго и сильно простыл, стоял переступая и постукивая нога об ногу. Шофер заметил меня и тут же притормозил. Открыв дверцу машины, он обратился ко мне.
– Капитан прыгай ко мне в кузов, за пару часов до Москвы довезу. Здесь теперь транспорта не дождешься. Он как будто читал мои мысли. Хотя в душе у меня были сомнения. Я хотел вернуться из госпиталя в часть. Я на секунду задумался, правильно ли я делаю. Но тут же махнул рукой и направился к кузову. В два прыжка я нагнал машину, подтянулся на руках, перекинул ногу через задний борт. Теперь было всё решено. В кузове, покрытым брезентом, было тепло. Я пробрался ближе к кабине, лег на что-то мягкое и тут же заснул. Как провел я время в Москве с военной точки зрения значения не имело (но несколько дней проведенных с…для меня были праздничным днем «О если б то было навечно»). «Если б навеки то было!» Я пробыл в Москве вместе с дорогой туда и обратно ровно семь дней. (Как по Христовым стопам). Поездом обратно я доехал с билетом в плацкартном вагоне до Смоленска. В Москве по отметке военного коменданта по приезде я получил на неделю продуктов и сменил продатестат. Свой из госпиталя я сдал и на продпункте получил новый, московский.
Из Смоленска…я пошел пешком. От вокзала повернул в сторону Павловской горки и зашагал по зимнему большаку куда-то в сторону Духовщины. В предписании из госпиталя было сказано, что я должен явиться в запасной полк 3-го Белорусского фронта. Машин попутных не было. Всю дорогу, двенадцать километров, пришлось идти (пилить) пешком. Разыскав деревню где стоит офицерский резерв, я сдал свои документы и меня направили в избу. Там размещались прибывшие из госпиталей младшие офицеры.
В избе сидели лейтенанты, старшие лейтенанты и один капитан. Всего было человек десять (не больше). Пополнение из госпиталей шло совсем небольшое (не жирное). В день прибывало по два по три офицера. И это на целый фронт. Офицеры меня встретили хорошо. Разведчиков среди них не было, и они смотрели на меня с любопытством, когда узнали, что я из полковой разведки. Чем мы занимались? Бегали в столовую, получали свой скудный и жидкий паёк. В столовой нам выдавали по черпаку жидкого хлебова (баланды), по куску черного хлеба и по кружке полусладкого чая. Из столовой мы возвращались в избу, забирались на нары и играли в карты. Игра шла переменно, то с шумом и гамом, то с унылым безразличием и дремотой. Играли на деньги для азарта и интереса. Прошло несколько дней, в резерве появились новые лица и несколько бывших здесь уехало на фронт. На следующий день прибыли ещё трое, а я по-прежнему оставался в избе. Ребята стали подшучивать надо мной, – тебя капитан назначили комендантом нашего общежития. Через день все ребята разъехались по своим полкам. Из новеньких появился один. Ещё один ст. лейтенант сидел в резерве. Он прибыл раньше меня.
– Ну что капитан! Все ребята разъехались, а ты всё сидишь? – сказал он.
– Ты тоже сидишь. У тебя такая работа! Тебя посадили сюда, ты и присматриваешь за мной.
– Ну что ты! Ты ошибаешься, капитан! Я рапорт подал на медицинскую перекомиссию. У меня что-то внутри болит, а медики пишут здоров.
23.
– Не заливай! За всеми ты (нюхаешь). Я тебя с первого дня заметил (увидел). Ты делаешь нужное дело. Задаешь ребятам (провокационные) вопросы, ловишь каждое слово налету, ждешь что человек тебе ответит. В столовой ты встречаешься со своим сотрудником (и ему что-то передаешь). Ты не знаешь, что я разведчик. А разведчики народ (люди) наблюдательный, каждый шорох, шепот и мелочь подмечают. Ты, на мой взгляд, работаешь топорно и грубо. Тебя сразу видно по бегающим глазам и отвисшим ушам. Мне (тебя) таиться нечего. Причина есть, почему я тут долго сижу (почему меня тут долго держат). Я прогулял срок явки… Ответ на запрос из госпиталя придет и решат что делать со мной. Видишь, ты мне задал туманный вопрос, а я (говорю всё на чистоту) ответил тебе исчерпывающе и всё на чистоту. Мне нечего таиться. Что заслужил то и понесу. А ты мне заливаешь про какую-то комиссию.
Старший лейтенант скоро ушел и больше в избу не вернулся. Возможно вместо него прислали другого. А мы сидели на нарах, играли в карты и рассказывали случаи про войну. Никто из ребят на свою судьбу не жаловался, и даже наоборот, бардачок на войне преподносили как (шутки) бравые похождения, как юмор и как забаву. Сидевшие в резерве офицеры по-разному воевали. Одни получили ранения и успели побывать на передовой. Были и такие, что отсиживались в тылу, служили в прифронтовой полосе, пороха не нюхали и страшно фронта боялись. Всяк дорогу войны шел по своему пути. А кто зацепился крепко руками и зубами, боялись передовой как кромешного ада. Я знал, что меня засекли с поездкой в Москву. Я (правда) это и не скрывал, у меня на предписании из госпиталя был поставлен штамп московского военного коменданта. Продовольственный аттестат, выданный в госпитале, мне заменили в Москве при выдаче продуктов. Предписание и аттестат я сдал по прибытию в резерв. Теперь я сидел и ждал, когда меня вызовут для объяснений. Прошло несколько нудных и однообразных дней. И вот однажды утром за мной прислали связного. Меня вызвали в штаб запасного полка.
В большой комнате за длинным столом сидели: полковник, подполковник и два майора (и капитан). На вопрос где я был, я без заминки и секунды промедления ответил – В Москве!
– Где ты там жил?
– Дома!
– Сколько суток?
– С дорогой туда и сюда ровно семь!
– Ладно иди! Будет решение вызовем.
Когда я услышал слово «Рушение» – сердце на секунду сжалось и остановилось. Я почувствовал, что внутри что-то давит. Но я тут же сделал глубокий вдох, повернулся и вышел. Они смотрели мне в спину и выжидаючи молчали. Я вернулся в избу. – Ну как? – спросили меня ребята.
– Как-как? Трибунал! Что вы не понимаете? За самоволку в военное время положен расстрел.
– Ну да!
– Вот тебе и ну да!
– А ты как же?
– А что я собственно должен делать? Орать караул? Помогите! Простите! Я больше не буду! Ты когда в атаку идешь, тоже орешь, мама я больше не буду.
(Мы ходим в разведку, жизнь висит на волоске, каждую секунду ждешь удара пулей в живот.) Мы в разведку ходим молча. Не знаю как вы? Тут жизнь висит на волоске, каждую минуту ждешь пулю в живот, и ничего, идешь и молчишь. На следующий день меня снова вызвали в штаб и молча вручили опечатанный сергучем пакет. По углам и в середине красовались застывшие на сергуче печатки. Я расписался в журнале за получение пакета. Мне сказали как добраться до штаба 39-ой армии.
– А какое решение?
– Сдашь пакет, там твое дело и решат. Я вышел на улицу, дыхнул морозного воздуха и почему-то подумал:
– Вот хорошо, что сразу не решили. А могли и сразу расстрелять. Показательный суд и перед строем расстрел. Теперь легче, теперь двое суток отсрочки, теперь пока до штаба армии доберусь двое суток буду на этом свете, время хватит перед смертью обо всем подумать (поразмышлять). Я, конечно, не знал, насколько я был виноват, и какая кара будет за это расплатой.
25.
За своё своевольство я подумал о расстреле перед строем. На войне послать человека на смерть ничего не стоит. Приказал и всё. Не выполнил приказ – трибунал и расстрел. Сначала я предполагал самое худшее, а потом вышел на воздух, успокоился, от души отлегло. Дорога всегда благие надежды внушает. Виновного всегда легче под пули послать, чем орать на невинного (когда тому нужно идти на смерть, верную смерть). Виновный будет лбом землю рыть, чтобы доказать свою невиновность…, а чем больше будет виновных, тем легче управлять ими. Но в деле выбора смерти есть две чаши весов. Какая из них перетянет. Насильственная и добровольная (смерть), что лучше? (Лучше) Самому добровольно (навстречу ей) идти, чем скорей, тем лучше. (Бывают на войне и такие) Был один такой случай, когда сверху приказали послать людей на верную смерть. Подбираешь ребят на это дело. Профессионалов и самых опытных (ребят бережешь) в группу не включаешь. Если вызвать (группу) солдат и сказать, ты и ты пойдете на самый опасный участок. Тут же сразу вопросы будут, почему я, почему мы, а не другие. Построишь несколько групп. Одним говоришь, что ваша группа пойдет на верную смерть и отправляешь их на менее опасный участок. А этим говоришь:
– Ваше задание полегче, но опасность тоже на каждом шагу. Все зависит от вас, как вы пройдете. Они идут без всяких раздумий (приказаний), довольные, что другим досталось идти на верную смерть. Попутной машиной я (снова) добрался до Смоленска. Побродил по вокзалу, обошел несколько улиц разбитого города и вернулся на Витебское шоссе. Была поздняя ночь, мне нужно было искать попутную машину. Я зашел к каким-то солдатам в полуразрушенный дом, устроился в углу на полу и подремал до рассвета. Утром на шоссе я поймал попутную машину и доехал на ней до Рудни. Из Рудни я (с попутной машины слез и) зашагал пешком по указанной мне зимней дороге (куда-то в сторону). Пройдя километров десять-двенадцать я подошел к (утопшей в снегу) небольшой деревеньке, утопшей в снегу. Штаб нашей армии на дороге не будет стоять. В общей сложности я шел около полдня. Кончился лес, и за бугром в стороне от проезжей дороги уходящие (стоящие) в небо столбы белого дыма.
Немецкая авиация уже несколько дней не летала, и печи в деревнях топить начинали (даже днем, в дневное) в вечернее время. Когда я забрался на самый бугор, то увидел большую деревню, крыши и печные трубы, над которыми неподвижно стояли (торчали) дымные столбы печного дыма. Узнав у часового где приём почты, я направился в избу и сдал свой пакет. Я присел в углу на лавку и сложил озябшие руки на колени.
– Вы чего ждете, (товарищ) капитан – сказал мне небрежно сидящий за деревянным барьером писарь. Он встал нехотя, накинул на себя полушубок, махнул мне рукой, вышел и ткнул в воздухе пальцем. Это он показал мне избу для приезжих.
– Аттестат сдадите вон туда. Отправляйтесь! У меня работы много! – он не сходя с (крыльца) порога повернулся (на месте) и, хлопнув дверью, удалился (к себе в избу) к себе. В избе, куда я пришел, ни окон, ни нар не было, на полу (брошена) лежала избитая ногами солома, ни керосиновых ламп у потолка, ни фронтовых горелок – гильз заправленных бензином. Открываешь дверь с улицы и проходишь черное отверстие дверного проема. Можешь не растопыривать руки и не шарить руками по углам. Ступай себе вперед спокойно, нащупывай ногой свободное место, опускайся и ложись, спи до утра. Утром захлопают дверью, значит на солдатскую кухню тащиться пора. Ночью в избу никто не заходит, никого не вызывают и не требуют в трибунал. Часового у дверей нет. Изба это для приезжих (проходящих) ночлежка. В избе ждут попутной машины, ночуют (в ней) повозочные и шофера. В дверь (днем) ногой кто-нибудь пихнет и хриплым голосом объявляет:
– Кому на Смоленск, подымай свои кости. Из штаба, накинув шапку полушубок, прибежит солдат посыльный.
– Капитан, выходи за получением пакета! У меня сборы недолги. Встал, разогнулся и на ногах. У нашего брата пехотного офицера нет ничего (что нужно собирать).
27.
Тут хоть всё сгори и обвались, нам воякам из пехоты (пехотинцам бомбежка и)пожар не страшен. (Тут хоть всё сгори и обвались, мне пехотинцу бомбежка и пожар не страшна). Поднялся на ноги и подался в снежное поле, отошел подальше, ложись в снег и спокойно (лежи) смотри как бомбы летят. Тут хоть всё вокруг взлети. (Тут хоть всё на воздух взлети) Беру пакет и выхожу на яркий свет из царства тьмы. Лучше получить под расписку пакет, чем тут же за стеной избы на пожелтевшем от солдатской мочи сугробе получить пулю в лоб м валяться потом в дерьме. Я расписался за пакет, заклеенный клейстером из ржаной муки. Сергучные печати здесь решили на меня не тратить. Чем ближе к фронту, тем шершавей бумага, из которой склеен пакет. Что это? – пытаюсь я угадать. Меня списали или моё дело плевое и ничего не стоит. Хотел бы я посмотреть, что там написано в заклеенной бумажке внутри. Пакет значительно похудел. Но лучше нос туда не совать и его не трогать. Пусть будет как есть! Тем более, что мне без лишних разговоров и вопросов выдали пакет. К начальству меня вообще не вызывали. На пакете было написано, что я следую в распоряжение а командира 5-го гвардейского корпуса генерала Безуглово И.И. Видно посчитали, что со мной им некогда заниматься. Дело, мол, плевое. Пусть в корпусе решат. Если так с пакетом до командира полка дойду, вот где мне устроят головомойку, вот когда Бридихин потешится надо мной от души (надо мной потешится). Обратный путь пехом до большака был легче и (несколько) веселее. Ветер и снег хлестали в спину, подгоняя меня, только ноги переставляй. По большаку я прошел километров пять, пока меня не догнала попутная машина. Шофер притормозил, я легко прыгнул на подножку и забрался к нему в кабину.
– Тормозить совсем нельзя! – пояснил он. – Забуксуешь и занесет! Машина перегружена до предела.
– Все понятно! Спасибо, что притормозил!
* * *
Глава 45 На КП командира корпуса
Текст главы набирал SSS Сергей@mail.ru
31.01.1980
19.02.1983 (правка)
Март – Апрель 1944
На командном пункте командира корпуса

Я пешком добрался до оврага, где находился командный пункт 5 гвардейского корпуса. Подземный деревянный бункер штаба был упрятан под крутым скатом оврага. Наружу из-под снега смотрели одно окно и дощатая входная дверь. Чуть дальше по оврагу, под навесом стояла кухня и зарытый в землю сруб на несколько лошадей. Часовой, стоящий у входа в бункер, на ту половину оврага меня не пустил. Я остался стоять напротив, а солдат (стоявший на посту), наметанным глазом сразу определил, что я не штабной и не фельдъегерь, прибывший с почтой из армейского штаба. Он подошел не спеша ко мне, взял у меня из рук помятый пакет и с достоинством вернулся к двери. (Потом) Он повертел пакет перед глазами, и не читая его потянул за ручку двери. Дверь скрипнула, он приоткрыл её немного, и он крикнул в темноту прохода: – Разводящий! На выход! Прикрыв аккуратно дверь рукой, он повернулся ко мне и решил рассмотреть меня как следует(от скуки стал рассматривать меня в упор). Я стоял, поглядывал то на дверь, то на него, то на повара возившегося около кухни. Из прохода бункера наружу выскочил мордастый парень сержант с юркими быстрыми глазами. Он постоянно шмыгал носом, затягивал внутрь, вытер нос рукавом. Этот тоже посмотрел на меня. Взял пакет из рук часового, прочитал что там написано, повернулся ко мне спиной и сказал на ходу: – Сейчас доложу! Тут обождитя! Теперь солдат, стоявший на посту, отойдя от двери, разрешил мне приблизиться к себе, сделав молча знак рукой. Но я остался стоять на месте, снял меховые варежки и стал общипывать прилипшие к меху соломинки. Через некоторое время в дверях показалась милашка. Молодая девка в военной форме, сшитой из офицерской шерсти с погонами старший сержант и с двумя медалями “ За отвагу”. Она в упор посмотрела на меня, хмыкнула под нос, скривила кислую рожу(гримасу на лице). Вшивый капитанишка, потертый и испачканный в земле фронтовик! – было написано на её лице. Нетто, что наши штабные из корпуса штаба армии! У этого что? Кроме вшей за душой нет ничего. А наши гладкие, чистые, сытые и всегда изысканные. А этот в замазанном полушубке, худой и небритый. Она повернулась на каблуках и виляя задницей скрылась в проходе (бункера).
Хозяйка бункера! – подумал я. Вышла от лени и от скуки на капитана окопника поглазеть. Вот стерва! – подумал я. Вроде как моя сестра, на фронте подцепила себе женатого со званием майора. Я повернулся, осмотрел пустую сторону оврага. Тут из под снега торчало какое-то бревно. Я сбил с него варежкой снег, сел, завернул из газетной бумаги махорки, прикурил и продолжал наблюдать за обитателями (оврага) командного пункта. Прошло ещё несколько минут(некоторое время). Дощатая дверь снова со скрипом открылась, часовой подпрыгнул и замер на месте, он вытянул шею и закатил кверху глаза. На пороге стоял молодцеватого вида подполковник.
– Вы пакет передали (принесли) – обратился он мягким и певучим голосом ко мне. Я встал козырнул и сказал:
– Так точно!
– Вам капитан придется несколько дней подождать! Генерал-лейтенант Безуглый сейчас в отъезде. Вернется не раньше конца недели. Куда же на это время мне вас деть? – сказал он вполне дружелюбно. В штабном блиндаже места для вас свободного нет. Вы и сами понимаете, посторонним лицам у нас на КП нельзя находиться. Помещение для посетителей у нас не предусмотрено. Кругом, видите, снег и голые склоны оврага.
– А вот здесь мне можно? Здесь кажется пусто? – показал я на занесенный снегом перекрытый бревнами стрелковый окоп.
– Это пулеметный окоп на случай десанта и круговой обороны. Здесь кроме навеса из бревен и снега нет ничего. Вы сами видите, что эта накрытая бревнами дыра для жилья не годится. В ней даже железной печки нет и вход не завешен. Ячейка продувается с двух сторон. И устроить вас совсем некуда.
– Я устроюсь сам! Разрешите с коновязи охапки две сена или соломы взять.
– Берите! Сколько хотите! Если устроитесь, то питаться будете у нашего повара на кухне. Сдадите ему аттестат. Но учтите! На холоде вам придется пробыть не меньше недели! Я хотел вас отправить в одну транспортную часть. Она стоит здесь не далеко. Подполковник поёжился, подошел к заброшенному окопу, заглянул осторожно во внутрь, отпрянул назад и покачал головой – Ну знаете! Я вас сюда не посылал! Это вы сами выбрали, если разговор такой зайдет! – сказал он задумчиво. Сказал и удалился (обратно) в бункер.
3.
Утром на следующий день все, кто выходили из бункера, поглядывали в мою сторону на снежный промерзлый окоп, прикидывая мысленно жив ли я там. Они, одетые в полушубки, вылезали из натопленного бункера, потому что в овраге, на воздухе, было довольно зимно и холодно, но нужно. Они направлялись к повару и там, усевшись за стол, получали утренний завтрак. Повар, узнав от штабных, что в промерзлом окопе поселился живой капитан, после завтрака пришел полюбопытствовать. Повар простой солдат постоял, посмотрел на мою обитель, нагнулся в проходе и посмотрел вовнутрь. Я лежал на дне подстелив под себя пару охапок сена.
– Иди!- сказал он, – Дам тебе мешковину! Завесишь проход!
Я поднялся и пошел следом за ним. Амбразуру я закрыл пустыми ящиками, щели заткнул сеном (и присыпал их сверху снегом). В проходе повесил распоротый мешок. У меня получилась отдельная, однокомнатная квартира, с лежанкой на дне окопа на мягкой подстилке и одеялом из нескольких, скрепленных проволокою, мешков. Это была по моим фронтовым понятиям царская постель. О такой постели может только мечтать настоящий окопник. В моей кибитке с промерзшими стенами было исключительно тихо, уютно и тепло. Под боком взбитое пахучее сено, сверху мешковина, – Ложись и умирай! Блаженство и рай! Чистый морозный воздух, ни какой тебе стрельбы, ни вызовов, тебя не требуют к телефону, ни какой тебе матерщины командира полка. Такая небесная благодать, что сам Христос в исподних мог позавидовать мне. Сверху, говорят, он все грехи наши видит. Никто меня тут не трогает, не обругивает и не кричит. Спи сколько влезет. Слышал я здесь один только окрик, когда повар-солдат кликал меня на обед.
– Эй, капитан! На завтрак (давай) иди! Даже слышать такие слова было неприлично. Завтрак считай подадут из трех блюд!
Сначала селедочка с лучком на постном масле, потом картошечка тушеная с мясцом и сладкий чай в накладку. Сахару сколько хочешь клади. Хлеб не мерзлый (как у нас), а мягкий и свежий. С армейской пекарни каждый день поступал. Тепло в моем понятии это не жар раскаленной печки. Тепло это когда оно сидит внутри тебя. Когда оно в самом человеке после сытной еды шевелится. Когда не бегают мурашки по спине и не застывает костный мозг в переохлажденном позвоночнике, когда на губах и в руках нет противной дрожи (никакой). После завтрака вернешься к себе, придешь, ляжешь, пошевелишь какой-нибудь частью тела, под боком мягко и тепло. Лежишь м чувствуешь тонкий запах зеленой травки и льняной мешковины. Закроешь глаза и как будто видишь над собой светлое небо, дух полевых цветов и дурманящий запах трепанного льна. От запахов душа заболит, от сладостных воспоминаний заноет (у тебя в пятки ушла). Нам окопникам и малое кажется раем. А этим штабным невдомек, как и в каких условиях воюют их братья славяне (и окопные младшие офицеры). Они о войне судят по себе. Я вполне был укрыт от холода и у меня впереди была целая неделя. Ровно семь дней, то есть столько, сколько я прогулял. Какая-то семерка вертелась за моей спиной, хотя я был истинно русским человеком, а не каким-то пархатым евреем. Командный бункер располагался справа от моей берлоги. Левее, как я уже говорил, находился навес для повара, кухни, склад и конюшни. Мне до кухни рукой подать. А штабным надо было идти мимо меня на завтрак, обед и ужин. Здесь по утоптанной тропе ходили два полковника, подполковник и несколько майоров. Вечером после всех я как обычно явился к повару за своей порцией похлебки из лапши. Старик посмотрел на меня сердито и покачал головой. Потом он постоял, подумал о чем-то и велел мне на ужин явиться через час.
– Ступай погуляй! У штабных сейчас променаж после ужина перед сном. Штабные уйдут, тогда ты и приходи. Расскажешь мне про войну! Поужинаем вместе!
Мне было не к спеху. Я пришел через час как он сказал. Старик достал два стакана, протер их полотенцем, висевшим за поясом и налил в них из бутылки. Он пошел куда-то, принес высокую, квадратную банку американского бекона и предложил выпить.
5.
– Ты не стесняйся! Московская с белой головкой! Хлебать лапшу мы с тобой сегодня не будем, закусим беконом. Пробовал когда? Вот на вилку цепляй и к верху тащи.
Мы сидели за столом, он наливал понемногу, мы закусывали беконом и я рассказывал про окопы, про солдат и про войну. Должен сказать, что ничего вкуснее бекона я ничего подобного не пробовал. Длинные плоские полоски были необыкновенно вкусны. Так казалось мне тогда. Кругом была разруха и голод. Бекон остался в моей памяти как райская еда. Я рассказал ему про войну, про то как живут, воюют и умирают простые солдаты, про то как я и за что сюда попал.
– Первый раз вижу живого человека, как он может спокойно спать в мерзлой земле. Вот думаю с фронта человек, не чета нашим штабным чистоплюям.
Слышал я во время обеда подполковник рассказывал про тебя. Все удивлялись как ты сам добровольно попросил разрешения жить и спать в пулеметном голом гнезде. Думали все, что ты в первую ночь замерзнешь, отдашь здесь концы. Через неделю наконец явился сам хозяин. Повар поманил меня пальцем и сказал, не отрываясь от работы:
– Ты теперь сюда вместе со всеми ходи! Видишь, сам приехал! Понял!
– Я тебя отец с полуслова понял. Спасибо за прошлое! В тот день меня к генералу не вызывали (к вечеру меня вызвали к генералу). Я ждал этого вызова каждую минуту. Хлопнет дверь, и я думаю что идут за мной. Сейчас позовут и будет решаться моя судьба и биография. Время как бы остановилось. Прошла ночь, наступил рассвет, штабные пошли на завтрак. Меня никто не вызывал. День прошел, а меня по-прежнему не трогали. И только к вечеру подполковник, возвращаясь с ужина, окликнул меня.
– Я докладывал про тебя генералу, он сказал пусть подождет. Завтра утром он вызовет тебя. Будь на месте, я тебя позову. Подполковник ушел, а я пошел в свою дыру готовиться к вызову. Я долго ворочался и многое передумал. Далеко за полночь я незаметно уснул.
Ночью я открыл глаза, поднялся и вышел. Над головой висело чистое звездное небо. Часовой топтался на месте, постукивал сапогами, переступал с ноги на ногу. Вот языка брать! Проще делать нечего! Пока он руки высунет из рукавов на него можно мешок пустой набросить, завязать по бокам и на шее верёвочкой перетянуть. Веди его куда хочешь. А если ему петлю на шею накинуть, можно в пулеметный окоп завести, за столб как ишака привязать (и подтянуть к амбразуре). Стоять будет и не рыпнется. С остальными дальше всё элементарно и просто пойдет. Заходишь в бункер и по одному уколом ножичка (в горло, чтобы не пикнул). А там и дощатая дверь, где хозяин лежит обняв милашку. Им только сказать (надо):
– Встаньте лицом к стене и руки на голову.
Вот это капитан! Вот это разведчик! Нечего сказать, потешил! Прощаем тебе самовольную отлучку за такую лихую операцию. Ты можно сказать самого полковника Гельминга и его постельную потаскуху прямо из постели тепленьких взял.
Над оврагом подул снежный ветер. С крутого обрыва сорвало куски белого снега. Холодная жгучая пыль ударила по глазам и в лицо. Ударила, перехватила дыхание и так же неожиданно стихла. Я закурил, присел на край, торчащего из земли бревна, огляделся ещё раз кругом, посмотрел на далекие звезды и задал себе вопрос.
Ну что капитан? Ночь перед Рождеством?
Вот так однажды в жизни человека перепутываются и резко меняются его пути и дороги. Было уже светло.
– Капитан! – услышал я голос подполковника. – Быстро к генералу!
Через мгновение я стоял около него. Мы прошли через первую дверь, вошли в темный, рубленный из бревен, коридор, где по обе стороны сидели при свете коптилок телефонисты.
7.
– Разденься и подожди (здесь). Я скажу, когда генерал позовет. Я откашлялся, сплюнул в угол, чтобы чистым громким голосом доложить как положено. Затянул поясной ремень на три дырки потуже, расправил складки гимнастерки на животе. Я приподнялся на носках, оторвал пятки от пола, попробовал ноги, они были как пружины, теперь я стоял спокойно и ждал сигнала подполковника. Я стоял перед дверью, за которой дальше в глубине бункера под землей располагалось укрытие генерала. Дверь приоткрылась, я увидел движение руки.
– Давай, быстро!
Я пригнулся, шагнул через порог, прошел рубленную колоду из тесанных бревен, снова пригнулся и вошел в комнату. В большой светлой комнате было несколько человек. Среди них старшие офицеры и полковники. Стоял генерал или сидел за столом, трудно было сказать. В лицо я его раньше не знал и во время приезда не видел. По середине комнаты стоял, заваленный бумагами и картами, большой стол. Я предполагал, что генерал должен быть где-то здесь около стола, склонившись над картой. Строевым шагом я двинулся вперед, ударяя со всей силой подошвами сапог по деревянному полу. На резкий звук моего шага все разогнулись, повернули головы в мою сторону и некоторые даже выпятили грудь. В них, в некоторых старых вояках, чувствовалась строевая выправка (давно ушедших лет). Пока я шел и чеканил шаги шарил глазами, соображая где мне нужно встать и лихо ударить каблуками, подполковник мне кивком головы показал и я увидел в стороне у стены сидевшего генерала. Половые толстые доски гудели у меня под ногами. Давно здесь не слышали подобного грохота, сюда входили на цыпочках и выходили пятясь задом к двери. А в меня в училище крепко вбили кол строевой подготовки. Доски не земля. По ним что ни шаг, то удар, то выстрел.
– Товарищ гвардии генерал-лейтенант – рявкнул я, (как нас в училище отделенные учили. “Товарищ! Товарищ! Что ты мямлишь. Метал в голосе должен быть! И вот сейчас с металлом в голосе) и тот же миг приставил ногу и щелкнул каблуками. Я вытянулся в струнку и замер на месте, готовый по малейшему его движению пальца ринуться в любую сторону.
Я рявкнул так, как нас в училище подавать команды учили.
– Курсант Михайлов! – что ты мямлишь как сивая кобыла – У тебя в голосе металл должен звучать!
Я воткнул глаза в генерала и не моргая смотрел на него.
– Тоже мне разведчик! – сказал он и добавил несколько крепких слов.
На нас, на фронтовиков они действовали как небесная благодать.
– Где был когда из госпиталя сбежал?
– В Москве – не делая паузы, выпалил я.
– Подполковник, сколько он там был?
– Семь суток ровно с дорогой туда и обратно! – Подполковник тоже подтянулся и стоял на стороже, как охотничья Лягавая (собака) в стойке. Но моя стойка была великолепней. Один из полковников улыбнулся и покачал головой. Генерал посмотрел на подполковника и на меня.
– Стоят как два кобеля, не моргая! – сказал он и тоже заулыбался
– Запиши ему семь суток ареста! Но это не всё! Это формальная сторона наказания! На участке вашей дивизии целый месяц не могут взять языка. А пленный мне сейчас очень нужен! Даю тебе неделю срока (семь дней опять – подумал я) возьмешь пленного и наказание сниму.
– Пленный будет, товарищ гвардии генерал-лейтенант!
– Хорошо, капитан, посмотрим! Подполковник, запиши ему в приказ семь суток! Сегодня пятница. В следующую пятницу напомни мне.
– Разрешите идти?
– Иди! Я повернулся на каблуках, вытянул вперед правую ногу и громыхнул по досчатому полу так, что стол от моих шагов вздрогнул и подпрыгнул на месте. Я пригнулся у колоды и вышел за первую дверь. Вдохнув полной грудью с облегчением спертого воздуха в проходе, я взял свой полушубок и вышел на волю. Небо сияло яркими отблесками весеннего солнца. Всё я видел казалось по другому, и пространство раздвинулось неизмеримо вширь.
Я сел возле кухни на толстое бревно, достал кисет и закурил махорки.
– Ну как? – спросил меня повар-солдат.
– Вроде пронесло! А это дело для меня знакомое и привычное.
9.
– Ну-ну! Значит опять на передовую? Опять туда?
– Да! Наше дело такое!
Утром 7-го апреля пакета мне никакого не дали. Подполковник сказал, что он позвонит в штаб и добавил:
– Надеюсь, что ты без заезда в Москву в дивизию попадешь! И улыбнулся понимающе.
Я получил продатестат и не теряя время отправился в штаб дивизии. В штабе дивизии мне не задавали лишних вопросов, где я был и сколько суток прогулял в Москве. Сказали только, что на мое место в 52 полк две недели назад назначен старший лейтенант. Он недавно в дивизии, дела как ты досконально не знает, но говорят что старается и нет смысла его от туда снимать. У нас в двух других полках свободны штатные единицы (по разведке). Иди в 42 полк, тебе не нужно к должности привыкать. Для тебя эта работа (давно) знакома. Я был конечно огорчен, что теряю своего ординарца, старшину и нескольких ребят. Я узнал, что во взвод разведки 52 полка несколько ребят вернулись из госпиталя. В 42 же полку мне придется всех заново изучать (разведчиков). И это не просто. Пришел, сказал, здорово братцы и по глазам все сразу узнал, кто есть кто и кто из них на что способен. Пока в деле не проверишь, сколько времени зря утечет. Как говорят – Чужая душа потемки! У наших в 52 полку свои заведенные обычаи, законы и порядки. А как они сложились здесь? Взвод полковой разведки, это вроде как обособленное, отдельное поселение эскимосов на острове в ледовитом океане. Я для них тоже новый человек. А мне нужно ровно за неделю узнать и отобрать людей, подготовить объект и взять контрольного пленного. Теперь у меня знакомство считай на самых верхах. Слово дал! Нужно торопиться. Если бы Сергей был со мной, я мог бы с ним пойти в разведку и вдвоем, взять с собой Валеева и провернуть это дело за пару дней. Сергей понимал меня по движению спины, а Валеев потому как Серега сопит. “Как-нибудь обойдется” – думал я тогда по дороге в новый полк. Приду, посмотрю, разберусь и всё встанет на место. Солдаты из взвода разведки знают и слышали про меня. Наши старшины частенько встречались. Мы знали в общих чертах кое что друг о друге. Разговор с начальником штаба полка майором состоялся у меня днем. А к вечеру я уже был во взводе разведки. Начальник штаба сказал прямо и без всякого тумана.
– Ты капитан в курсе дела (ведения разведки) последних событий. Отправляйся во взвод и помоги лейтенанту Ложкину. Ему туда прислали группу ребят из роты дивизионной разведки. У Ложкина с этой группой конфликты и нелады. Они не хотят подчиняться ему, вторую неделю сидят на нашем участке и видно бездействуют.
– Он приходил уже несколько раз сюда и жаловался на них. Приказ на захват контрольного пленного был уже давно! Они ссылаются на всякие причины, а Ложкин докладывает, что они не хотят на задачу идти. Чернова, что был в штабе дивизии убило. Сейчас там назначили какого-то хохла. Он раздал разведроту по полкам. А наш командир полка требует с Ложкина решительных действий. Я прошу пойди туда и разберись.
С командиром взвода, лейтенантом Ложкиным, я раньше несколько раз встречался, но не знал его как человека, как командира и разведчика. Теперь при свете коптилки, сидя во взводной землянке, я мог разглядеть его вблизи. У него было худое и нервное лицо, усталые ввалившиеся глаза от напряженной, тяжелой и непосильной работы (от бессонницы). Он был молодой и издерганный (войной человек). Рязанцев, тот был коренаст, плечист и почти всегда невозмутимо спокоен. А этот был высок ростом и худощав. Он как-то натянуто мне улыбнулся, увидев меня, когда я шагнул через порог. Мы поздоровались. Он глубоко вздохнул, посмотрел и с раздражением устало сказал:
– Прошу тебя, гвардии капитан, займись этими прохвостами! Я смотрел на усталого и изможденного (войной) человека. Рязанцева так не трепали. Рязанцев был у меня за спиной. Все удары сверху я принимал на себя.
– Торопиться не будем. Начнем всё по порядку. Пошли солдата и вызови старшину. Это первое. Второе, мне нужен ординарец.
– Вон Егора Фомичева возьми. Он был ординарцем у бывшего капитана. К ночи приехал с кормежкой старшина, и с ним в землянку явился Егор. Я обещал Ложкину к ночи разобраться с дивизионной разведкой. Вызвал молодого лейтенанта командира взвода:
– Я с тобой разговоры на моральные темы разводить не буду. Если не наведешь порядок среди своих солдат, лично расстреляю. Выведу вон туда в канаву и получишь пулю в лоб. Я не хочу до этого доводить, я хочу одним разом прекратить пустые разговоры. Иди и передай своим солдатам, что в полк прибыл разведчик гвардии капитан и что у меня личный приказ командира 5-го гвардейского корпуса генерала Безуглова Ивана Ивановича в течении недели взять языка.
11. А вот бездельникам я даю на подготовку к боевому выходу всего два дня. 10 февраля я вместе с тобой выйду к переднему краю противника, и ты мне покажешь разведанный тобой объект.
Лейтенант из разведроты ушел. Я велел ординарцу подогреть котелок с едой и вызвал к себе старшину.
– Как у тебя ребята одеты? Оружие в порядке?
– Кормежка нормальная, одежда ничего. А оружие я непроверяю. За оружием каждый сам смотрит.
– На счет боеприпасов можешь мне сказать? У кого сколько гранат, запасных дисков набито, перевязочных пакетов штук по пять?
– А зачем по пять? По одному вполне достаточно.
– Ложкин! Ты его никогда не брал на захват языка?
– Не брал, а что?
– Ему (разочек надо) пора туда сходить, а то я смотрю он жирком покрылся. Ему нужно все мелочи (амуниции) разведки тонко знать. Он давно у вас в разведке?
– Порядочно! Говорят года два.
– И сколько раз под немецкой проволокой был?
– Не знаю!
Старшина слушал такой разговор, молчал и сопел.
– Дивизионные разведчики тебя старшина не касаются, а своими взводными ты обязательно займись. Сейчас дни наступают решительные. Старшину я знал раньше в лицо. Несколько раз видел его в тылах дивизии. Я не знал (о его способностях, возможностях и продовольственных резервах) его по работе и не стал с ним заводить разговор о питании, скромно довольствуясь тем, что ординарец приносил с общего солдатского котла.
Ординарец был небольшого роста, крепкого сложения. Работал до войны в крестьянстве, был женат и имел детей. Чуть-чуть рябоватое лицо его не то внутреннюю борьбу, нетто заботы (опасность войны). Он переживал за себя, за жену, за детей, за лейтенанта Ложкина и за всю полковую разведку. По-видимому, он не был трусом. У меня не было времени подробно разобраться в его характере (и человеческих недостатках и достоинствах), но с первого дня я почувствовал, что он недолюбливал старшину. Судьба дала нам мало времени быть вместе на этой земле. Из всех людей которых мне пришлось тогда знать хорошо запомнился Ваня Ложкин. С ним мы (иногда) в свободные минуты говорили вообще ни о чем, обсуждали план операции, я ползал с ним на готовые объекты, проверял донесения солдат и давал советы.
– Не обижайся, капитан! У меня на этот счет свои соображения. Я устал от войны и от всего. Ты мне о деле говоришь, а я в это время совсем о другом думаю. Я думаю, как бы выбраться от сюда живым. Ты отобрал себе группу ребят, занимайся ими и готовь свой объект. Если мы не возьмем, тебе придется после нас со своей группой идти. И потом скажи, что это за порядок. Я должен дивизионную разведку с собой вести. Если раньше полковые работали отдельно. То с переводом в разведотдел Чернова под наше начало стали взвода разведроты отправлять. Это вполне устраивает штаб дивизии. Они не берут на себя подготовку солдат, не проводят операции и не отвечают за срыв разведзаданий. Теперь все спрашивают с нас с полковых ребят. А эти прохвосты сваливают свои срывы и неудачи на нас и от дела отвиливают.
– Да! – подумал я – Практика спаривания разведок оборачивалась развалом общего дела.
В армии не позволяют громогласно и вслух критиковать (распоряжения и) неверные решения и ошибочные приказы. Это была железная логика (метода) всех штабных, чтобы самим не попасть впросак. Все знали, что люди пошли и напрасно гибнут, что они ни на что не способны и явно тупы и глупы, но все будут стоять до упора на своем и доказывать необходимость такого приказа. Кому все это (одному или нескольким все это шло на пользу) выгодно? (было и на пользу шло?). Я припугнул лейтенанта из дивизионной разведки, но не стал вмешиваться в их подготовку и действия. В ночь на десятое мы вышли с ним в нейтральную полосу. Он показал мне горку, куда его ребята нацелились. Когда мы вернулись, я ему сказал:
– Считай, что через пару дней (на бугорок) ты сюда за языком пойдешь!
– Послушай, капитан! – сказал мне Ложкин, – Напиши в дивизию, чем занимаются здесь дивизионные разведчики. Их лейтенант еще вчера куда-то сбежал. Как вы вернулся после проверки, так и исчез сразу. Солдаты без него не хотят идти в ночной поиск. Говорят, мы больные.
– У меня сейчас дел по горло! – ответил я.
– Мне нужно со своей группой готовить объект, а я со штабом дивизии затею переписку, начнут вызывать, делать очные ставки. А вообще-то раз ты просишь, то напишу. Они могут нам все дело сорвать. Вот оно это донесение:
13.
Начальнику штаба 17 гв.СДКД гвардии полковнику Карака.
Доношу, что в ночь на 13 апреля 44 года в ходе подготовки операции по захвату контрольного пленного, план операции с дополнениями и изменениями прилагаю, произошел массовый отказ выхода на исходное положение. Изменение в составе разведгруппы были согласованы с командиром взвода полковой разведки. Характер и время подачи сигналов, время выхода на объект, схемы и ход операции согласно плана были уточнены.
Операцию готовил командир взвода пешей разведки 48-го гв.С.П. гвардии лейтенант Ложкин И.Е. Группа разведчиков из дивизии в количестве 15 человек была подчинена ему на время операции. В период подготовки операции (атакующие и) прикрывающие группы неоднократно выводились на место, где велось ночное наблюдение и изучение объекта и огневых точек противника. Атакующие группы и захват пары выходили на исходные положения. Там они уясняли особенности местности, характер сооружений и состояние объекта.
Перед выходом на исходное положение в разведгруппе 3 ей ОГРР произошел коллективный отказ разведчиков от выполнения задания. Несколько человек перед выходом в строю заявили, что за проволоку к немцам не пойдут. Когда стали выяснять причины и фамилии отказавшихся, то фамилии свои они отказались назвать. Двое из них оказались достаточно храбрыми. Это рядовой Шуманёв и рядовой Попов. Шуманёв мотивировал свой отказ следующими словами: – У меня нет охоты умирать за таких разведчиков, каких у них во взводе развели. Попов свой отказ мотивировал ночной куриной слепотой.
Все это произошло в отсутствии командира взвода 3 ей ОГРР, фамилию которого я не знаю. Он 10 февраля после выхода со мной к месту объекта сбежал и исчез, покинув своих солдат. Старшим в группе был назначен помкомвзвод Котов. 12 апреля я написал своей жене Августе короткое письмо «Сообщаю тебе мой новый адрес 43935-К 48 гв.С.П. Что-то тревожит меня. Чего-то я ожидаю. Что-то должно случиться.» Письмо написал и накануне отправил 14 апреля.
А в ночь с 13-го 14 апреля развернулись новые события. Две группы разведки пошли за языком. Штаб 17 гв.СДКД полковнику Карака. В дополнение к донесению от 13 апреля сообщаю: В 4:30 утра две атакующие группы и две группы прикрытия заняли исходное положение. В проволочном заграждении противника были проделаны предварительно проходы, которые в ночь на 13-ое апреля я лично проверял. В 5:20 по сигналу красной ракеты атакующие группы по команде командира взвода лейтенанта Ложкине И.Е. поднялись и броском пошли вперед. Исходное положение атакующих групп оказалось на низком месте и накануне заполнилось водой (оказалось невыгодным). Разведчики атакующих групп сильно намокли, вследствие чего была замедлена скорость движения вперед. Обнаружить воду предварительно не удалось, она скопилась (под снегом) в низине перед самым окопом. С началом движения противник обнаружил захват группы и обрушился на них пулемётным огнем. Противник до рассвета вел огонь из трех пулемётов и (артминомётным огнем) артиллерии. Вследствие чего атакующие группы сразу стали нести большие потери. Оставшиеся в живых в количестве четырех человек из обеих р.г. образовали охрану лежащих в воде и у проволоки. Наступивший рассвет не позволил эвакуировать с поля боя убитых и раненных. Некоторые из раненных пытались выползти, но были противником обнаружены и убиты на месте. Весь светлый период суток 14 апреля раненные остались лежать в проволочных проходах и перед объектом. С наступлением темноты в ночь с 14 на 15 апреля в 3:30 часа раненные были эвакуированы и отправлены в санроту.
Потери взвода пешей разведки 48 гв.с.п.:
Участвовало – 12 человек; убито – 4; ранено 5; вышло – 3
Потери взвода дивизионной разведки:
Участвовало – 15; убито – 3; ранено – 7; вышло – 5
15.
По уточненным данным через санроту 48 гв.с.п. прошло раненных на эвакуацию 6 человек. Из числа убитых один был вынесен без сознания, его вначале посчитали мертвым (убитым). Он оказался тяжело раненным, его эвакуировали в медсанбат.
При этом прилагаю копию донесения воен. врача санроты 48 гв. С.П. капитана мед. Службы А. Соболева.
От старшего врача 48 г.с.п.
Командиру полка
Доношу, что за 14 апреля прошло раненных из взвода пешей разведки через эвакопункт 48 г.с.п. 7 человек.
Лейтенант Ложкин И.Е. – командир взвода
Рядовой Богатырев Н.Л. – разведчик
Максимов Ю.П. – разведчик
Афонин М.Ф. – разведчик
Климов А.В. – разведчик
Николенко Н.М. – разведчик
Тяжело раненные вынесены с поля боя только с наступлением темноты.
Дивизионная разведка:
1. Копсов – разведчик
2. Румянцев – разведчик
3. Григорьев – разведчик
4. Мишанин – разведчик
5. Кузин – разведчик
6. Кукушанов – разведчик
7. Янковский – разведчик
Один человек из взвода пешей разведки прошел через БМП. (батальонный медпункт) ибо у него, по его словам, остались вещи в 52 гв.с.п. и он пошел в соседний полк. Фамилию его сегодня указать не могу.
Старший врач 48 г.с.п.
15 апреля 44 года/подпись/ А. Соболев.
19.02.83 /подпись/ А.Шумилин
* * *
Апрель 1944
16.04.44 г.

И последнее на чем нужно остановиться, о чем следует подробно рассказать. Но об этом откровенно не хочется вспоминать. Это был последний, кошмарный и неудачный выход за передовую. Он нам стоил огромного напряжения сил и немалой крови. Мы потеряли последнюю группу ребят из взвода пешей разведки. Я обещал Безуглому что возьму языка и мне нужно было самому идти с этой группой. После неудачного выхода Ложкина во взводе осталось очень мало солдат. Пять человек и сержант, которые готовили последний объект, и трое солдат, оставшихся в живых после неудачного выхода Ложкина. Вот собственно и весь боевой состав, если не считать старшины, меня и моего ординарца Егора. Эта последняя группа готовила и изучала отдельный окоп. Он находился справа от железнодорожной насыпи в районе станции Заболотинка. Мы много раз выходили под проволоку и ночи напролет лежали у немецких окопов. По нашим наблюдениям в окопе находились двое немцев. Один был с пулеметом а другой освещал передний край ракетами. Все как будто обычно, никаких отклонений от нормы. Каждый раз, когда мы отправляемся брать языка, мы мысленно спрашиваем себя и пытаемся представить что делают немцы. Нам нужно незаметно подойти к ним поближе. В этом заключается любая операция по взятию языка. Главное незаметно заскочить в окоп, а остальное не представляет особой трудности. Когда разведчик добрался до окопа и прыгнул на плечи обезумевшего от страха немца, его только ткнул стволом автомата в бок и он тут же поднимет лапы кверху. А чтобы не заорал и не завопил с перепуга, напарник хватает его моментально за горло. Немец пикнуть не успеет, а его уже волокут бегом по земле. Существуют несколько способов заткнуть немцу рот. Один по привычке прикрывает ему рот ладонью и двумя пальцами зажимает нос. Другой схода толкает ему в пасть тряпичный кляп. Были и такие, которые умели немцу быстро накидывать на шею из стальной проволоки петлю. Но я считаю, что самый надежный и верный способ сунуть немцу под челюсть большой палец и вдавить его в горло. Тут, как говорят, не дыхнуть не пукнуть. Но сколько мы не напрягали свои мозги, как приблизиться незаметно к немецкому окопу, придумать ничего нового не могли. Хорошо конечно подготовить проходы и ночью уйти к немцам в тыл. В тылу у немцев действовать легче и проще.
Нам сейчас приходится лезть напролом. На любом участке обороны противника можно подготовить такие проходы, но на это надо иметь достаточно времени. И еще одно обстоятельство заставляет идти нас на этот окоп. На участке полка неудачная работа разведгрупп встревожила немцев. Остался нетронутым только этот окоп. Командиры полков требовали, чтобы мы не совались на чужие участки. Они усматривали в этом нарушение границ. Сидя в землянке и рассматривая карту, мы изучали расположение немецких траншей. Мы не чертили на карте красные стрелы, по направлению которых кто-то другой должен был встать и идти. Мы изучали сами свой последний путь. Кому этот путь оставит жизнь, кто из нас попадет в госпиталь, а для кого он станет вечным покоем. Когда полковые разведчики отправляются за проволоку, штабные дивизии лезут со своими советами хотя остаются сидеть под накатами подальше в тылу. Им важно поговорить. А нам нужны результаты. Было бы неплохо им самим разок за немцем сходить. Захват языка во многом зависит от случая и момента. Тут как игра в очко, кому повезет. Немец чуть прозевал и ты тут, как тут! Немецкий окопчик мы берегли про запас и не трогали. Боялись их насторожить и спугнуть раньше времени. Руководить захват группой будет сержант. С ним на немцев трое пойдут. Две пары. Он с солдатом и я с Егором. Сержант и солдат навалятся на пулеметчика, а мы с Егором будем брать ракетчика. Что толку, если я окажусь в группе прикрытия? Как советует мне сержант. Мне нужно идти самому. Я слово дал. Мы могли подготовить проходы, уйти к немцам в тыл и там взять языка. Но меня одернули в штабе дивизии, нечего мол соваться с группой в пять человек. В плен могут взять. У меня не было времени. Я был связан словом. Обращаться к Безуглому и просить отсрочки я не хотел. В штабе дивизии меня торопили. Командир корпуса требует языка.
3.
По намеченному плану мы должны подойти к окопу с двух сторон. Этим мы получим некоторое преимущество. Группа прикрытия возьмет на себя огонь пулемета. А мы в две пары должны пойти на окоп не взирая ни на что. Если одна из пар попадет под огонь, то другая используя момент ворвется в окоп. Нас у проволоки прикрывают трое солдат. Они вчера вернулись из под огня после очередного провала. Им положен законный отдых, а нас около проволоки некому прикрыть. Я строю ребят перед выходом. Проверяю детали операции, задаю уточняющие вопросы. И вот мы поворачиваемся и гуськом уходим в ночь. Темное непроглядное небо нависло над нами. Облаков на небе нет. Все затянуто беспросветным темным бархатом. Смотрю в темноту, оглядываю горизонт. По всей линии фронта ползут трассы трассирующих. Впереди чуть заметно маячит силуэт идущего сержанта. Я иду следом за ним, рядом чуть слышно шагает Егор, мой ординарец. Дальше на расстоянии видимости тихо переступают другие разведчики. Мы идем во весь рост. Мимо сверкая холодными огоньками над землей, пролетают трассирующие пули. На мгновение все замирают. Мы идем медленно, не делая резких движений. Под ногами то мягкая и липкая глина, то застывшая и твердая, как камень земля. На нас надеты новые маскхалаты. Они все в извилинах и в темных пятнах как ночь. В темноте с двадцати метрах фигура человека неразличима. Днем на буграх, где греет солнце, земля становится талая. Кругом появляется непролазная грязь. Ночь, когда заметно холодает, земля начинает застывать. В темноте сам черт не разберет где она мягкая и где она твердая. В болотинах и низинах из-под ног выступает вода. Шагнешь иной раз ногой, а она сползает куда-то в низину. Ни лето, ни зима, одним словом-распутица! Ползти по такой грязи, значит набрать на себя липкой глины. Потом нужно будет встать, а тебя присосала жижа в засос, отяжелеешь так, что потом не подняться. Налипнет пуда два, попробуй встань перед окопом. Разведчику нужна легкость и свобода движений. Лучше идти под пулями в рост, чем ползти по непролазной глине. Мы двигаемся парами. Сержант и солдат идут впереди, за ними идем мы с Егором.
Остальные следуют сзади, придерживаясь заданного темпа шага. Устных комад голосом больше не будет. Все должны делать как сержант. Пока он идет спокойно, все знают, что впереди нет никакой опасности. В разведке такой неписанный порядок. Темное пространство расцвечено линиями трассирующих. Непроглядная земля под ногами. Мы идем и ступаем на ощупь. Откуда-то спереди немец пустил в нашу сторону пулеметную очередь. Трассирующие изогнутой змейкой приближаются к нам. Сверкающие пули несутся на нас, но в десятке метров не долетая ударяются в землю, и завизжав перед самым носом взмывают вверх. Такая пвуля, если и ударит в грудь навылет не пройдет, а порвать кишки запросто может. Сержант не останавливается, продолжает идти. Я на миг оборачиваюсь, вглядываюсь в темноту. Я ловлю глазами, когда покажется идущий сзади. Змейка солдат за нами ползет в темноте. Я периодически оборачиваюсь и смотрю назад. Нужно следить чтобы не отстали идущие сзади, чтобы они не свернули по ошибке в сторону и не ушли не туда. При подходе к объекту такое иногда случается. Оглядываюсь на миг назад, идущий за мной тоже оборачивается. И так друг на друга, как по команде, до самого последнего все по очереди вертят головой. При приближении к противнику лишних и резких движений делать нельзя. Передний явно замедляет шаг. Это для всех означает, что до немцев идти недалеко, всем быть внимательными. Теперь внимание всех ребят сосредоточено на немецких позициях.
5.
До окопа осталось метров тридцать, не больше. Впереди небольшой ручей. Вижу сержант переступает его легко. Перешагивает канаву и медленно уходит в темноту. Я останавливаюсь перед ручьем, хочу последний раз обернуться назад и посмотреть не отстал ли кто. Ординарец Егор останавливается рядом. Я чуть касаюсь его плеча рукой, даю знак идти за сержантом через канаву. Я хочу поменяться местами. За его широкой спиной плохо видать сзади идущих. И не успел я оглянуться назад, а лишь только повел головой, как почувствовал какое-то новое состояние и легкость как будто у меня выросли крылья за спиной. Внутри глубоко в глазах вспыхнуло и засияло огненное, как солнце, яркое пламя! Мне стало необыкновенно легко, совершенно не больно, я как будто парил свободно в воздухе. Взрыва, удара и боли я не почувствовал. Я понял, что взорвался на мощной мине, но мысли мои перекинулись к далекому прошлому. Быстрые, ясные, давно знакомые картинки детства замелькали у меня в голове ясно и четко. Грома взрыва я не слышал. Внутри глаз мелькнула молния и в моей голове после картин детства возникли всполохи чистого золотисто-прозрачного цвета. Через мгновение сияние покраснело, перешло в пурпурный, потом в фиолетовый, желтый и зеленый. Потом появился цвет ярко синий и затем голубой. Чистые, прозрачные, как Виндзорская акварель, цвета сменяли друг друга сияя в бесконечном пространстве. Но вот в яркое сияние ворвался серый фон и мое сознание стало медленно затягивать тьмой как черный бархат.
”Ну всё!”, – успел я сказать сам себе.
И черная непроницаемая тьма навалилась на мое сознание откуда-то сверху.
Я переносил операции под наркозом. Но в этом случае я терял сознание, словно на меня наваливался сон. Черного бархата ни во сне, ни под наркозом я не видел. Сколько времени я пролежал без сознания сказать не могу. Пока я пребывал, так сказать, в небытие, пока я не ощущал земного мира, группа прикрытия стала отходить. Увидев впереди мощный взрыв и сноп пламени, они с перепугу побежали назад.
Что же произошло в тот момент, когда я легким движением руки послал своего ординарца вперед(вслед за сержантом). В этот момент я подумал, пока ординарец перешагнет через канаву, я успею на миг оглянуться и посмотреть на ребят которые идут сзади. Ординарец мой как таежный старатель вечно ходил и цеплял ногами по земле. Трудно сказать, от тяжелого крестьянского труда он привык по земле волочить ногами, или от рождения он был такой криволапый. Ему было лень легко, как сержант, перешагнуть через канаву, и он своей кривой лапой черпнул по воде. Всплеск воды я слышал и потом много времени спустя об нем вспомнил. Мы не знали, что по склону у самой воды вдоль канавы была натянута проволока и соединена с боковым взрывателем противотанковой мины. Противотанковая мина с боковым взрывателем и натянутой проволокой редкий сюрприз. Например, наших противотанковых мин я не видел с начала войны, а немецкие частенько попадались. Большая мина легко детонирует от взрыва снаряда или упавшей рядом бомбы. А когда немцы готовили пустить в нашу сторону свои танки, они предварительно эти пути бомбили. Тяжелые мины обычно ставили на большаках и дорогах. Их не везде можно встретить во время войны. Они редко встречались даже на главных танкоопасных направлениях. Тем более, сунуть такую мину в низину, где повсюду болотины и непролазная грязь. За всю войну это для меня была вторая мина. Если не считать третьей, на которой верхом взорвался Малечкин. Если на противотанковую мину наступить сапогом или встать на верхнюю крышку обеими ногами, то мина под весом человека не взорвется. Смотреть на это неприятно. Помню под Бондарями на дороге мы увидели такую “дуру”
“Ну! Кто наступит?”,- объявил вполне серьезно Рязанцев. Из-за моей спины вышел Сергей Курдюмов, мой ординарец и обратился ко мне.
7.
– Разрешите, товарищ гвардии капитан! Я прикинул на глаз вес своего ординарца вместе с вещмешком и автоматом на горбу.
– Хочешь показать свою удаль? Валяй, попробуй!
Сергей подошел к круглой, цвета индиго, тарелке, поставил на неё ногу и все кто был около неё невольно попятились. Сергей мог в нужный момент поднять у всех настроение, потешить и рассмешить ребят, но он мог заставить их вдруг согнуться и вздрогнуть. Вот и в этот раз он забрался на мину двумя ногами, взял и подпрыгнул, и не сходя с неё завернул махорки и закурил. Все смотрели на него и с ужасом и с завистью. А ему что, ему ничего. А мой новый ординарец ходил по земле и цеплял ногами. Он был неловок, но по сравнению с Сергеем был здоровяк. Он был мужиком, парнишкой его было назвать. Егор не любил и не понимал пустые слова, солдатский юмор, подначки и разные шуточки. Он был молчалив, говорил немногословно и всегда по делу. Я запомнил его лицо, хотя мы были в разведке с ним вместе всего неделю. У него были небольшие, подвижные и широко расставленные глаза. Надбровные дуги глаз всегда вскинуты вверх, как будто глаза у него были всегда удивлены чему-то. Между бровями на лбу у него лежали две тяжелые складки, нос мясистый, шершавый торчал между глаз. Губы мясистые сжаты в узкую щель. Вот собственно весь его портрет, все что запомнилось мне на лице моего ординарца. Таких безликих лиц вероятно на земле существовало на земле сотни тысяч. Обычное русское солдатское лицо. А лица всех солдат на войне похоже друг на друга. Я часто останавливаюсь в раздумье, где-то я видел это лицо! Лицо встречного ничем не примечательно. На нем нет ни мыслей, ни волнений. Оно как наклеенная на череп маска, прикрытая сверху копной непослушных волос. Огораживать противотанковыми минами передний край перед солдатскими окопами и использовать их с боковым взрывателем против пеших солдат было не серьезно. Вся Германия содрогалась от бомбежек, немецкое командование на такое расточительство не пошло бы. Для нашего брата пехотинца достаточна и небольшая в пластмассовом футляре. А здесь в круглую чушку ввернули боковой взрыватель и от чеки взрывателя натянули провод метров на двадцать. Немецкие окопные солдаты по-видимому случайно нашли у себя одну такую и поставили её в качестве сторожевого заряда.
Егор черкнув по воде сапогом задел натянутую проволоку и потащил её за собой. Мина взорвалась, оторвала Егору обе ноги выше колен, выбросила тело и ударила в меня. Я получил несколько десятков мелких осколков и был отброшен от места взрыва далеко. Сержанту, что шел далеко, вырвало ребро. А те из ребят, которые шли сзади получили ранения в ноги и руки. Ранены были не все. Трое, которые ходили с Ложкиным, остались живые. Все, кто мог идти и ползти после взрыва, покинули низину и отправились в тыл. Лежать на земле у ручья без сознания остались трое. Нас разбросало волной в разные стороны и мы не могли лежа в крови видеть друг друга, если бы даже и пришли в сознание. Я очнулся как-то сразу вдруг. Сколько времени я пролежал без сознания, трудно сказать. Темное небо стояло неподвижно перед глазами (нависло кругом). Вдоль всей линии горизонта видны были прочерки трассирующих. Где находятся немцы? Где наши? Кто в какой стороне? Я потерял ориентировку и счет времени. Пощупал рукой под рубашкой – пистолет на месте. Когда я иду в разведку, пистолет кладу за пазуху. От всех случайностей, буду ли я ползти или лежать в грязи, пистолет на животе тепленький, он закрыт от воды и грязи. Пистолет не только закрывает часть живота от пуль, он под рубахой тепленький и всегда готовый к бою. Солдаты тоже выходя из окопов вперед затыкают лопату себе под ремень, прикрывая себе живот. Небольшое ранение в живот и тут же гангрена. Ранение в живот самая мучительная и тяжелая солдатская смерть. Я лежал на спине и хотел повернуться на бок. Пытаюсь согнуть правую ногу, чтобы перевесить тело, – в коленном суставе страшная острая боль. В голове затуманилось. Я снова распластался спиной на земле. Через некоторое время слышу кто-то идет по застывшей земле. Шаги, даже осторожные, лежа воспринимаются с приличного расстояния. Их слышно также отчетливо, как стук колес, идущего по рельсам поезда. Поворачиваю голову направо, вижу на фоне темного пространства две неясные фигуры.
9.
Они идут, пригнувшись, чуть правее меня. Они все время озираются, останавливаются и начинают шептаться. Я слышу шепот, но не различаю ни слов, ни речи. Я вижу их отчетливо, но не знаю немцы они или наши, и не могу позвать их на помощь. Если это немцы, они могут наткнуться на меня. Если это наши они могут пройти мимо и не заметить.
“Вот положение”,- соображаю я. Я вижу их, слышу, но позвать не могу. Они стоят ко мне боком и смотрят куда-то в сторону. Я вынимаю из-за пазухи пистолет, тихо снимаю предохранительную собачку и беру одного из них на прицел. Если это немцы, я в одного из них в упор стреляю, другой тут же сбежит. Они не знают. Возможно здесь лежит целая группа в засаде. Я держу пистолет на вытянутой руке. Обе фигуры медленно поворачиваются и уходят в сторону. Возможно это были немцы. Подошли, пошептались, а я из последних сил хотел их позвать. Прошло несколько минут, и я снова потерял сознание. Как я очнулся, как открыл глаза, трудно сказать, да и это не самое важное. Слышу опять какие-то шаги по земле, шаги осторожные. Поворачиваю голову вправо, вижу две серые фигуры. Они пригнувшись движутся на меня. Вынимаю пистолет, держу его на вытянутой руке. Мне только руку поднять, одного я с первого выстрела уложу. Они не видят движения моей руки. Я жду когда они подойдут ещё ближе. Я убью одного. Второй с перепугу сбежит. Таков закон темноты. Они услышали мой хрип и возвратились за мной – думаю я. Иначе бы на земле в темноте им меня не найти.
– Вась! А Вась! – услышал я тихий голос солдата. Наши должны где-то здесь лежать! Я готов был нажать на спусковую скобу, собрал для этого последние силы. И когда я услышал отчетливо “Вась” силой я заставил себя выйти из оцепенения.
Я почувствовал, что теряю силы, опустил руку и распластался на земле. Теперь я не мог терпеть больше боли и застонал. Услышав мой стон они метнулись ко мне и тут же присели. Двое наших ребят наклонились ко мне.
– Это капитан! – сказал один из них распахнув на мне рубашку маскхалата.
– Точно он! Вон в руке пистолет!
– Давай сними палатку, протаскивай под него.
Оба одновременно опустились на колени. Говорили они шепотом. Я слышал их отлично, хотя в ушах и голове у меня звенело. Я терпел и молчал когда они заводили под меня палатку, когда поднимали напряженно с земли. Я мог не выдержать боли и простонать, но я терпел все муки, пока они не донесли меня до нашей передовой. Я не представлял себе где в ночном пространстве где рванула мина, где пролегала канава и протекал мелкий ручей, где теперь находился немецкий окоп на который мы шли. Сверх ожидания меня эти двое ребят понесли совсем в противоположную сторону, куда я предполагал и в начале собирался ползти. Взрыв был видимо настолько мощным и сильным, что немецкий пулеметчик и ракетчик с перепуга притихли. Возможно и не они поставили её здесь (эту мину и ввернули в неё боковой взрыватель).
– Потерпи капитан! Главное до своих донести!
– Сейчас перемахнем через овражек и сделаем перевязку! Через некоторое время меря донесли до землянки,(где располагались разведчики). Положили на узкие нары. Нары были обрублены из земли, покрытые хвоей. На нарах могли уместиться два человека, один в ногах у другого.
11.
Видя что я весь в крови, сменяя срезали сапоги, распороли пропитанные кровью брюки и стащили гимнастерку. Нательное белье пришлось разрезать ножом и отнимать лоскутами от липкого тела. Повсюду виднелись кровавые раны и свежие потеки крови. Гимнастерка в области и живота была иссечена мелкими осколками. Когда её оттопырили и стянули через голову, на брюшине я увидел кровавую с черной каемкой дыру. В середине дыры сочилась (свежая) кровь, а по краям, как траурная рамка,, (черная) прилипла земля. Ну всё! – мелькнуло в голове. Заражение крови обеспечено! Проникающее ранение в живот. На грудь, лицо, руки и ноги я даже не посмотрел перед тем как их замотали бинтами. Проникающее ранение в живот осколка с землей самая мучительная смерть, какую возможно было придумать для солдата. Я не стал рассматривать другие раны. Даже на ранения между ног особого внимания не обратил. Посмотрел на окровавленный обрубок и подумал, теперь всё равно хозяйство это не пригодится. Беспокоила только рана в живот. На меня стали наматывать индивидуальные пакеты. Я был замотан бинтами с ног до головы. Осколочное ранение лица, шеи, груди, рук и обеих ног. В землянку внесли сержанта и моего ординарца Егора. Ординарца положили на нарах у меня в ногах. Егор некоторое время лежал тихо, потом начал бредить, потом пришел в сознание и открыл глаза.
– Где капитан! – сказал он не допив кружку с водой до конца.
– Здесь! Здесь! Лежи спокойно! – сказал старшина.
– Ты вот что старшина! Налей-ка нам с капитаном для дезинфекции грамм по двести.
– Тебе сейчас водку пить нельзя!
– Давай не жидись! Нечего жаться! Знаю, вам только бы выжрать нашу порцию!
– Накройте-ка мне ноги ребята шинелью, а то пальцы мерзнут на ногах.
Разведчики молча набросили ему шинель на грудь. У ординарца не было обеих ног выше колен. Старшина в стороне хлопотал с флягами и железными кружками. Егор потерял много крови, он часто дышал и иногда недолго стонал. Ему на ноги у бедер наложили шины и замотали бинтами культи.
– Ты чего старшина? – сказал он грозно и повернул голову в его сторону.
– Ты иди сюда при мне наливай! А то ещё возьмешь да для выгоды своей водой разбавишь. На раненных сэкономить хочешь? Я давно это за тобой замечал. Старшина подошел к Егору, опрокинул горлышко в железную фляжку и налил почти до краев.
– Подай сначала капитану а потом при мне и мне нальешь. Старшина кивнул головой, подзывая к себе кого-то из разведчиков, тот подошел взял кружку с водкой и подошел ко мне. Старшина налил вторую кружку на глазах у ординарца.
– По звуку слышу, до краев налил! Помогите братцы! Поднимите меня! А то мимо рта опрокину. Двое разведчиков подтащили Егора под руки и приподняли кверху (поддерживая за лопатки и голову). Старшина подставил ему к зубам налитую кружку и хотел аккуратно наклонить вперед.
– Я не буду один пить – отстранив рукой спиртное крикнул Егор. – Почему капитану не дали? Капитан, ты жив?
– Я живой Егор. Но водку пить не буду. У меня ранение в живот. Заражение сразу разойдется по всему телу.
– Ну ладно! – сказал Егор. – Я выпью за тебя и за себя, гвардии капитан! Старшина! Тащи сюда вторую кружку! Давай эту мне в руку! Старшина подал ему кружку, он опрокинул её и выпил её залпом(первую, отдышался, разжал губы) промычал:
– Давай! Быстро вторую! Никогда раньше не пил сразу четыреста грамм! Ох! Как пошла! Так и зажгла всё внутри и завертела! Положите меня братцы! Я немного полежу!
– Закусить не надо? – спросил старшина.
13.
Егор в ответ даже звука не издал. Его положили на нары, под голову положили ватную куцавейку и он заговорил сам с собой.
– Женушка меня ждет. Там без меня дочка растет, у неё уши тоже торчат, как у меня. Вся в папашу. А я хотел чтобы ушки у неё были прижаты, как у жены. Хотел чтобы дочка была красивой. Ну и пусть топырщатся. Внуки будут похожи на меня. Егор закрыл глаза, откинул руку в сторону к земляной стене и постепенно затих.
– Посмотри старшина, что-то он быстро затих(успокоился и спит после хорошей выпивки). Старшина наклонился над ним, Егор больше не дышал. Он потерял много крови и выпил водки. Смерть его была тихая, легкая и немучительная. “Помирать мы станем и не охнем…” – вспомнил я строку из одной песенки. Я пролежал на нарах в землянке ещё несколько часов пока из полковых тылов не вернулась наша повозка. Меня положили на телегу и повезли в санроту. Осмотрев наложенные на раны повязки, капитан медслужбы Соболев выписал эвакокарту и отправил меня в медсанбат. В медсанбат нас везли на другой телеге. Если до санроты старшина ехал осторожно, часто останавливался когда мы начинали стонать. То этот обозный из санроты не останавливал свою лошадь даже когда мы на него начинали матом кричать. Потряс он нас хорошо, но слава богу путь был короткий, всего километров шесть. Через некоторое время я лежал в хирургической палатке на деревянном узком столе, застланным белой клеёнкой. Две медсестры стали сматывать с меня бинты. Когда я предстал перед ними в голом виде они доложили хирургу. Пришла женщина, капитан медслужбы, лет тридцати пяти. Она осмотрела все мои раны, потрогала пальцами и велела колоть местную анестезию. Тело моё от удара мины опухло, стал заплывать левый раненный глаз. Они начали с ног. Каждый укол толстой иглой и большой объем вливаемой жидкости раздирали мне опухшие мышцы(вокруг ран). Вокруг каждой раны они делали два, три укола. Я поднялся на локтях, медсестры с двух сторон бросились ко мне и повисли у меня на руках.
Я выругался матом. Они мне ответили:-“ Успокойся, миленький, лежи смирно.”
– Режьте так, без ваших уколов! И не подходите ко мне больше с этим шприцом! Мне всё мясо раздирает от вашей анестезии! Держите меня за руки, за голову, на ноги навалитесь, на каждую по одной! Я буду терпеть и скрипеть зубоми!
– Ну терпи капитан! Терпи милый разведчик! Я сжал зубы и через нос застонал.
– Режьте быстрее! Чего встали! – в перерывах между стонами кричал я. На руках и ногах у меня висели по одной сестре. Ран и осколков только на ногах было с десяток, не меньше. Я терпел, ругался, матерился и кричал. Подгонял хирурга и умолял работать побыстрее.
– Терпи! Терпи капитан! Осталось немного!
– Какой там немного?
– Терпи или будем делать уколы. Нужно разрезать рану, удалить осколки, сделать чистку. Из раны нужно всё удалить, прощупать, не осталось ли чего – приговаривала хирург, она рассказывала мне как ребенку перед сном рассказывают сказку. Остриё ножа жгло острой короткой болью. Потом начиналась чистка. Мне казалось, что у меня отрезают ногу.
– Стоп! – кричал я – Дайте-ка я посмотрю! Хирург послушно делала остановку. Я поднимал голову и смотрел вдоль ног. Ноги у меня были целы. Где-то ниже колена только что ковыряли и резали. Я посмотрел на пальцы ног, пошевелил ими. Потом сам опустил на стол голову и сказал:
– Можно резать дальше!
Сказать сколько я перенес мучений и сколько выстрадал, сколько душевных сил мне стоила обработка ран? Каждый раз когда разгибалась хирург и операционная сестра мне накладывала повязку, я думал операция закончена. Но капитан медслужбы снова ощупывала меня, брала острый скальпель и наклонялась к ногам.
15,16.
Ковыряние в ранах казалось будет продолжаться вечно. Я был измучен и совершенно разбит перед тем кА попал под нож на хирургический стол медсанбата. Старшина довез меня на своей телеге только до санроты. Здесь стояла телега с повозочным-санитаром. Похабная, корявая, мордастая личность, какую только увидишь в тылах дивизии или полка. Её заметишь когда мы отъехали от санроты, её познаешь только подпрыгивая раненным, лежа в телеге, её нутро раскроется только в пути.
– Разрешите вернуться мне во взвод, товарищ гвардии капитан? – промямлил взводный старшина. – Ещё двух солдат нужно доставить. Хотя он мог из санроты послать за ними подводу.
– Езжай! Езжай! – сказал я ему. Я был в 48-ом полку новый человек. Пробыл в разведке всего неделю. Старшина и разведчики не успели привыкнуть ко мне, смотрели как на пришельца, я был им чужак. И они естественно хотели поскорей сбыть меня с рук. Тем боле, что я был уже не вояка. Старшина торопился назад в своё хозяйство и я не стал задерживать старшину. В полк я не вернусь. Это понимали мы оба. Военврач Соболев сделал мне укол против столбняка и велел положить меня на санротовскую повозку. Чем собственно санитарная повозка отличалась от простой телеги? И у той и у этой колеса и колки приделаны жёстко. Мордастый, тот самый с наглым видом, придержал лошадь. Санитары осторожно переложили меня к нему в телегу. В тыловых подразделениях обычно цеплялись и застревали евреи, проходимцы и всякая мразь. Скромный, простой и совестливый человек прямым путем попадал в стрелковую роту, на передовую. В данный момент мне было не до философии и размышлений. Меня положили в телегу и я терпеливо ждал, когда повозочный размотает привязанные к березе вожжи, чмокнет губами и размашисто стеганет кобылку кнутом. Мордастый где-то ходил, а его тощая, привязанная к березе кобыла переступала с ноги на ногу. Она изредка фыркала, (только что пройдя длинный путь) и понимающе качала головой. Но вот, наконец, появился повозочный-санитар с кнутом за поясом и ковригой черного хлеба за пазухой. Он распутал длинные вожжи, поглубже засунул……буханку черного хлеба в шинель, дернул за вожжи, хлестнул кобылу кнутом по ребрам и присвистнул. Кобыла дернулась и телега покатила вперед. Повозочный погонял её всю дорогу не потому, что торопился доставить нас раненных побыстрее, а потому, что в небе появился немецкий самолет-разведчик, так называемый “костыль”. Дорога по которой снабжались полки и по которой в тыл эвакуировали раненных в светлое время была у немцев под наблюдением. Было раннее утро. Серый день надвигался помалу. За ночь сильно похолодало. Изрытая и избитая… дорога за ночь успела застыть. Все следы и отпечатки солдатских ног, глубокие борозды окованных железом колес, выбоины лошадиных копыт за ночь застыли, стали как камень тверды. Все сырое и хлипкое, что скользило и расплывалось под ногами и колесами, теперь было прочно и неподвижно сковано льдом. И лошадь как пьяный солдат тащилась по изрытой и бугристой дороге, кидаясь из стороны в сторону, шарахаясь по обочинам, она сама выбирала себе дорогу и с трудом тащила телегу вперед. Колеса с тупыми ударами прыгали и громыхали по застывшей земле. Телега при каждом ударе замирала, а нам казалось что она совсем остановилась. Но лошадь дергала и повозка с силой ударялась о новое препятствие. При каждом новом ударе в кровоточащих ранах что-то с невыносимой болью обрывалось. Вспухшее от удара мины тело каждый удар воспринимало как ковыряние в рваных кишках (и ранах ржавым гнутым гвоздем). Две пары колес, затянутых в железные обручи, беспрерывно прыгали, разрывая нестерпимой болью всё тело. Все трое раненных, лежавших в телеге, стонали и корчились от боли.
– Братишка, будь другом, придержи маленько!
– Брат милосердия, сжалься, сделай остановку, дай передохнуть, пощади!
– Ты слышишь или нет?
– Ты остановишь, сволочь? – закричал я. – Жалко нет пистолета, а то бы пристрелил я тебя.
– Гнида ты! Повозочный два раза останавливал свою телегу в кустах на короткое время (на всем промежутке пути).
Ой! Ох! – с облегчением вздыхали мы. Но как только мы кончали стонать, повозочный тут же трогал телегу. На него не действовали наши жалобы, стоны и крики. Он боялся, что вот-вот из облаков появится самолет. Не мог же он через каждую сотню метров останавливать лошадь и давать нам передых. Тут в небо гляди! – было написано на его лошадиной морде. Мы подпрыгивали лежа в телеге, бились о дощатые борта. Мы больше не умоляли и не просили, мы просто от бессилия и боли хрипели. Мы дергались вместе с телегой, корчились от боли, а ему было наплевать на нас. Лошадь-животное и то понимала, что тащит в телеге раненных, она знала где взять легонько на бугорок, где сойти под горку тихо. А то двуногое ничтожество с остервенением погоняло её кнутом(стегало), дергало длинными вожжами и опасливо посматривало на небо. Он и вожжи держал в натяг наискось и подальше от телеги. И вожжи у него были предусмотрительно длинные. Он явно боялся подходить близко к краю борта телеги. Эти раненные как одержимые. Подойди близко, вцепятся ногтями в горло. Стащат с загривка винтовку другой и расхлопают тут же в кустах за спасибо живешь. Скажут потом, что во время бомбежки убило. Потом ищи! Трупы на фронте не вскрывают. Будешь валяться в кустах. Ездить будут мимо. Закопать некому будет. Если бы у раненных в санроте не отбирали оружие, то многие из тыловиков получили бы пулю в живот. И сейчас иногда на дорогах находят сослуживцев мертвых с пулей в животе. Кто их казнит? Вот ведь несправедливость. А что поделаешь? Пойди узнай кто им пустил её? В санротах насчет оружия дело поставлено строго. Пока тебе делают перевязку обмундирование и твой вещмешок перетряхнут и прощупают по швам. Глядишь, потом чего-нибудь и не досчитаешься из личных вещей. Особенно добросовестно санитары чистили тяжелораненых. Тот на костылях может за свой мешок постоять. А этот не встанет, не побежит. Пока его на костыли поставят, он и знать не будет где и как это произошло.
18.
Таков приказ насчет проверки каждого, и этого требует высокое начальство. Но это несправедливо! Да, несправедливо! Но зато здорово! Во время громыхания и тряски телеги повозочный смотрит все ли живы, смотришь одного (двух лежачих) можно вывалить на обочине в кустах, не довозя до медсанбата. Этот теперь не будет кричать погоди. В телеге они сами отсортируются, только кобылу знай погоняй. Барахло раненного остается у повозочного. В вещмешке по дороге умершего иногда остаются трофейные вещицы, глядишь и часики попадуть. На телеге тому жить, кто выдержит тряску. А у кого не хватит сил – богу душу отдаст. Сколько раз по приезде в санбат с телеги снимали остывшие тела. И ни один из повозочных-санитаров не получил за это награды. Вот что обидно. Одни в стрелковых ротах воюют, а другие с телег сбрасывают умерших, которых с трудом и с новыми потерями ночью удалось вынести с поля боя. Они умирают от тряски в вонючей телеге, а эти с кнутами за голенищем по сей день считаются ветеранами войны. Стрелять надо такого брата-милосердия, в расход по дороге пускать. Когда меня в медсанбате меня стали резать без всякого наркоза, т.е. без замораживания, как мы тогда называли, то боли от лезвия ножа и чистка ран по сравнению с муками в телеге показались мне детской забавой. Хотя во время операции я стонал и ругался.
– Ты ругайся, ругайся! – приговаривала хирург. – Ещё два разреза и закончим операцию. Когда закончилась операция я попросил попить. Меня вынесли из операционной, положили куда-то и я тут же заснул. Отек от удара мины стал распространяться везде. Лицо всё разбухло, левый глаз заплыл. Разведчики, кто ходил на костылях, прошли мимо и меня не узнали. Только на лице у меня было наложено несколько повязок. Глаз, подбородок, бровь и шея под скулой.
Все эти моменты (о которых я здесь пишу) имеют (официальное) медицинское подтверждение. Достаточно запросить центральный медицинский музей. Вспоминаю как в эвакокарте было записано: – множественное осколочное ранение лица, груди, живота, рук, правого бедра, правой и левой голени и коленного сустава. В карте было указано ещё одно место. В общем, как потом выяснилось,(произошло обрезание) в результате ранения на поверхности осталось три рубца слева, вверх, направо, как в стволе боевой винтовки образца 1861 г. системы Мосина. Вот так гвардейцы разведчики получали свои раны. Вот как их замотанными бинтами волокли по дороге в медсанбат. В полусонном состоянии меня погрузили в машину и повезли в Лиозно. По дороге я открыл глаза и увидел, что мы лежим в открытом кузове полуторке. Где-то впереди бомбили дорогу.
– Чего встали? – спросил я у сидевшего у борта солдата с перевязанной рукой.
– Впереди мост. Машины под бомбежку попали. Шофер вылез из кабины и с подножки смотрит кругом. – ответил солдат. Потом хлопнула дверца, машина съехала на обочину и стала за кустом. Я повертел головой. В кузове лежало и сидело несколько раненных. Наших ребят среди них не было. Солдаты, сидевшие по бортам, были ходячие. Один из них поднялся на ноги, перевалился через борт и спустился на землю. Впереди, совсем близко прогремели раскаты взрывов. Четверо солдат, сидевших у борта, поспешили покинуть машину. Шофер и фельдшер хлопнули дверцей и побежали в кусты. Мы трое остались лежать в кузове. Послышался гул самолета. Где-то слева и спереди ударили бомбы. Поднятая взрывами земля кусками стала шлепаться в кузов. Мы лежали, смотрели прямо в небо и естественно не видели где находился и куда заходил на бомбежку немецкий самолет. А когда ничего не видать и слышать, что взрывы приближаются к тебе, а ты не можешь шевельнуться, становится особенно не по себе. То что тебя бросили и убежали, это по делу, спасайся кто может. На это обижаться не приходится.
20.
Обидно, что тебя обмотали бинтами, есть надежда остаться в живых, а ты лежишь и ничего не видишь, что делается вокруг. Лежишь и ждешь следующего удара, когда самолет заревет на вираже. Час два пролежали мы в кузове, ожидая что вот-вот в кузов посыпятся бомбы. Стало темнеть. Гул самолетов утих. Взрывов было не слышно. Шофер видно вернулся. Я услышал звук хлопнувшей кабины и разговор двух людей. Вернулись и солдаты.
– Нужно определить откуда ветер дует. – сказал фельдшер.
– А тебе это на што?
– Будем здесь ночевать. Мне и в голову не пришло, зачем вдруг шоферу нужно знать направление ветра.
– Дело к ночи. Уже темнеет. (Может придется здесь заночевать) Мост впереди разбит. Сейчас выедем на дорогу. Глушить машину не буду. Пойду вперед объезд искать. Нужно чтобы лобовым стеклом машина встала к ветру. А то выхлопными газами потравим раненных в кузове что лежат. Солдат, сидевший у борта, перекинул ногу через борт и легко соскочил с машины. У него была перевязана рука в локте. Но солдат не пошел вместе с шофером осматривать мост и искать объезд. Среди ходячих раненных, укрытый плащ-палаткой накидкой оказался заболевший чем-то майор. Я вначале думал, что он солдат. Погоны были закрыты плащ-накидкой. Он перелез через борт, подошел к кабине машины открыл дверцу со стороны фельдшера и сказал:
– Ты вот что фельдшер – сказал он наотрыв каждое слово.
– Шел бы ты наверх к раненным, а я здесь посижу! Неудобно все-таки, старший по званию у борта торчит. Ты посиди наверху, а я пережду ночь в кабине! Фельдшер вздохнул, сполз вниз с мягкого сиденья, похлопал руками себя по бокам и подался к раненным в кузов. Сидя не очень удобно спать, но зато в кабине было тепло. Работающий мотор на малых оборотах все время подогревал воздух внутри кабины. У нас в открытом кузове гулял ночной, холодный ветер. Я лежал в бинтах, укрытый своей короткой шинелей. Днем в апреле заметно припекает. Зато ночью остывает земля. Все кругом покрывается твердой коркой льда и тонким налетом белого инея.
Холодный и резкий ветер постепенно добирается до костей. Сырые бинты пропитанные кровью быстро холодеют. Раны правда перестают ныть и болеть, а под носом набирается мокрота. Вертишь, вертишь головой, умудряешься как-то вытряхнуть из-под носа. В машине быстро все заснули. Те, что забрались в кабину, им было душно и тепло, а те что лежали наверху, в открытом кузове, дышали свежим и чистым воздухом. Ветер вначале дул в лобовое стекло и отработавшие газы уходили по ветру под кузов. Мы, оставшиеся наверху, не чувствовали ни запаха бензина, ни гари. Но к середине ночи ветер вдруг затих и переменил направление и стал дуть в обратную сторону. Лежащим в кузове по прежнему было по свежо и холодно, а закрытая кабина оказалась в потоке выхлопных газов. Фельдшер, перед тем как забраться в кузов машины, нарубил свежего лапника рядом в лесу и укрыл им лежащих в машине раненных, лег у борта у нас в ногах и заснул. Мы лежали рядком, свежий ветер обдувал наши лица. Под лапником он не задувал и нам вскоре стало тепло и тихо. Ночь в апреле длится считай с днем пополам. Весеннее равноденствие делит сутки на равные части. На рассвете на дороге сзади послышались гудки и ворчание мотора. Мы несколько оживились. По дороге к нам сзади подкатила еще одна машина. Фельдшер встал и пошел к кабине будить старшего по званию и шофера. Он взялся за ручку и потянул её на себя. Дверца открылась и майор вывалился ему на руки мертвым. Мотор нашей машины тихо постукивал клапанами на малом ходу. Сидевшие в кабине шофер и старший по званию отравились угарным газом. Тело майора вынули из кабины. Фельдшер его даже мертвого, как старшего по званию заботливо поддержал руками, чтобы усопший не ударился головой о железный край. Вот вам и история со старшим по званию. Кому повезло? Один устроился в тепле, а другой на ветру (и его кусала ночная прохлада). Как мы поехали дальше, остальной участок пути, я не помню, потому что я тут же заснул и проснулся когда у полуторки откинули борта и меня стали перекидывать на носилки.
22.
Меня в начале поместили в предвариловку(, где меня нужно было кое где побрить).Свободные от бинтов места протерли тампоном. В палату на чистую койку и в чистую постель я потом после операции попаду. Избу, где я лежал, сотрясало от взрывов во время бомбежки. За мной пришли два санитара солдата из числа раненных на передовой. Они выздоравливали и были оставлены при госпитале в качестве санитаров.
– Полковник медслужбы приказал вас в операционную срочно нести! – сообщили они.
– Валяйте, тащите ребята!
– Вы оказывается товарищ капитан разговорчивый, а нам сказали без сознания, тяжелый! Меня положили на носилки и легонько покачивая понесли в операционную.
– Кладите сюда – сказал надевая халат пожилой хирург.
– Когда ранен? – спросил он меня.
– Два дня назад! – ответил я.
– Кладите сюда, на этот стол! Под меня подсунули руки, я перевалился на стол сначала набок, потом на спину. Хирург подошел ко мне и стал меня ощупывать.
– Газы отходят?
– Какие газы? Я газами не дышал!
– Ты бздишь?
– А чего мне бояться?
– Не бояться. Ты пердишь? Газы из задницы идут?
– Идут!
– Вот и молодец! В этом случае действительно нечего бояться.
– У меня заражение? Он улыбнулся, покашлял, похлопал меня по животу
– Так я и думал! Молодец, капитан, что газы идут! Он прощупал мне живот и добавил:
– У тебя осколком кишечник не задело. В это время в операционную вошла женщина и наклонившись что-то быстро сказала хирургу. Он скинул марлевую повязку с лица и вышел из операционной. Я лежал голый в бинтах на столе в небольшом углублении на желтой клеёнке. Края стола несколько приподняты, что бы раненный не упал.
Стол не стол, а одинарное узкое лежачее место. Вошел старик хирург. Размотали мне правую ногу и он стал ощупывать коленный сустав.
– Здесь болит? А так? Чуть согни! Пришел молодой врач и что-то стал докладывать полковнику.
– Я пойду сам посмотрю! Ты капитан лежи, привыкай к нашей обстановке! – уходя сказал полковник скороговоркой.
Полковник и молодой вместе ушли, у противоположной стены, параллельно моему столу, стоял ещё один хирургический стол. На столе под наркозом лежал голый раненный. Лица и груди его было не видно, вся эта верхняя часть была прикрыта простыней. Тело ниже пояса и ноги были голые. Одна нога была выше колен ампутирована и была замотана окровавленными бинтами, а на другой выше коленного сустава санитар поперечной пилой отпиливал кость. Кровавые ломти мяса на бедрах были освобождены от кости и подтянуты вверх к животу. Санитар одной рукой обхватил обнаженную кость, а другой с усилием нажимал на пилу. Санитар тянет пилу к себе и толкает её от себя. Тело солдата податливо переваливается за пилой. Санитар явно устал. Сделав перерыв он вышел за простынную перегородку, встал неподвижно и смотрит в окно. Обрубки ног и обнаженное мясо человека лежат в луже крови. От потери такого количества крови солдат не умрет. Здесь всё рассчитано и учтено. Иначе зачем бы ампутация обеих ног, с ним не стали бы возиться ради интереса. Тело лежало в луже собственной крови. Санитар вернулся и взялся за пилу. У санитара на груди клеёнчатый фартук измазанный кровью. Он ниже колен и по бокам на завязках. Руки у костолома голые и волосатые до локтей. На руках надеты перчатки, на лице марлевая повязка, забрызганная солдатской кровью. Я лежал на спине, повернув голову на бок, смотрел на работу санитара и привыкал к обстановке.
24.
Низкий потолок избы был оббит планками и обтянут белыми простынями, чтобы сверху не сыпалась земля, пыль и песок. Дневной свет шел с улицы из большого окна, оконную раму наверное возили с собою, вырезали пилами стену и вставляли её туда.
– Ну как капитан? Маленько привык? – спросил меня хирург полковник, входя в операционную.
– Ну и работа у вас! – сказал я вместо ответа. – Меня вы тоже под наркозом разделаете?
– Не бойся капитан! Ноги тебе отрезать не будем. Почистим коленный сустав, останешься на своих ногах. Температуры у тебя нет, всё обойдется.
– Смотря как дело обернётся? – настаивал я.
– Нет! Нет! Без лукавых! Если обнаружим гангрену, скажем! Ничего таить не будем. Без твоего согласия ничего ампутировать не будем. На этот счет можешь быть спокоен и верить мне!
– Вот видишь рядом лежит солдат. Он дал нам на ампутацию письменное согласие. Обещаю и с тебя взять такую расписку, если надобность будет. Но лучше до неё не доводить. Будь спокоен, капитан. Твое колено возможно дело непростое. Сейчас разрежем, посмотрим. Постараемся его сохранить.
– Приготовиться к операции!
В операционной сразу появилось несколько человек. Мне накинули на лицо марлевую повязку и стали лить неприятную по запаху жидкость. Мне велели считать в слух до двадцати. Я успел досчитать до шестнадцати и провалился куда-то. Какая-то неприятная тошнота подкатила мне к голове. Открыл я глаза на операционном столе, после перевязки. Меня вынесли в общую палату, положили на белую простынь, под головой лежала ватная подушка в белой наволочке. Меня накрыли сверху чистой простыней и серым солдатским одеялом. Ко мне приставили палатную сестру и приказали не давать мне спать до вечера. А мне очень хотелось закрыть единственный глаз, повернуться на бок, я отлежал за эти дни себе спину. Меня страшно тянуло в сон, а сестра трясла меня за здоровое левое плечо и задавала какие-то вопросы.
Я ей что-то ненужное отвечал, но что именно совершенно не помню. Мне ставили градусники, проверяли температуру. Меня покормили из ложки, а потом я из кувшинчика с узким горлом выпил сладкий чай. Потом меня оставили наконец в покое и я тут же уснул. Проснулся я на третий день.
– Ну ты и даешь! Капитан! – увидев что я приподнял голову сказал кто-то из раненных.
– Полковник сам приходил много раз, щупал пульс и смотрел как ты спишь. Пусть, говорит, разведчик поспит. Видно на фронте (этим не очень балуют) им спать не дают. Я попросил воды.
– Лежи, сейчас вызовем дежурную медсестру. На третий день меня взяли на перевязку. Я пролежал в госпитале ещё несколько дней. Моя кровать изголовьем стояла у окна. На окне и на спинках кровати висели крахмальные занавески. Они подкрашены зеленкой в салатный цвет. Сшиты из простыней, простенькие, но красивые. Мы лежали в обыкновенной, деревенской избе. В избе стояло около шести железных коек. На всех лежали забинтованные раненные. Кто они были я не спрашивал. Немцы кругом бомбили, раскаты взрывов слышались периодически повсюду. Иногда бомбы рвались где-то совсем близко и тогда изба дрожала, но окна были целы. Однажды палатная сестра принесла мой планшет и сказала: – Ваши документы лежат здесь в планшете. Проверте пожалуйста все ли на месте. Я взял из рук её планшет, покопался в нем одной рукой, попалась фотография, я вынул её и показал медсестре. Она взяла фотографию и покачало головой. – Совсем не похож. Она принесла зеркало и поднесла мне к лицу.
– Вот ваша фотография и ваше лицо. Посмотрите сами. Похожи вы или нет! Лицо моё было раздуто и на себя самого я был непохож. Да здорово мне разворотило физиономию. Я сам себя в зеркало не узнаю. Через несколько дней меня погрузили в санпоезд. И мы в темноте покатили в Смоленск. Меня переложили как замотанное бинтами бревно. К этому времени я уже мог приподниматься на одном локте. Правая рука у меня хоть и была забинтована, но я мог держать ложку и курить, если мне кто из ходячих солдат сворачивал из газетной бумаги закрутку (и своей слюной заклеивал её край).
26.
Кормили нас в санитарном поезде лучше чем госпитале. От Лиозно до Смоленска не так много километров, а ехали мы (встали под разгрузку ровно через)целые сутки. Санитарные поезда отличались от госпиталей образцовым порядком, дисциплиной медперсонала и чистотой. Вероятно в госпиталях от нашего брата тащили больше. А здесь в санпоездах везли только с тяжелыми ранами. В эвакогоспиталях лежали всякого вида и рода раненные (солдаты и младшие офицеры). Многие были ходячие лежали на долечивании. Другие подлежали выписке и отправке на фронт. В каждом госпитале были свои порядки. В кирпичном здании смоленского эвакогоспиталя, что на Павловской горке стоял, был какой-то особый больнично-затухлый, выворачивающий всё нутро запах. Здесь лежали разные раненные, в том числе и не транспортабельные. Потом к этому духу мы постепенно принюхались и привыкли. В офицерской палате, где меня положили, находилось трое лежачих и двое ходячих больных. Молодой лейтенант с перебитой рукой. Он вертел ей вокруг перелома, так что локоть оказывался впереди (и был согнут наоборот). В первый момент было страшно смотреть как рука у человека и локоть могут быть согнуты. Но он всё это делал легко, непринужденно и безболезненно. Он театрально морщился, охал и звал сестру на помощь. Медсестра прибегала и стояла сложив у подбородка руки, не зная что делать. Он обнимал её здоровой рукой и переворачивал обратно вывернутую руку. Другой офицер, кажется в звании майора, лежал напротив меня в темном углу. Его раздражал дневной свет и он с утра до вечера стонал и метался. У него был поврежден позвоночник. Он лежал на голой широкой деревянной доске, сверху накрытый простынью и одеялом. На спине и на ягодицах у него были пролежни. Он стонал тихо и всё время вертел головой. Он действовал нам на нервы, не давал заснуть и будил нас по ночам. Мы стали просить палатного врача перевести нас куда угодно, хоть в коридор или на улицу.
У третьего, который не ходил, от пояса до колен был наложен гипсовый корсет. Хотя от болей в ранах он не кричал, но иногда на него находил психоз, он начинал метаться и плакал. Дело в том, что у него под гипсом ползали вши. Я рассказывал раньше об этом случае(когда описывал игру на вшей). Думаю, что повторяться не следует. Светлая память нашему химику он один мог украсить нашу жизнь в беспросветное время кровавой войны. Молодой парнишка, лейтенант мучился от них и страдал.
22.02.1980
* * *
??.??.2007
Начало 20-го века в России, это время смуты. Первая мировая война, революция, гражданская война, репрессии, голод, разруха, нищета, безработица и т.д.
Вспомнает младший брат автора:
Рассказывая о брате Саше, я немогу не сказать о самых близких для меня людях, хотя бы даже и очень кратко.

Жили мы в Москве на улице Большая Переяславская в деревянном двухэтажном доме барачного типа. Наш папа, Шумилин Илья…, вернулся с первой мировой войны инвалидом, хлебнувшим немецких газов. Во время НЭПа был безработным. Он умер в 1933 году, когда мне исполнилось 2 года и 4 месяца, моей сестре Люсе было 6 лет, а брату Саше 12 лет. Наша мама, Шумилина Федосья Никитична, была полуграмотная. Работала санитаркой в больнице, потом медсестрой в поликлинике. После смерти отца, ей предложили двоих из нас отдать в детский дом, но мама сказала нет – "Какой палец ни отреж, всё равно больно!". Чтобы все мы были на глазах у мамы и не стали беспризорниками, она оставила работу в поликлинике и стала надомницей: вязала кофточки, свитера, шарфы, сети и вуали. Вскоре, то дезентирии чуть не умер и я. Мы жили очень бедно, точнее, в нищите. Вечерами, когда вся семья собиралась вместе, мама работала, а сестра и старший брат помогали ей. Мы, как могли, утешали её. Саша говорил – "мама, когда я пойду работать, куплю тебе красивое польто". Люся говорила – "мама, а когда я вырасту и пойду работать, куплю тебе самую красивую шляпу". А я говорил – "мама, когда я вырасту большой, то куплю тебе целую буханку черного хлеба". Детство наше было не сытым. Когда это было