Книга: Зеркало для наблюдателей

ЗЕРКАЛО ДЛЯ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ
A Mirror for Observers
Джону В. Падовано.
Внимание: все герои этого романа являются вымышленными, кроме, возможно, марсиан.
…Но заметил я, что даже искусные ремесленники заблуждаются не хуже поэтов. Поскольку они хорошо знали свое дело, они считали, что знают и все виды высоких материй, и этот недостаток затмил их здравый смысл. А потому от имени оракула я спросил себя: хотел ли я быть таким, как я — не имеющий ни их знания, ни их невежества, — или таким, как они
— имеющие и то, и другое? И ответил я себе и оракулу, что я богаче таков, каков есть.

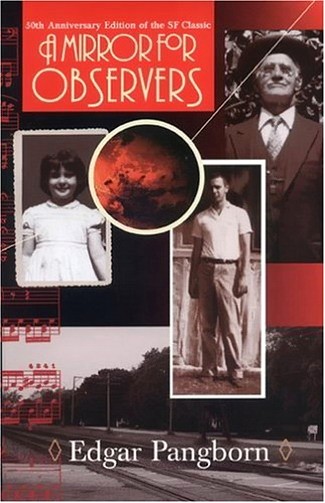
Офис Руководителя Североамериканских миссий представляет собой залитой голубым светом помещение. Находится офис в Северном Городе, который, в свою очередь, расположен двумястами сорока шестью футами ниже поверхности тундры на северо-западе Канады. Здесь до сих пор есть наземный вход, существующий уже несколько тысяч лет. Впрочем, если климат будет меняться нынешними темпами, от наземного входа придется отказаться еще в этом веке. Среди беспорядочно разбросанных валунов вход кажется обычной медвежьей берлогой. И, если вы не сальваянин, или не марсианин, говоря человеческим языком, — вы никогда не сумеете воспользоваться лифтом, расположенным, в этой берлоге. Лифт замаскирован сдвигающимся в сторону камнем, а камень придет в движение только в том случае, если электронный замок среагирует на определенную фразу, произнесенную по-сальваянски. К тому же, код периодически меняется.
Отказник Намир не был осведомлен об этом нововведении, и его настроение быстро испортилось. В самом деле, попробуйте-ка проторчать, трясясь от холода, несколько дней в медвежьей берлоге, дожидаясь, пока не появиться возвращающийся с миссии законный резидент и с обычной учтивостью не проводит вас в офис Руководителя.
Впрочем, так, в конце концов, и случилось.
Руководитель миссий Дрозма, едва увидев Намира, тут же спросил:
— Почему вы здесь?
— По закону от 27140 года, — сказал Отказник.
— Ага, — согласился Дрозма и позвонил, чтобы принесли прохладительные напитки.
Столетие назад Дрозма принес бы забродивший грибной настой и сам, но теперь он был болезненно стар и мучительно толст, а потому имел право на соответствующее обслуживание. Ему было уже более шести веков — возраст, которым могут похвастать немногие из марсиан. Дрозма родился в 1327 году по западному человеческому календарю — в том самом году, который видел смерть Эдуарда II Английского,[1] тринадцатью годами ранее выступившего против Роберта Брюса[2] в Браннокберне и кровью заплатившего за это. На морщинистой коже Дрозмы до сих пор были заметны рубцы — результат хирургической операции, которая более пяти веков назад сделала его физиономию достаточно похожей на человеческое лицо. Свое первое задание, связанное с человеческим обществом, он получил в 1471 (30471) году, обретя статус квалифицированного Наблюдателя во время войны Йорков с Ланкастерами.[3] Позднее он изучал жизнь трех южно-американских племен, и по сей день неведомых человеческой антропологии. В 30854 году он завершил «Историю тасманийцев», до сих пор являющуюся признанным марсианским научным трудом.
Однако теперь все его задания были уже в прошлом. По-видимому, он никогда больше не покинет свой офис, пока не отправится в последний путь. Помимо Руководителя миссий, он был так же Советником Северного Города, несущим ответственность перед несколькими сотнями его граждан и — после них — перед Верховным Советом, резиденция которого расположена в Старом Городе, на африканском континенте. Дрозма тащил груз оказанной ему чести с легкостью, а ведь во всем мире было всего лишь три подобных ему Советника — в Азия-Центре, в Олимпе и в самом Старом Городе. Еще совсем недавно Городов было пять. Мы не забудем Город Океанов… Впрочем, лучше думать о будущем или о глубоком прошлом…
В скором времени преемник снимет с Дрозмы его тяжелое бремя. Между тем, мысли Руководителя по-прежнему кристально-чисты и спокойны, словно каналы, вьющиеся в Нижних Залах Земли.
Отказник Намир молча смотрел, как Дрозма ласкает маленького орка, свернувшегося в клубок на коленях Советника. Орки — единственные животные, сумевшие перенести тридцать тысяч лет назад наш исход с медленно умирающего Марса. Зверек замурлыкал, облизал розовый мех, умыл мордочку и снова заснул.
— Недавно мы говорили о вас, Намир.
— Я знаю.
Отказник сел и взял напиток. Несмотря на возраст, в движениях и жестах его все еще сохранилось изящество. Дождавшись, когда улыбающаяся и суетящаяся девушка, принесшая напитки, поправит подушку Дрозмы и удалится, Намир продолжил:
— Один из ваших Наблюдателей узнал меня. Отчасти поэтому я и явился. Предупреждаю: не мешайте мне.
— Серьезно? Мы не боимся вас, Отказников. Я ценю доклады Кайны — она способный Наблюдатель.
Намир зевнул:
— В самом деле? Она упоминала Анжело Понтевеччио?
— Конечно.
— Надеюсь, вы не вообразили будто можете что-нибудь сделать с этим мальчиком?
— Во всяком случае, полученные сведения нас чрезвычайно заинтересовали.
— Ха! Это человеческий ребенок, а значит, потенциально испорченный. — Намир достал из кармана изготовленной людьми одежды изготовленные людьми сигареты и закурил. — Он разделяет мнение, что жизнь такова, как ее характеризует все эти человекообразные скоты, — отвратительна, груба и коротка.
— Оказывается, вы явились сюда с целью выразить недовольство человечеством.
Намир рассмеялся:
— Напротив, я испытываю жалость к этим тварям, но сама по себе жалость — не более чем скука. — Он небрежно перешел на английский. — Нет, Дрозма, я просто заглянул поздороваться.
— Через сто тридцать четыре года! Я с трудом…
— Так долго?.. Правильно, я же ушел в тридцать тысяч восемьсот двадцать девятом.
— Вижу, кое-какие человеческие манеры вы уже переняли.
— Я перебил вас… Прошу прощения! Пожалуйста, сэр, продолжайте.
Дрозма сложил реки на животе и углубился в размышления. Минут через пятнадцать он, усмехнувшись произнес:
— Вам не надоело общество других Отказников?
— Нет. Отказников мало. Я редко вижу их.
— Скажите как сальваянин сальваянину… Чем вы хоть занимаетесь?
— Болтаюсь по миру. Я стал асом маскировки. И если бы не израсходовал дистроер[4] запаха, ваша Кайна никогда бы не могла подслушать мой разговор с мальчишкой Понтевеччио.
— По закону от 27140 года сальваяне, живущие в городах, не имеют права предоставлять помощь Отказникам.
— Ну, Дрозма… — Намир развел руками. — Вы зря принимаете мои слова за намек на то, что я хотел бы получить от вас дистроер. Мне совсем не трудно избежать встреч с лошадьми: они стали редки в наше время… Как странно, ведь ни одно другое животное не обращает внимания на запах марсианина… — Намир взглянул на Руководителя миссий и поправился: — Сальваянина… Вы все еще предпочитаете древнее название? Даже говоря на английском? — Он удивительно замолчал, но, не дождавшись ответа, продолжил: — Должно быть, тяжело приходилось нашим в те времена, когда еще не был изобретен дистроер. Думаю, пять тысяч лет назад стоило бы организовать лошадиную эпидемию и навсегда избавиться от этих чертовых животных… Впрочем, мне они не мешают, а потому, если я и нуждаюсь в дистроере, то только для того, чтобы пореже встречаться с вашими Наблюдателями.
Дрозма, не сумев скрыть отвращения, поморщился:
— Я начинаю понимать, почему вы отказались от должности. Думаю, за всю вашу жизнь вы так и не научились терпению.
— Терпение — наркотик для слабых. У меня ровно столько терпения, сколько мне требуется.
— Если у вас его достаточно, вам не к лицу возмущаться людьми. И давайте не будем продолжать спор — мы все равно не придем к общему мнению… Я спрашиваю еще раз: зачем вы явились сюда?
Намир стряхнул пепел на мозаичный пол.
— Я хотел выяснить одну вещь… Скажите, вы по-прежнему считаете, что человеческие существа могут когда-нибудь чего-нибудь достичь?
— Да, мы так считаем.
— Понимаю… Даже после потери Города Океанов?
— Не надо о Городе Океанов, Намир. Хотя бы из уважения ко мне. — Дрозма помолчал. — Чего вы пытались добиться своей отставкой, Намир?
— Добиться? — Отказник выглядел удивленным. — Впрочем, ладно… Ну, хотя бы удовольствия, которое получает зритель. Разве не интересно наблюдать за беднягами, своими руками плетущими веревку для собственного повешения?!
— Не думаю, чтобы это было правдой. Такая причина не вынудила бы вас повернуть против нас.
— Я не против вас лично, — ответил Намир и вернулся к предыдущей мысли: — Я думал, они надели петлю на свою шею еще в девятьсот сорок пятом году, но они до сих пор не повесились.
— Устали, наверное, ждать-то, Намир?
— Да-а-а… Но даже если я не доживу до их конца, сын мой обязательно доживет.
— Сын?.. Кто ваша сальваянская жена, можно узнать?
— У меня нет жены, Дрозма. Она умерла во время родов, сорок два года назад. Ее звали Аджона. Она подала в отставку в семьсот девяностом, но продолжала страдать болезнью, называемой «идеализм», пока я ее не вылечил. К сожалению, мне удалось это сделать лишь частично… — Намир вздохнул на человеческий манер. — Мальчику уже сорок два года, почти взрослый. И потому вы понимаете, что моя надежда засвидетельствовать конец Homo quasi-sapiens зиждется хотя бы на родительских интересах… Кстати, могу я поинтересоваться текущими данными о населении?
— Около двух тысяч, Намир.
— Во всех… э-э… четырех Городах?
— Да.
— Гм… Побольше, конечно, чем наши несколько дюжин просвещенных. Впрочем, ваша цифра вполне может оказаться неверной — вы ведь фантазеры.
— А когда люди исчезнут, вы собираетесь восстанавливать население из нескольких дюжин, Намир?
— Не думаю, чтобы они исчезли полностью. Их чертовски много, Дрозма.
— И у вас есть планы по использованию выживших?
— Ну, старина, я не считаю возможным знакомить вас с нашими планами.
— Закон от двадцать семь тысяч сто сорокового года…
— …есть шаблонное выражение сальваянского благочестия, — Намир усмехнулся. — Вы не можете использовать против нас этот закон. В конце концов, у нас тоже имеется оружие. Думаю, с небольшой посторонней помощью люди вполне могли бы обнаружить… оставшиеся Города.
— Неужели вы способны предать ваш собственный род?!
Намир молчал.
— Значит, вы считаете Отказников особо просвещенными? — спросил Дрозма после некоторой паузы.
— Да! Благодаря страданиям, скуке, наблюдениями, разочарованиями, истинным контактам… Что может быть более поучительным, чем потери, одиночество и утрата надежды? Спросите хотя бы двенадцатилетнего Анжело Понтевеччио. Он обожал своего умершего отца, ему не с кем общаться, детство он провел в клетке, оторванный от жизни, но тем не менее он вполне образован. Конечно, пока он неуправляемый котенок, котенок в волчьих джунглях. И волки дадут его образованию другое направление.
— Любовь, если вы простите мне подобный оборот речи, более способствует образованности.
— Я никогда не соглашусь с этим. Я видел, какими идиотами становятся влюбленные человеческие существа. Главным образом они, конечно, влюблены в себя, но их не красит и любовь к работе или идеям. Как и любовь к друзьям, лицам противоположного пола, родителям и детям. Вряд ли найдется человеческая иллюзия более комичная, чем любовь.
— Вот как? — сказал Дрозма. — А могу я поинтересоваться, что вы еще делали снаружи?
Намир отвернулся:
— До сих пор наблюдал. По-своему…
— Как вы могли наблюдать, заболев такой ненавистью?
— Я проницательный наблюдатель, Дрозма!
— Вы путаете проницательность с тщательностью. Если сидящий за микроскопом забудет об относительности размеров, он вполне может принять амебу за слона… Коли мне не изменяет память, впервые после отставки вы были замечены нами в восемьсот девяносто шестом на Филиппинах.
— Был замечен? — Намир усмехнулся. — Не знал об этом. У вас повсюду глаза!
— Нам сообщили, что вы обрабатывали испанцев. В Маниле, через день или сразу после убийства Хосе Рисаля.[5] Его смерть — тоже ваших рук дело?
— Скромность украшает мужчину. — Намир снова усмехнулся. — Нет, правда, его убили сами люди. Они прекрасно справились и без меня. Рисаль был идеалистом, а значит, изначально обречен. Его убийство — чисто рефлекторная акция для людей.
— У других идеалистов… Впрочем, полагаю, не хватит и вечности чтобы переспорить вас. Неужели вы не можете сказать о человечестве ни одного доброго слова?
Намир только улыбнулся. Дрозма внимательно посмотрел на него и спросил:
— И даже для Анжело Понтевеччио у вас не найдется добрых слов?
— Вы и в самом деле заинтересовались этим ребенком?! Смех да и только!.. Я уже сказал, он всего лишь котенок. Но я сделаю из него тигра. И ваши прелестные мечты будут погребены под телами захлебывающихся кровью агнцев.
— Вряд ли. — А хотите пари?
Дрозма потянулся к примитивному телефону устаревшей конструкции:
— Как вам угодно! У вас нет шансов на победу. Даже если я пошлю другого Наблюдателя. — Он покрутил ручку. — Не имеет значения, кого я пошлю, Намир. Вам предстоит борьба не с Наблюдателем. И не со мной. Ваш реальный противник — сам Анжело.
— Конечно-конечно… Ну и телефончик! Такие войдут в моду не ранее, чем на следующей неделе!
— Мы изобрели телефон всего лишь в прошлом веке, в восемьсот тридцать четвертом, — заметил Дрозма. — Когда Белл независимо от нас придумал эту чепуховину в восемьсот семьдесят шестом, он не остановился на достигнутом. А его преемники пошли еще дальше. К счастью, мы не нуждаемся во всех этих излишествах, наш девиз — простота. Тем не менее, нам пришлось ждать, пока люди проведут свои линии к северу от Виннипега. В результате у нас появилась возможность говорить с другими нашими Городами. Теперь даже вы можете позвонить нам… э-э… неофициальным порядком. У нас есть постоянно живущий в Торонто Коммуникатор, но, к сожалению, я лишен возможности назвать вам его имя. Алло!.. Алло!..
Намир хихикнул. Дрозма посетовал:
— По-видимому, оператор в созерцании. Впрочем, неважно. Я всегда могу позвонить еще раз. Вы знаете, Намир, я завел это… э-э… хитроумное устройство только потому, что мне стало тяжеловато прогуливаться. Я ведь не люблю такие вещи. Я… Алло!.. Наконец-то!.. Спасибо, любезный, храни вас закон! Если у вас есть время, не могли бы вы передать, что я хочу видеть Элмиса?.. Да, историк. Он, вероятно, в библиотеке или еще в музыкальном кабинете. Я не помню, закончилось ли уже его время занятий музыкой… Спасибо дорогой! — Дрозма осторожно положил пухлыми пальцами трубку на место и неодобрительно произнес: — Хитроумное устройство!..
— Вряд ли удастся дождаться, пока вы дорастете до радио.
— Радио? — Дрозма добродушно улыбнулся. — Почему же? У нас есть отличные приемники с тех пор, как человеческие существа изобрели их. Конечно, мы не имеем права транслировать радиопередачи, но вполне можем слушать их… Кстати, неужели вы забыли нашу историю? Ведь радио было известно на Сальвае. Оно было одним из тех маленьких технических приспособлений, от которых наши предки отказались — я думаю, вследствие отсутствия в них существенной надобности в первые века, проведенные на этой убогой планете. Вы никогда не задумывались о тех временах, Намир?.. Потрясение, одиночество, отсутствие всякой надежды на возвращение… Даже если бы Сальвай не был гибнущей планетой. Исключение составили лишь амураи, отгородившиеся от здешнего мира стенами своих подземелий. Мы же отвергли подземную жизнь, хотя в конце концов и нам пришлось согласиться на нее. А каким тяжким испытанием стала адаптация! История рассказывает, что до первых успешных родов прошли две сотни лет, да и после этого матери чаще всего умирали. Это была эпоха великих испытаний!
— У истории мертвый язык, Дрозма.
— Не могу согласиться с вами. Ну да ладно, наши математики изучают человеческое радиовещание. Математика выше моего понимания, но я уверен, что радио — чрезвычайное благо.
— Такое же благо, как рвотное. Пока мы ждем вашего неторопливого оператора, вас не заинтересует мой совет?
— Конечно. Телевидение — тоже благо. Черт возьми, я без ума от телевидения!.. Вы собрались что-то сказать?
— Направляясь сюда, я посетил шесть поселений северной Манитобы и округа Киватин. Поселения появились уже после того, как я был в этих местах в последний раз, то есть позже девятьсот двадцатого года. Все это время ледяной купол тает. Вы теряете арктический щит. Меня эта информация не касается, но, думаю, вам она покажется интересной.
— Спасибо. Наши Наблюдатели следят за процессом изменения климата. Сооружение водного шлюза будет закончено раньше, чем мы окажемся перед необходимостью ликвидации наземного входа. Кстати, вам известно, что земная химическая промышленность почти готова к производству целых поселений типа оранжерей? Их размеры обуславливаются исключительно соображениями удобства. Так что через несколько десятилетий по всей Арктике возникнут целые поселки, практически не зависящие от климата. А через век население Канады, возможно, превысит население Штатов, если к тому времени оба государства не станут единой страной. Лично я этому рад… Входите, Элмис!
Элмис оказался длинноногим, стройным и сильным. Цветом кожи он был очень похож на представителя земной белой расы. Давняя хирургическая операция сделала его лицо и руки абсолютно человеческими. Каштановые волосы и искусственный пятый палец на руках за двести лет стали неотъемлемой частью его тела. А четырехпалые ноги — если бы ему пришлось оказаться босым — скорее всего были бы восприняты людьми как редкое, но вполне возможное уродство.
— Элмис! — сказал Дрозма. — Я сожалею, но приходится отрывать вас от работы, которая вам так нравится. Я знаю, что вы не собирались впредь покидать Город в качестве Наблюдателя. Однако ваша квалификация выше, чем у кого бы то ни было, и я не могу поступить иначе… Это Отказник Намир.
Элмис сказал по-английски:
— Мне кажется, я помню вас.
Голос его был неотличим от человеческого.
Намир рассеянно кивнул.
— Вы вернулись к нам? — спросил Элмис.
— С чего вы взяли! Я просто проходил мимо и должен следовать дальше. Так, причуда… — Намир повернулся к старику. — Кстати, Дрозма… Чтобы сделать наше пари интересным, вам не мешало бы отдать кое-какие распоряжения. — Он помолчал и добавил: — Значит, говорите, человеческая душа?
— Ну, если допустить, что кто-нибудь способен освободиться от своей души… — начал старик.
— Простите, — оборвал его Намир. — Мне вдруг показалось, что вы претендуете на роль Господа Бога. — Он застегнул клапаны своей одежды. — Пока, детки! Держите ушки на макушке!
Элмис с удивлением посмотрел ему вслед, уткнул голову в колени и погрузился в размышления.
Так прошло некоторое время. В конце концов Дрозма шумно вздохнул:
— Фактор времени, Элмис! Я вынужден прервать ваши размышления. Имя Бенедикт Майлз вас устроит?
— Майлз?.. Да, прекрасная анаграмма.[6] Это срочно, сэр?
— Может статься… Человеческие дети взрослеют быстрее, чем мы пишем стихи. Ваша работа на такой стадии, что вы не можете оставить ее?
— Мою работу способен продолжить любой.
— Расскажите-ка мне о ней поподробнее.
— По-прежнему прослеживаю процесс развития нравственных концепций. Стараюсь продраться сквозь пену конфликтов, войн, переселений, социальной неоднородности и идеологий. Я перечитывал Конфуция,[7] когда вы меня вызвали.
— Каковы предварительные выводы?
— Они подтверждают ваше интуитивное предположение, высказанное столетие назад. Нравственная революция, сравнимая по значению с открытием огня, земледелия и общественного сознания, может начаться в самом конце нынешнего тысячелетия и способна продолжаться в течение нескольких веков. Предпосылки ее налицо, предпосылки трудноопределимые, но несомненно существующие — так же, как в доязыковых родовых группах скрывался зародыш будущего общества. Естественно, невозможно учесть такие непредсказуемые события, как атомная война, массовые эпидемии или всемирный потоп. К счастью, стремление к безопасности — не та человеческая слабость, которую мы вынуждены разделять. В качестве весьма преждевременного предсказания, Дрозма, я бы осмелился утверждать, что союз с людьми возможен уже при жизни моего сына.
— Правда?.. Кажется слишком уж скорым, но звучит ободряюще… — Дрозма изгнал со своей физиономии улыбку. — Ладно, ваша миссия такова… Вчера вернулась Кайна. Она опаздывала. Худшая часть поездки ей еще предстояла, а тут пришлось ждать пересадки на железнодорожном узле в Латимере. Латимер — это меленький городок в Массачусетсе. Убивая время, Кайна прогуливалась в местном парке и наткнулась на любопытную парочку. Симпатичный пожилой джентльмен и мальчик лет двенадцати. Джентльмен кормил голубей и рассказывал, мальчик слушал. Кайна уловила марсианский запах. Использовав дистроер, она устроилась на соседней скамейке и прислушалась к беседе. Пожилым джентльменом оказался Намир. Однажды Кайна уже сталкивалась с его нынешней личиной. Это случилось несколько лет назад, в Гамбурге. Вам известно, что мы стараемся не упускать Отказников из виду, если этому не мешают более важные проблемы. У Кайны было вполне определенное мнение об Отказниках, и потому она хотела последовать за Намиром. Учитывая, что ей следовало отправляться сюда, она оказалась перед проблемой выбора. Однако, пока она слушала беседу Намира и человеческого ребенка, возник и третий вариант поведения. На нем она, в конце концов, и остановилась. Когда пожилой джентльмен и мальчик разошлись, Кайна последовала не за Намиром, а за землянином. Мальчик привел ее к меблированным комнатам. Кайна навела кое-какие справки о жилище и проживавших в нем. Этого достаточно, чтобы завязать беседу и войти в контакт. Имя мальчика — Анжело, он единственный ребенок владелицы дома. Владелицу зовут Роза Понтевеччио… Кайна употребила для ее характеристики выражение «душечка». Роза не слишком образована и по психофизическому уровню совершенно не похожа на своего сына. По внешнему виду — толстушка со слабым здоровьем. Кайна поняла достаточно, чтобы предположить у Розы порок сердечных клапанов, но не вполне уверена в этом. — Дрозма вздохнул. — Наведя справки, Кайна отправилась домой. Она руководствовалась здравым смыслом. Чего и вам желаю.
— А Намир?
— Увы, он все-таки узнал ее. Упомянул об этом, когда мы беседовали.
— Что же привело его сюда? Минуло уже больше века, как он подал в отставку.
— Думаю, Элмис, у Намира достаточно грязные намерения относительно Анжело Понтевеччио, и он хотел бы выяснить наши планы, если таковы у нас есть… А у нас вообще нет никаких планов! Разве только что-то родит ваш острый ум, ум Наблюдателя. — Дрозма снова вздохнул. — Мальчик может оказаться, а может и не оказаться столь потенциально важным, как представилось Кайне. Я надеюсь, что он важен… Вы знаете, я бы не стал загружать вас чепухой. Вы поедете в Латимер и под именем Бенедикта Майлза поселитесь в меблированных комнатах или поблизости от них. Работать будете в одиночку. Мне нужно ваше непредвзятое мнение. Поэтому я больше ничего не скажу вам об этом ребенке и не хотел бы, чтобы вы говорили о миссии с Кайной. Что касается Намира, вам известен закон от 27140 года. Пока Отказник не причиняют явного вреда, против них не могут быть предприняты никакие действия. — Дрозма погладил орка, вытянувшего мускулистые лапки. Голос старика дрогнул: — Я могу представить ситуацию, в которой вы способны пересмотреть определение этого туманного понятия «вред». Вам известно, что Наблюдателю не следует рисковать, нарушая человеческие законы, за исключением тех случаев, когда он готов… воспрепятствовать обнаружению сальваянской физиологии.
— Сэр! Ни вы, ни я не нуждаемся в эвфемизмах. Я попрошу Снабженца дать мне повторное разрешение на пользование суицид-гранатой. И на запасную гранату, если вы не возражаете.
Дрозма закусил губу:
— Не возражаю. Снабженец уже получил от меня необходимые указания… Элмис, я только теперь понял, что душу Намира переполняет горечь… Я почти забыл, что могут существовать такие чувства. Будьте осторожны! Боюсь, он болен навсегда. Его мысли направлены на самого себя и съедают его, как раковая опухоль. Помните — болен сальваянин! Не имеет значения, сколь гуманны его действия… Никогда не забывайте — у него наш нижний порог страдания вкупе с нашей огромной выносливостью. Я уверен, что он все еще медитирует, пусть он даже отрицает это. И если его злое сердце восстало против чего-то, ничто, кроме высшей силы, не собьет его с пути! — Дрозма раздраженно поерзал по своей подушке. — Это длительная миссия, Элмис. Если вы почувствуете, что вам следует остаться с мальчиком на все время его жизни, у вас есть на это мое разрешение. И не экономьте! Будьте уверены, вам выделят любые необходимые человеческие деньги. Я уполномочу Коммуникатора в Торонто удовлетворять в срок все ваши чрезвычайные запросы. Но даже если вы вернетесь достаточно скоро, меня может здесь уже и не оказаться. Поэтому я решил отдать вам это.
Дрозма вытащил из-под подушки небольшой сверток. Несмотря на свои размеры, сверток казался достаточно тяжелым.
— Здесь зеркало, Элмис. Позже, если пожелаете, можете развернуть и посмотреть его, но не сейчас. Наблюдатель, имя которого безвозвратно утеряно, привез его в 23965 году с острова, который в настоящее время называется Крит. Оно из бронзы. Мы удалили патину с отражающей поверхности. Вряд ли это первое зеркало, изготовленное человеческими руками, но одно из первых наверняка. Возможно, вам потребуется, чтобы Анжело Понтевеччио посмотрел в него на себя. Видите ли, нам представляется вероятным, что мальчик — один из тех, кто способен научиться смотреть в зеркало.
— Ох!.. Справлюсь ли я с таким заданием?
— Постарайтесь справиться. Сделайте все, что сможете. И хранит вас закон!
Перед человеком, пристально глядящим на звезды, не стоит проблема тьмы. Несомненно, тьма существует, тьма фундаментальная, всеобъемлющая и непобедимая ничем, кроме крошечных точек, названых звездами. И проблема не в том, почему существует такая тьма, но что это за свет, так удивительно прорывающийся сквозь мрак. И если считать существование света доказанным, то зачем нам глаза, видящие его, и сердца, радующиеся ему?
Примите, Дрозма, уверения в моей безграничной преданности. Исходя из соображений безопасности, вместо предпочитаемого вами английского пишу на сальваянском.
Ответ я начинал, имея гораздо больше свободного времени, чем теперь, и он был задуман в форме модной человеческой повести — зная, как вы наслаждаетесь работами земных авторов, я, разумеется, хотел доставить вам удовольствие, и единственным моим желанием было иметь их мастерство. Как вы убедитесь, с поставленной вами задачей я не справился.
Будущее покрыто мраком, во мраке пребывает и мой здравый смысл. Если не сможете одобрить сделанное мной — как и то, что еще предстоит совершить, — то, умоляю вас, примите во внимание, что не всякому по силам восхищение людьми.
Латимер 30963 года — это царство доброты и сердечности. По сравнению с моим последним визитом в Штаты, семнадцать лет назад, жизнь вечерних улиц изменилась в лучшую сторону: люди чаще гуляют и реже устраивают автомобильные гонки.
Я прибыл в Латимер июльским субботним утром. Город наслаждался уик-эндом. Все прибывало в покое. Сосны, вязы и клены, печеные бобы и спящие вечным сном предки — массачусетский тип покоя, к которому я так неравнодушен. Да, если уж суждено быть человеческим существом, то предпочтительнее всего родиться в Федерации.
Латимер расположен слишком далеко от Бостона, чтобы испытывать сильное влияние того, что Артемус Уорд[8] назвал «Аткинсами Запада». Латимер не прочь претендовать на собственное лицо: здесь пять крупных фабрик, более чем десятитысячное население, расположившийся на холмах железной дорогой район заселен состоятельными горожанами, есть два или три парка. Несколько лет назад город был более людным. Поскольку на производство все шире проникают кибернетические устройства, фабрики выносят из городов, и поэтому интенсивнее развиваются районы сельской местности и пригороды. Латимер в этом десятилетии неизменно уютен… Впрочем, нет. В городе пустеют меблированные комнаты — процесс, в котором немногие заинтересованы разобраться. Двадцатый век (по человеческому исчислению) в Латимере живет бок о бок с Новой Англией восемнадцатого и девятнадцатого. В полуквартале от лучшего кинотеатра торчит статуя губернатора Брэдфорда. Восстановленный особняк колониальных времен смотрит через Мэйн-стрит на железнодорожно-автобусно-коптерную станцию, современную, как завтрашний день.
На этой станции я купил научно-фантастический журнал. Их число до сих пор растет. В моем, как оказалось, преобладали разные кошмары, поэтому я читал его, посмеиваясь. Галактики слишком малы для рода человеческого. Впрочем, иногда… Не был ли жуткий исход наших собственных предков тридцати тысячелетий назад лишь намеком на грядущие события?.. Я понял, что люди создадут свою первую орбитальную космическую станцию не позже, чем через четыре-пять лет. Они называют ее «средством для предотвращения войны». Спи же в пространстве, Сальвай, спи в мире!..
Номер 21 по Калюмет-стрит — это старый кирпичный дом на углу квартала. Два этажа и полуподвал рядом с неизменной Майн-стрит,[9] связывающей богатых и бедных, живущих по разные стороны железной дороги. Номер 21 — с той стороны, где бедные, но соседние дома не выглядят слишком убогими. Этакая тихая заводь для фабричных рабочих, низкооплачиваемых «белых воротничков» и приезжих. Через пять кварталов к югу от номера 21 Калюмет-стрит вступает в трущобы, где на крошечной Скид-роу обосновались отбросы общества, отбросы столь же ничтожные, как и обширные человеческие болота в Нью-Йорке, Лондоне, Москве, Чикаго или Калькутте…
Табличку «Сдается» я обнаружил в окне полуподвала. Впустил меня тот, в чью жизнь мне предстояло вмешаться. Я сразу узнал его, этого мальчика с золотистой кожей и глазами темными настолько, что зрачки и радужка почти не отличаются друг от друга. В тот самый первый момент, прежде чем он заговорил со мной и подарил мне небрежный дружелюбный взгляд, я, по-видимому, узнал его до такой степени, до какой не узнаю уже никогда. Впрочем, если мы признаем, что даже простейшие умы являются бесконечной тайной, то какой же должна быть сила высокомерия, чтобы утверждать, будто я знаю Анжело!..
Он держал книгу, заложив пальцем страницу, и я вдруг обнаружил, что он хромает: на левой его лодыжке была наложена шина. Он проводил меня в полуподвальную жилую комнату, где мне предоставилась возможность поговорить с его матерью, чье тело, подобно тесту на опаре, вздымалось над креслом-качалкой. Роза Понтевеччио штопала воротник рубашки, которая, словно ребенок, приютилась на ее громадных коленях. У Розы оказались такие же, как и у сына, волнующие глаза, широкий лоб и чувствительный рот.
— Свободны две комнаты, — сказала она. — Дальняя комната на первом этаже, умывальник и ванная пролетом выше. Кроме того, дальняя комната на втором этаже, но она меньше и не очень тихая… Кстати, здесь ужасный шум от коптеров. Клянусь, они пытаются определить, на какой высоте допустимо летать, чтобы с домов не сорвало крыши.
— Первый этаж меня, похоже, устроит. — Я показал портативную пишущую машинку, которую неожиданно для самого себя купил в Торонто. — Мне предстоит писать книгу, а потому нужна тишина.
Она не проявила любопытства и не изобразила на лице заискивающее удивление. Мальчик раскрыл свою книгу. Это было дешевое издание избранных произведений Платона, и он читал не то «Апологию», не то «Крития».
— Меня зовут Бенедикт Майлз.
Чтобы уменьшить трудность при запоминании деталей, я предпочел упростить свою легенду. Сказал, что был школьным учителем в одном (ничем не отличающемся от других) канадском городишке. Благодаря полученному наследству, судьба подарила мне свободный год, который я хочу потратить на книгу (без подробностей!), и меня вполне устроит простое жилище. Я старался придерживаться академической манеры общения, соответствующей моей личине. Тощий мужчина средних лет, бедно одетый, педантичный, скромный и порядочный.
Роза оказалась вдовой, с домом ей приходилось управляться в одиночку. Дохода от него не хватало, чтобы платить наемной прислуге. Розе было около сорока, половина ее крошечной жизни уже позади. Оставшаяся половина, скорее всего, будет заполнена тяжелой работой, все увеличивающимся беспокойством за свое тело и одиночеством, хотя Роза и была жизнерадостна, болтлива и добра.
— Я не собираюсь вас обихаживать. — Подвижные руки Розы только подчеркивали громоздкость ее тела. — Утренняя приборка — предел моих возможностей… Анжело, покажи мистеру Майлзу комнату.
Он захромал впереди меня вверх по узкой лестнице.
Этот дом явно был построен до того, как американцы влюбились в солнечный свет. Дальняя комната на первом этаже оказалась большой и обещала быть относительно тихой. Два окна выходили во двор, где на июльском солнышке грелся маленький толстенький бостонский бульдог. Едва я открыл окно, Анжело свистнул. Собака встала на задние лапы и неуклюже задрыгала передними.
— Белла у нас задавака, — сказал Анжело с нескрываемой любовью. — Она почти не лает, мистер Майлз.
Неизвестно, разумеется, как собака будет реагировать на марсианский запах, но против отсутствия дистроера эти животные, по крайней мере, раньше никогда не протестовали. У Намира ведь дистроера не было.
— Любишь собак, Анжело?
— Они честные.
Банальное замечание — только не в устах двенадцатилетнего ребенка.
Я подверг испытанию одинокое кресло и нашел, что пружины еще достаточно прочны. Вмятина, оставленная на сиденье чужими телами, выглядела трогательно и придавала мне чувство сопричастности с человеческими существами. Я прощупал Анжело, как прощупал бы любого другого человека. Две вещи казались очевидными: ему не хватало осторожности и детского избытка энергии.
Отец его уже ушел из жизни, мать не была ни сильной, ни здоровой, и поэтому преждевременно свалившись на Анжело ответственность вполне могла оказаться причиной его уравновешенности. Однако приглядевшись к нему, понаблюдав, как он отдернул занавеску в углу комнаты, показав мне водопроводную раковину и двухконфорочную газовую плиту, я несколько изменил свое мнение о мальчике. В нем был избыток энергии и избыток достаточно большой, просто он не растрачивал ее на беспорядочные суматошные движения или крики.
— Нравиться комната, мистер Майлз? — спросил он и, не дожидаясь ответа, добавил: — Двенадцать в неделю. Мы иногда сдаем ее как двухместную.
— Да, вполне подходит.
Комната была похожа на все меблированные комнаты. Но вместо обычных календарей с изображением сверкающих белозубыми улыбками полногрудых красоток на стене висела написанная маслом и вставленная в простенькую раму картина. Картина изображала залитый солнцем летней пейзаж-фантазию.
Я был удивлен, как если бы обнаружил вдруг в лавке старьевщика ограненный изумруд.
— Плачу за неделю, но передай своей матери, что я не прочь пожить здесь и побольше.
Он взял деньги, пообещав принести квитанцию и ключ от комнаты. И тогда я решил проверить возникшее у меня предположение:
— Много ли ты написал картин, подобных этой, Анжело?
По его щекам и шее разлился румянец.
— Разве это не твое произведение?
— Мое. Годичной давности… И чего я вам надоедаю?!
— А почему бы и нет?
— Тратим время попусту.
— Не могу с тобой согласиться.
Он был поражен: похоже, до сих пор ему приходилось слышать нечто совсем иное.
— Допускаю, что твоя картина не соответствует нынешним канонам, — сказал я. — Но разве это имеет значение?
— Да, они… — Тут он опомнился и усмехнулся. — Девчоночье занятие. Детский лепет.
— Дурачок! — сказал я, внимательно наблюдая за ним.
Он засуетился, стал больше походить на двенадцатилетнего мальчишку.
— В любом случае я не думаю, что она так уж хороша. Разве это береза?
— Конечно. И трава под ней. А в траве полевая мышь.
— Знаете… — Он не верил и не льстил себе надеждой. — Я принесу вашу квитанцию.
И тут же сорвался с места, словно боясь сказать или услышать нечто большее.
Когда он вернулся, я распаковывал вещи. Позволил ему понаблюдать за моей возней над заурядным барахлом. Краситель для волос, делающий меня седым, выглядел пузырьком с чернилами. Дистроер запаха скрывался под маской лосьона после бритья. Впрочем, аромат его у обладателя человеческого носа не мог вызвать никаких подозрений. Зеркало я распаковывать не стал, а плоские гранаты всегда носил на теле.
Анжело тянул время, любопытный, желающий продолжить знакомство. Похоже, он злился на меня за то, что я не спешил возобновить разговор о его живописи. Каким бы он ни был смышленым, двенадцатилетнему ребенку тяжело бороться с собственным тщеславием. Наконец, приняв донельзя простодушный вид, он спросил:
— Этот футляр от пишущей машинки достаточно вместителен, чтобы хранить в нем вашу рукопись?
Он оказался слишком смышленым. Когда я решил, что «мистер Майлз» работает над книгой, я совершенно не позаботился о том, чтобы, помимо пишущей машинки и пачек бумаги — из которых, кстати, еще ни одна не вскрыта, — взять с собой еще что-нибудь, присущее профессии писателя.
— Пока вполне, — сказал я и выразительно постучал пальцем по лбу. — Книга на сегодняшний день в основном здесь.
Мне стало ясно, что придется сочинить и напечатать какую-нибудь словесную мешанину на английском языке. Причем заняться этим надо незамедлительно: вряд ли, конечно, он или его мать станут копаться в моих вещах, но Наблюдатель обязан избегать даже малейшего риска. Остановиться придется либо на фантастике, либо на философии — эти направления литературы представляют богатейшие возможности по части машинописных упражнений.
Я устремился к креслу и зажег сигарету. Кстати, в очередной раз рекомендую табак Наблюдателям, лишенным наших тридцатичасовых периодов отдыха: курение — не заменитель созерцания, но я верю, что оно снижает потребность в последнем.
— Школьный год закончен, Анжело?
— Угу. На прошлой неделе.
— В каком ты классе?.. Если это не мое дело, можешь предложить мне заткнуться.
На лице Анжело появилась улыбка. И тут же исчезла.
— Я студент-второкурсник.
Мне было понятно, что он притворяется сдержанным в целях самозащиты. Такой ответ дал бы шестнадцатилетний.
— Тебе нравится «Критий»?
Сквозь деланное смущение на его лице проступила очевидная тревога.
— Да-а-а…
Конечно, стоило бы убедить его, что я просто болтаю и подсмеиваюсь над его ранним развитием. И я строил из себя праздного болтуна:
— Бедный Критий! Он и в самом деле старался. Но, я думаю, Сократ хотел умереть. Ради доказательства рассуждений ему пришлось остаться. Тебе не приходило в голову, что он больше беседовал с собой, чем с Критием?
Ни малейшего расслабления. Неестественная юношеская вежливость:
— Может быть.
— Он ничего не был должен Афинам и имел возможность спорить о том, что несправедливые законы могут быть нарушены, дабы послужить великим. Но он не стал спорить. Он устал.
— Почему? — спросил Анжело. — Почему кто-то может желать умереть?
— Потому что устал. После семидесяти лет так бывает.
А что еще мне оставалось сказать? Я раздумывал, подходящ ли такой разговор для данного момента или я все же перегнул палку… Во всяком случае, я попытался дать ему понять, что уважаю его умственные способности, и это могло в будущем мне помочь. Думаю, если бы мне пришлось ловить своими неуклюжими руками мыльный пузырь, я оказался бы в более легком положении, — пусть бы он даже лопнул, ничего бы особенного не произошло. И продолжая разыгрывать из себя «мистера Майлза», я спросил:
— Интересно, не побеспокоит ли моя работа других жильцов? У меня достаточно шумная старая машинка.
— Не-а. — После такого поворота в прозу жизни Анжело успокоился. — Между комнатами ванная мистера Фермана и туалет.
Комната над вами свободна, а живущие на верхнем этаже старые леди и Джек Макгуайр… Нет, они вряд ли услышат стук машинки. Мы внизу тоже — ваша комната находится над кухней. Не берите в голову!
— Даже если я разобью инфинитив?[10]
Он засунул в рот палец и щелкнул им: как будто пробка вылетела из бутылки с шампанским.
— Даже если вы будете обращаться со спондеем, как с ямбом.[11]
— Ого! Не подождешь ли ты, пока я тоже стану образованным?
Он мило улыбнулся и исчез.
И это ребенок, которого Намир хочет пристегнуть к себе, подумал я. Вот с этого момента, Дрозма, меня по-настоящему начала мучить загадка самого Намира. Я должен признать: и для человека, и для марсианина вполне возможно увидеть нечто прекрасное, осознать, что оно прекрасно, и немедленно захотеть уничтожить его. Я знаю, что это так, но не понимаю и никогда не пойму подобного желания. Неужели не ясно, что краткость жизни должна служить напоминанием: уничтожать красоту значит уничтожать самого себя?
Я волновался из-за пустяков, как волновался бы всякий человек в новом для него окружении. Я повторил «Правила поведения Наблюдателей». Меня очень беспокоила опасность того, что пустяковая царапина способна обнаружить оранжевый цвет нашей крови. У меня есть милая привычка сдирать кожу на голенях и украшать синяками руки. То, что у нас пульс бьется с частотой один раз в минуту, не только риск, но и достойно сожаления. Ведь я вынужден быть очень осмотрительным при близких контактах и всячески избегать врачей — их обязательно заинтересует подобная аномалия. Работа Наблюдателя должна стать более интересной и более безопасной (не забыть и о проблеме лошадей), как в старые времена, когда магия и суеверия были шире распространены и всячески работали на нас.
Я крутил в руках сверток с бронзовым зеркалом, пытаясь угадать смысл ваших слов, Дрозма. Я не разворачивал его. Я вдруг пожалел, что не рассмотрел его как следует еще в Северном Городе. Вы несомненно полагали, что я подобным образом и поступлю, но последние минуты пребывания в Городе были заполнены неотложными делами, а я уже изучил так много человеческих древностей, что моя любознательность пребывала в глубокой спячке. В общем, я не познакомился с зеркалом до тех пор, пока его сущность не застала меня врасплох. Но это случилось позже, а в тот вечер я спрятал сверток в комод, под одежду, и, намереваясь поближе познакомиться с городом, вышел на прогулку.
Я встретил Шэрон Брэнд.
Конкретной целью моей прогулки были масло, хлеб и нарезанная ломтиками ветчина, хотя я, буде возникнет в том необходимость, не собирался манкировать и обязанностями Наблюдателя.
Развлечения в субботний вечер, как правило разнообразием не отличаются. Народ болтается по улицам, всеми доступными средствами убивая время, ругает погоду и рассуждает о политике.
Я направился в сторону более грязного конца Калюмет-стрит и почти тут же нашел то, что мне требовалось. Это был крошечный угловой магазинчик в трех кварталах от дома номер 21. На вывеске горели буквы «ПРО.У.ТЫ».
Магазинчик был пуст, только из-за прилавка торчала детская головка. Я подошел ближе. Это оказалась девочка лет десяти, читающая книжку комиксов. Она сидела на стуле, положив левую ногу на другой стул. Правая нога ее обвивала левую так легко, как будто напрочь была лишена костей. Подобная легкость достигается длительными тренировками, но здесь, похоже, о тренировках и речи не шло: просто девочке было удобнее сидеть именно в этой позе.
Я рассматривал витрину, ожидая, пока читательница обратит на меня внимание, но она была далеко-далеко отсюда. Из ее рта, придавая детской физиономии неожиданно глубокомысленный вид, торчала деревянная палочка от леденца. Картину дополняли курносый нос и темные рассыпавшиеся по плечам волосы.
— У вас самообслуживание?
Не поднимая глаз, она кивнула и произнесла:
— Фофифэ фофэфу?
— Еще бы!
Она пролепетала по-младенчески, но это не значит, что я ошибся в возрасте. Просто она не видела срочной необходимости вытащить изо рта свою долгоиграющую соску, но желала знать, не хочу ли я составить ей компанию.
Впрочем, она тут же взглянула на меня — глаза цвета потрясающей океанской синевы смотрели оценивающе, — раскрыла коробку, с трудом разлепила губы и сказала:
— Ну берите, черт! Они всего за пенни, черт. — Она поменяла ноги, обернув левую вокруг правой. — Вы так не можете!
— Кто сказал, что не могу?
За прилавком был третий стул. Я тут же устроился на нем и продемонстрировал свое умение. С нашими-то костями и мышцами я, конечно, имел перед ней преимущество, но проявил максимальную осторожность, чтобы не превысить человеческие возможности. Тем не менее она была слегка ошеломлена.
— У вас неплохо получается, — признала она. — Резиновый человек… Вы забыли ваш леденец.
Она достала из коробки и бросила мне лимонный леденец. Я занялся им без промедления, и мы тут же стали друзьями.
— Смотрите, — сказала она. — Черт, могло так случиться само собой?.. Я имею в виду, взаправду.
Она повернула в мою сторону книжку комиксов. На странице присутствовали космонавт и красивая дама самого разнесчастного вида. Дама была привязана ремнями к метеору — не удивлюсь, если здесь не обошлось без участия Сил Зла, — и космонавт спасал ее от столкновения с другим метеором. Спасение заключалось в уничтожении другого метеора с помощью лучевого ружья. Работа выглядела тяжелой и героической.
— Я бы не хотел, чтобы меня цитировали.
— О!.. Я — Шэрон Брэнд. А вы?
— Бенедикт Майлз. Только что снял комнату на этой улице. У Понтевеччио. Ты случайно не знаешь их?
— Черт! — от важности она залилась румянцем. Потом отбросила в сторону комиксы и расплела свои тощие ноги. Приняв более подходящую для землянина позу, она свесила локти за спинку стула и посмотрела на меня глазами человека, которому недавно исполнилось десять тысяч лет. — Случайно Анжело — мой лучший друг, но вам лучше не упоминать об этом. Это может оказаться крайне неосмотрительным. Есть шанс нарваться.
— Я бы ни за что не стал упоминать об этом.
— Скорее всего, я оторву вам ногу и буду бить вас ею по голове. Если вы меня заложите…
— Как это — заложу?
— Вы что, неуч?! Закладывать — значит болтать. Трепать языком. Некоторые считают Анжело заносчивым, потому что он все время читает книги. Вы ведь не считает его заносчивым?
Выражение ее лица было достаточно красноречивым.
— Нет, я вовсе о нем так не думаю. Он просто очень смышленый.
— Тогда я скорее всего пальну в вас из лучевого ружья. Бдыщ-бдыщ!.. Так получилось, что он годами останется моим лучшим приятелем, но не забудьте, чего вы мне наобещали. Черт, ненавижу доносчиков!.. Знаете что?
— Что?
— Вчера я начала брать уроки на пианино. Миссис Уилкс показала мне гамму. Она слепая. И немедленно показала мне гамму. Они собираются заставить меня заниматься летом на школьном пианино.
— Сразу гамму? Это ужасно!
— Все ужасно, — сказала Шэрон Брэнд. — Только одни вещи ужаснее других.
Ближе к ночи я снова оказался на улице. Я надеялся, что моя новая подружка Шэрон уже заснула, но воображение почему-то рисовало обоих детей лежащими в кроватях при свете тайком включенных ночников — Шэрон с ее героями-космонавтами и Анжело, пробирающегося сквозь путаные мечты Платона.
Я отправился вкусить аромат городского вечера. Перебравшись через железнодорожный туннель на «причальную» сторону, я двигался в толпе прочих масок мимо витрин магазинов, мимо помещений для игры в пул, мимо дансинг-холлов и развлекался проверкой собственной наблюдательности, пытаясь сорвать с окружающих их маски.
— Одно я хотел бы знать. Проблеск интеллекта…
— Лицо, лишенное закладной…
— Печать ожесточения…
— Классная девочка!..
— Ставший добрее с возрастом… Ставший ожесточеннее с возрастом…
Наверное, школьная учительница. А вот тот — вор-карманник. А дальше — переодетый коп… Коммивояжер… Банковский служащий…
В этой игре у вас есть только их голоса.
— И тут он, понимаешь, целится в этого парня из винтовки, а за кустом — «рейнджер»…
— Я говорю ей: неужели я не знаю размеров своей собственной талии!..
— Я бы не поверил ему, если бы у него не было латунного кастета…
Я шагал по улице, постепенно поднимающейся к холмам. С обеих сторон — отдельные особняки, окруженные лужайками; то и дело навстречу попадаются угрюмые мужчины, выгуливаемые крошечными собачками. С вершины холма кто-то смотрел вниз, на огни удивительно спокойного города. Мое ночное зрение, землянам и не снившееся, позволяло мне видеть отдаленные поля и леса, недоступные человеческим глазам даже при свете дня. Трава и кустарник кишели очаровательной, едва заметной живностью.
На востоке поднималась луна. Я еще погулял по тихим улочками этого района. Особняки демонстрировали всему миру, что здесь живут такие же люди, что и в нижней части города. Во всяком случае, при болезнях хозяева этих особняков лечились точно таким же аспирином.
В деловой район я вернулся другим маршрутом. Мне очень хотелось знать, нет ли за мной слежки, не раздадутся ли сзади приглушенные шаги, не шевельнется ли возле ограды почти незаметная тень. Намир беспокоил меня больше, чем я ожидал. Это всего-навсего усталость, сказал я себе.
Кинотеатр был уже закрыт. Толпа на улицах поредела, да и характер ее изменился: меньше добропорядочных граждан, больше хищных физиономий с бегающими глазами. Я купил вечернюю газету и, бегло проглядев, сунул ее в карман. Настоящее, казалось, было пропитано тишиной и покоем, но люди теперь стали слишком умными, чтобы тешить себя надеждой, будто вулкан затих навсегда. Они одурачили сами себя в 880-м и 890-м годах, однако с тех пор кое-чему научились. Соединенные Штаты Европы достаточно сильны — если не развалятся! — но всех пугает следующий логичный шаг Атлантической Федерации. Мальчики и девочки из всемирного правительства привычно пудрят всем мозги хорошо разыгрываемым энтузиазмом. Теперь существует уже три «Железных занавеса»: российский, китайский и новенький, любопытнейший «занавес», появившийся после смерти Сталина и с каждым годом вздымающийся все выше и выше. Этот занавес вырос уже между Россией и Китаем. Впрочем, остальные семь или восемь основных цивилизаций мира, не опутанные, подобно этим двум, древнейшим деспотизмом, умудряются согласовывать свои действия и способно, двигаясь осторожно и постепенно, отыскивать путь к продолжительному компромиссу. Никто не ищет предпосылки нравственной революции в газетных заголовках: океанские течения, как известно, не порождаются океанскими бурями… Преемнику Эйзенхауэра следует быть очень осмотрительным человеком: я заметил, что, несмотря на сложности с заменой личности подобного масштаба, некоторые уже всерьез недолюбливают его. По-видимому, падение Эйзенхауэра начинается в 1964 году с того, что маятник общественного мнения качнется влево чуть сильнее, чем следовало бы. Впрочем, это меня не беспокоит.
Обойдя бедные кварталы с другой стороны, я вышел к парку, находящемуся рядом с Калюмет-стрит. Он был образован изгибом улицы, пересекающей Калюмет. Мощеные дорожки, слишком неровные, чтобы по ним можно было кататься на роликах; пятна упрямо тянущейся к небу травы. Прямо под парковым фонарем два старика никак не могли расстаться с шахматной доской. Может быть, боялись, что без нее они сразу умрут…
Я отыскал скамейку, спрятавшуюся от лунного света в густой тени нависшего над нею клена. Сел. Задумался: не тот ли это парк, где Наблюдатель Кайна подслушала некую важную беседу?
В сотне ярдов от меня расположились несколько скамеек. На ближайшей сидел, склонив голову к коленям, худой парень самого разнесчастного вида. Пьяный, больной или брошенный возлюбленной, подумалось мне. Откуда-то явился два солдата с подружками, уселись недалеко от парня. Тот поднялся и двинулся, шатаясь, по дорожке, которая должна была привести его к моей скамейке. Однако он тут же сошел с дорожки и поплелся прямо по траве, словно хотел обойти фонарь, под которым сооружали друг другу матовые сети любители черно-белых клеток.
Я находился в глубокой тени, и глаза пьяного человека вряд ли могли разглядеть меня. Марсианского запаха я не улавливал, но дул достаточно сильный ветер. Мой собственный дистроер был свеж, однако лицо у меня было тем же, какое Намир видел в Северном Городе.
Отогнав беспокойство, я вернулся к ночной жизни Майн-Стрит и заглянул в бар — кстати, не в первый раз за этот вечер. Атмосфера бара была насыщена парами алкоголя и глупыми и непристойными выкриками. Здесь мне было спокойно: никто не интересовался тощим пьяницей, разделившим компанию со стаканчиком хлебной водки, пока я сам не привлек к себе внимание, затеяв с каким-то водопроводчиком дискуссию о будущем энергетики. В последнее время это стало модной темой. Мы провели с водопроводчиком три раунда. Я предложил солнечную энергию, силу воды и ветра и алкоголь, но в конце концов дал и ему возможность пробежаться по поводу его атомов, черт с ними!..
— Все бы вам хвататься за светило! — сказал он. — Когда я представляю себе то, что увидят мои детишки… Как считаете, есть на Марсе жизнь?
— Там нет атмосферы, — произнес толстяк, которого водопроводчик назвал Джо.
— Но все же очевидно! — Водопроводчик шлепнул ладонью по лужице на стойке и извинился за то, что забрызгал меня. — Они же видели зелень в телескопы!
— Это лишайники, — авторитетно заявил Джо. — Я имею в виду — недостаточно атмосферы, понял?
— Можешь запихать свои лишайники в задницу, — сказал водопроводчик, — и… Ладно, это все очевидно. Почему бы им не жить под землей? Черт возьми, там же можно сохранить воздух!
— Это не для меня, — сказал Джо. — У меня клаустрофобия.
— Все равно можешь запихать свои лишайники в задницу…
Незадолго до полуночи я вполне счастливым вернулся в меблированные комнаты. Я был счастлив от лунного света на площади, окруженной тихими домами, счастлив оттого, что за задернутыми занавесками кто-то запоздало тренькал на мандолине, рождая негромкие звуки, счастлив из-за способности сальваян воспринимать алкоголь. Моего водопроводчика с энтузиазмом взялись отконвоировать домой Джо и трое других друзей. Со стороны их группка была очень похожа на минный тральщик, ведомый по фарватеру одноглазым лоцманом.
Холл на верхнем этаже был залит лунным светом, но еще более мощный поток света лился из открытой двери ближней комнаты. Я вспомнил, что там живет мистер, кажется, Ферман, и тут же увидел его: в кресле, поставив ноги на скамеечку, сидел пожилой седовласый джентльмен и сосал пенковую трубку в форме лошадиной головы. Я нарочно споткнулся. Он тут же прокашлялся и, тяжело ступая, подошел к двери.
— Все в порядке?
— Да, спасибо… Чуть-чуть подвернул лодыжку.
Некоторое время мы, словно встретившиеся на дороге путники, изучали друг друга. Он явно страдал от одиночества.
— Очень плохо, — сказал он наконец и с некоторой враждебностью посмотрел на ковер. Судя по всему, его волновали только неприятности, грозящие миссис Понтевеччио. — Кажется, ковер не виноват.
— Это не из-за ковра. Просто я слегка перебрал.
— О! — мистер Ферман выглядел солидным пожилым человеком, высоким и не толстым. — Иногда спотыкаешься только потому, что недопил…
Так я оказался в его комнате. У него нашлась пинта бурбона, и мы в течение часа проверяли его идею насчет недопития. Поначалу он утверждал, что открыл дверь исключительно с целью проветрить комнату от табачного дыма, но потом признался, что надеялся на появление возможного гостя.
Он был инженером-железнодорожником и двенадцать лет назад ушел на пенсию, частично по возрасту, частично из-за того, что дизели стали сдавать позиции, а он оказался уже слишком стар для технических новинок. Его жена умерла шесть лет назад, а единственная дочь была замужем и жила в Колорадо. В былые времена работа гоняла его по всем Штатам, и он с удовольствием вспоминал свои «Странствия по стальным магистралям», но теперь его домом стал Латимер, и он вряд ли когда-нибудь покинет этот город.
Я не пытался повернуть разговор на сына домовладелицы. Старик вспомнил о нем сам. Джейкоб Ферман жил в этом доме с тех пор, как умерла жена, и я понял, что Понтевеччио стали для него второй семьей. Их проблемы были и его проблемами, и, возможно, он даже знал, что странности Анжело наложили отпечаток и на него самого.
Он познакомился с Анжело, когда тому было шесть лет. Мальчуган с огромными глазами, малоразговорчивый, но впечатлительный и наблюдательный, Анжело был подвержен приступам гнева, вызванным, как полагал Ферман, разочарованиями, которые вряд ли бы так сильно расстраивали обычного ребенка. Теперь, глядя в прошлое, Ферман даже испытывал определенную гордость за эти вспышки гнева. Анжело никогда не был непослушным ребенком, сказал он. Мальчик воспринимал наказание спокойно и редко допускал тот же проступок, но отказ купить ему игрушку, попытки уложить спать или пропажа обломка ножовки могли вызвать у него настоящий взрыв негодования.
— Даже теперь, когда он уже миновал все это, вы вряд ли назовете его счастливым ребенком, — сказал Ферман, — и я не думаю, что тому виной его больная нога…
Когда Ферман появился тут впервые, Роза была в отчаянии. Из-за выходок сына ее мысли все чаще крутились вокруг слова «умопомешательство» (этим туманным словечком люди до сих пор терроризируют человеческое существо, не желающее придерживаться рамок так называемой «дисциплины»). Она очень полагалась на Фермана.
Помнил он и ее мужа. Сильвио Понтевеччио казался бестолковым спивающимся идиотом. Тем не менее Ферман считал его достаточно умным, но неспособным извлечь из своего ума хоть какую-нибудь выгоду. Не менее двенадцати раз Сильвио начинал свое собственное дело — не говоря уже о мелких спекуляциях — и не менее двенадцати раз с кротким удивлением встречал очередную неудачу. Даже перед рождением Анжело только работа Розы, которая содержала меблированные комнаты, спасала семью от нищеты. Сильвио прогорал, пепел очередного лопнувшего предприятия жег его душу, а потом все повторялось сызнова. В конце концов, по-видимому, окончательно смирившись со своей судьбой и пропив деньги, предназначенные для страхования жизни, Сильвио бросился под грузовик на обледенелой дороге.
— Бедный ублюдок, — сказал Ферман с искренним сожалением, — даже умереть нормально не сумел.
Это случилось, когда Анжело достиг семилетнего возраста. Мальчик любил своего отца: тот рассказывал ему сказки и был с ним добр. Через год после смерти Сильвио Анжело сказал матери: «Я больше не буду выходить из себя».
Свое слово он сдержал. Роза перестала волноваться за его рассудок, но теперь ей не давали покоя маленький рост сына и его раздражительность, связанная со школьной рутиной. («Навязанная игра» — такое определение использовал сам Анжело. Впрочем, это было гораздо позже, в разговоре со мной).
— В средней школе он перескочил через три класса, — продолжал Ферман. — Учителям это не нравилось. Ребенок слишком перегружал их работой, он загонял их в ситуацию, когда они должны были позволять ему сдавать экзамены, а экзамены эти были для него сущей чепухой. Он выставлял их в глупейшем свете, и они принимались суетиться вокруг его «поведения», «прилежания» и — что за понятие такое? — «социальной приспособляемости», черт ее подери! Бр-р!.. Все дело в том, что мальчик был смышлен, но недостаточно, чтобы скрыть от них, насколько он смышлен.
— Гений?
— Объясните мне, что это такое и с чем его едят.
— Превышающие норму способности к обобщению, скажем…
— Такие у него налицо.
— Мне иногда очень хочется знать, чем же сейчас заняты школы.
Он понимал, что я искренне интересуюсь его мнением, и некоторое время раздумывал, набивая свою трубку. Потом сказал:
— Возьмем мою Клэр… С тех пор как она была в средней школе, прошло уже почти двадцать лет. Помню, как я забивал себе голову мыслями об ее учебе. Они никогда не пытались научить ее хоть чему-нибудь, кроме того, как стать похожей на всех. Когда она закончила школу — а я бы не сказал, что Клэр была дурой, моя дочь способная девочка, — она умела сложить числа в столбик да немного читать, если в этом появлялась необходимость. Книги возненавидела и до сих пор ненавидит. Будучи заядлым книгочеем, я представить себе не могу, как их можно не любить. И будь я проклят, если знаю, чему ее в этой школе учили! — он фыркнул. — Самовыражению?.. До того, как она научилась хоть что-нибудь выражать! Социальной сознательности?.. Да она даже сейчас недостаточно владеет языком, чтобы объяснить, что она подразумевает под словом «социум»! Обрывки оттуда, обрывки отсюда, и никакой логики, чтобы связать их вместе. Все максимально упрощено… А как можно сделать образование простым? Это ведь все равно что пытаться вырастить атлета, держа его в гамаке на булочках со сливками и пиве! Боже, Майлз, я ухлопал семьдесят лет, стараясь получить образование, но сумел за это время осилить только половину задачи! — Он помолчал. — Я догадываюсь, что школа, в которой учится Анжело, ничем не отличается от школы, где училась моя дочь. Если не хуже!.. И будь я проклят, если он не воспринимает свою школу, как шутку! А стало быть, чертовски сильно подшучивает над самим собой…
— Возможно, школы уже дошли до того, что считают образование чем-то вроде побочного продукта своей деятельности, — предположил я. — Чем-то, что хорошо было бы иметь, если бы это не доставляло слишком много хлопот.
— Ох! — сказал старый джентльмен. — Я бы не стал так говорить, Майлз. Я думаю, они стараются. — И добавил, похоже, безо всякого намерения пошутить: — Может быть, если бы они начали с обучения учителей, это хоть чем-то могло помочь… Тем не менее, и до сих пор есть учителя высокого класса. Я обнаружил это, когда было уже слишком поздно, чтобы сделать из Клэр хоть что-нибудь стоящее… Как бы то ни было, Анжело хороший мальчик, Майлз… Славный, — несколько слов он промямлил про себя, — чистый и с добрым сердцем. Я бы не сказал, что он чертовски капризен. Если бы не его малюсенький рост да не бедная искалеченная ножка…
— Полиомиелит?
— Да, в четыре года. Это случилось до того, как я приехал сюда. Но с возрастом его состояние улучшается. Доктор сказал Розе, что, может быть, годам к двадцати появится возможность снять шину. Она изрядно мешает мальчику… Впрочем, кажется, болезнь его не слишком заботит.
— Возможно, это и помогло ему развить ум.
— Очень может быть.
На сем мы и расстались, так как моему новому другу уже едва удавалось сдерживать зевоту. Я отыскал свою комнате и уснул мертвым сном. Думаю, у меня это получилось не хуже, чем у любого усталого землянина.
Разбудил меня храп. Я с трудом открыл глаза — голова казалась железобетонной — и посмотрел на наручные часы. Была половина пятого. Состояние показалось мне странным: просыпаться с железобетонной головой не входит в привычки сальваян. В мои привычки, во всяком случае, такое не входило никогда.
Я прислушался. Храп доносился с первого этажа и был непомерно громким. По-видимому, этими музыкальными упражнениями занимался Ферман. Я вдруг обратил внимание на мерзкую сладковатую вонь, наполнявшую мою комнату, и оторвал от подушки неподъемную голову. Что-то упало на пол, и прорвавшийся сквозь сладкую вонь другой, очень знакомый запах, запах марсианина, поднял меня на ноги. Не было бы странным, если бы запах был мой, но этот запах оказался чужим.
Я щелкнул выключателем. На полу валялся упавший с подушки комок ваты, пропитанный хлороформом.
Сначала мне показалось, что в комнате ничего не пропало. Потом я добрался до флакона с дистроером и остолбенел: двух третей содержимого как ни бывало.
Дверь оказалась приоткрытой. Выйдя в холл, я понял, почему храп был таким громким: дверь в комнату Фермана тоже была приоткрыта. Уличный фонарь сквозь окно освещал постель старика. Никаким хлороформом в его комнате не пахло. Я удостоверился, что Ферман цел и невредим, что его ненормально шумный сон является тем не менее вполне естественным.
Вернувшись к себе, я полез в комод. Бронзовое зеркало лежало на месте. Потом я вдруг понял, что чужие руки касались моей одежды, развешенной не стуле. Я достал бумажник. Денег не тронули, зато между документами я нашел записку. Записка была написана нашим крошечным сальваянским шрифтом, который человеческие глаза приняли бы за набор разбросанных в беспорядке точек. В записке было всего два предложения:
«Заметьте, я играю честно. Ваша бутылка с д.з. не совсем пуста».
Подпись автора отсутствовала.
О боже, подумал я, докатиться до кражи со взломом в человеческом стиле!.. И тут же рассмеялся: ведь Намир всего лишь последовал старейшему правилу Наблюдателей — «Действуй по-человечески». Впрочем, мой смех быстро затих, потому что я вспомнил об одном неземном факторе в этой земной ситуации — я не могу сдать преступника в руки полиции, не предав свой народ. А Намир сей фактор из виду не упустит и обязательно использует его в своих интересах. Если бы мы играли в шахматы, получилось бы, что я дал равному со мной по силам игроку фору в две ладьи.
Одно окно оказалось открытым шире, чем я оставил его, ложась спать. Все стало ясно: Намир проник в дом с заднего двора. Лестница была приставлена к стене прямо под моим окном — залезть проще некуда. Вчера она лежала вдоль стены, словно забытая после недавней покраски оконных рам. А где же бульдог?..
До рассвета было уже недалеко. В деревянной ограде заднего двора виднелась открытая калитка на боковую улицу — Мартин-стрит. Возле калитки валялась куча тряпья. Эта куча обеспокоила меня — по-моему, вчера ее там не было.
Сопя, я напялил поверх пижамы купальный халат и снова вышел в холл. Со второго этажа тоже доносился храп — словно собака ворчала за углом. Запаха не ощущалось. Намир, разумеется, должен был уже убраться отсюда. Вряд ли он стал бы зря растрачивать дистроер. Умнее было бы добраться до места, где можно раздеться и смазать дистроером зоны запаховых желез. Тем не менее я проверил второй этаж. Ванная была пуста, свободная комната надо мной — тоже. Двери других комнат оказались приоткрытыми. Из средней комнаты доносился храп-ворчание и легкий запашок, присущий женщинам-землянкам. Никакого хлороформа. Анжело упоминал вчера о старых леди. С ними, по-видимому, ничего не произошло.
Я прошел мимо и заглянул в переднюю комнату. Здесь запах хлороформа присутствовал. Я включил свет, скинул комок ваты с подушки спящего молодого человека и тряхнул его. Он с трудом разлепил веки, схватился за голову:
— Кто вы такой, черт подери?!
Джек Макгуайр был сложен так, что вполне мог позволить себе подобный тон. Этакая гранитная глыба, особенно — плечи. Рыжеволосый, голубоглазый и резкий в движениях.
— Ваш новый сосед со вчерашнего дня, первый этаж. К нам проник вор, но…
Я не успел еще закончить фразу, а Мак уже оказался в брюках и вылетел в холл. Оттуда донеслось:
— Эй, мисс Мапп! Миссис Кит!
Славный мальчик. Откровенный. Он в три минуты поднял весь дом на ноги. Тем временем я взглядом сфотографировал его комнату. Бедность вперемежку с чувством собственного достоинства. Рабочая рубаха с масляными пятнами — механик?.. Фотография на комоде — миловидная девушка с личиком в форме сердечка. Рядом другая фотография — мускулистая леди. Без сомнения, мамаша. Бритва, зубная щетка, расческа, полотенце — все разложено так, словно ждет субботней проверки младшим лейтенантом. Чтобы доставить себе удовольствие, я передвинул зубную щетку и, нарушив таким образом казарменный порядок, вышел в холл. Шагнул в среднюю комнату, навстречу истошным крикам.
Картина изображала приятных пожилых леди в растревоженном гнездышке. Сдвоенное окно выходило на Мартин-стрит. В нормальной обстановке здесь, наверное, была настоящая штаб-квартира, но сейчас тощая леди стояла прямо на кровати и пронзительно вопила, а толстая спрашивала ее, все ли в порядке. Мак сказал, что все. Вызвав извержение, он тут же голыми руками запихал лаву назад, в кратер. Нет, Мак мне определенно нравился.
Полной была Агнес Мапп, а худой — Дорис Кит. Позже я узнал, что они из Нью-Лондона и весьма невысокого мнения о Массачусетсе, хотя и живут здесь на вдовьи пенсии в течение последних двадцати шести лет. Эта кража со взломом была первым случаем, когда они вдруг утратили ощущение бесконечной силы государства.
В конце концов миссис Кит приняла горизонтальное положение и утихла, но тут ей на смену пришла Мапп. Нависнув над комодом, она завизжала:
— Тут все перепутано!
Я заглянул и удивился, как она могла узнать об этом в мешанине пуговиц, кнопок, корсетов, вязальных спиц, китайских орнаментов, салфеточек и прочих дамских чепуховин.
— Мы никогда не допускаем, чтобы красный футлярчик для иголок лежал за розовыми щетками для волос, — говорила сквозь слезы миссис Мапп. — Никогда!.. О Дорри, взгляни! Он похитил наш фотоальбом!
Я пробормотал, что вызову копов. Миссис Кит окончательно пришла в себя и строгим баритоном потребовала, чтобы Мак немедленно предоставил им объяснения. Мы с ним посмотрели друг на друга с симпатией, которая напрочь уничтожила разницу между землянином и сльваянином. Я пошел вниз.
На лестнице я встретил Анжело. Одетый в желтую пижаму, он ковылял на второй этаж. За ним брел поднятый воплями дам Ферман. Я попросил его вызвать полицию, и он шмыгнул в холл, к телефону.
Анжело посмотрел на меня и пробормотал:
— Избавьте маму от необходимости подниматься по лестнице.
— Конечно, — сказал я. — Этого и не требуется. Пойдем-ка вниз. У нас всего-навсего побывал вор. Он уже удрал, прихватив несколько долларов. Лестница под моим окном. Хлороформ.
— Ого! — Анжело явно заволновался. — А что же Белла…
Едва мы вошли в жилую комнату полуподвала, он забыл о Белле и бросился к матери. Роза Понтевеччио сидела в своем кресле-качалке, у нее было серое лицо, пальцы вцепились в голубую накидку. Я вовсе не был уверен, что она может подняться. В обстоятельном отчете о случившимся, который я ей предоставил, я постарался быть раздраженно-смешным, рассчитывая заменить собой успокоительное.
— Никогда ничего подобного не происходило, мистер Майлз, никогда!..
— Мама, — увещевал Анжело, — не волнуйся. Ничего и не произошло.
Она притянула к себе его голову. Он подвинулся добровольно, погладил ее бесцельно бегающие руки. Цвет лица Розы несколько улучшился. А когда к нам присоединился Ферман, дыхание ее стало почти нормальным. Убедительно-важным тоном Ферман сказал, что полиция по всей видимости, скоро прибудет, а тем временем нам стоило бы проверить, что же все-таки исчезло. Здравый смысл старика был непоколебим, его же величественная суета принесла Розе больше пользы, чем все мои потуги. Анжело пробормотал что-то насчет Беллы и выскользнул наружу. Я сообщил о пропаже фотоальбома, принадлежавшего старым леди.
— Странно, — сказал Ферман. — Если они утверждают, что он пропал, значит так и есть… В их комнате невозможно шпильку передвинуть, чтобы они не заметили. Они даже не позволяют Розе вытирать пыль… Кстати, мой альбом тоже пропал. Вы помните, Майлз, я показывал вам снимок старой пятьсот девятой модели, когда она была еще новой?.. На сортировочной станции?.. И фотографию, на которой были я, Сузан и двенадцатилетняя Клэр?.. Куда я положил альбом, когда мы покончили с ним?
— На книжный шкаф.
— Верно. Как и всегда. И мне кажется, когда я выключил свет, его уже не было. Зачем вору могут понадобиться эти снимки?
Хотел бы я знать!..
Они не расслышали тихого вскрика, донесшегося с улицы. Мои марсианские гиперакусисы бывают порой просто отвратительны: я слышу так много, что лучше бы не слышал вовсе. Но иногда они приносят чрезвычайную пользу.
Я не помню, как бежал. Я сразу очутился там, на заднем дворе, в луче света из кухонного окна, рядом с Анжело. Он стоял на коленях над кучей тряпок. Из-под тряпок наполовину торчало тельце Беллы со свернутой шеей.
— Зачем? — спрашивал Анжело. — Зачем?
Я поднял его на ноги, хрупкого, в мятой пижаме.
— Пойдем домой. Ты можешь снова понадобиться матери.
Он не заплакал и не выругался. Я бы хотел, чтобы он плакал или ругался. Но он только покосился на лестницу, на землю между нею и оградой. Почва была сухой, никаких следов. И тогда Анжело сказал:
— Я убью его, кто бы он ни был.
— Нет.
Он не слушал:
— Билли Келл может знать. И если это был «индеец»…
— Анжело!..
— Я найду его. И сверну ему шею!
— Анжело, — сказал я, — не надо. — Потом я откопал в памяти отрывок из «Крития»: — «И будет ли жизнь иметь ценность, если эта часть человека, которая совершенствуется справедливостью и развращается несправедливостью, окажется уничтоженной?»
Он узнал. Его глаза, затуманенные и скорбные, но теперь, по крайней мере принадлежащие ребенку, пристально смотрели на меня.
— Будь они прокляты!.. Будь они…
Проклятия наконец сменились плачем, и я облегченно вздохнул.
— Согласен! — сказал я. — Безусловно!
Его начало тошнить. Я придерживал его голову, но рвота так и не наступала. Тогда я отвел его на кухню, заставил плеснуть холодной водой в лицо и расчесать пальцами встрепанные волосы.
Из комнаты теперь доносился незнакомый бубнящий голос. Сияющий широкой улыбкой коп слушал Фермана, с симпатией поглядывая на Розу. Его проныра-собрат уже был наверху, беседовал с Маком. Я вытащил его наружу, показал лестницу. И Беллу.
— Почему, будь они прокляты…
Разница была в том, что слова Анжело переполняла внутренняя страсть. Патрульный же Данн привычно возмущался жестокостью и нарушением порядка. Он не говорил о свернутой шее. И не читал «Крития». Я понял из его замечаний, что в работе он узнает почерк некого Чаевника Уилли — проникновение с заднего двора, осторожное, без летального исхода, применение хлороформа. У Чаевника наверняка будет алиби, сказал Данн, а как было бы приятно упечь его за решетку!..
— Он — специалист по меблированным комнатам?
— Нет, — сказал Данн, не скрывая своей антипатии ко мне. — Да и не водятся здесь денежки, видит Бог. Но зацепку всегда можно отыскать. У вас что-нибудь пропало?
— По правде говоря, я не проверял, — солгал я. — Бумажник лежал у меня под подушкой.
Данн пошел в дом, бормоча на ходу:
— Я знаю здешнюю хозяйку уже десять лет. Люди вполне довольны миссис Понтевеччио, мистер.
В словах его звучало предостережение, но только потому, что я был тем, кто в Новой Англии зовется чужаком.
Они ухлопали около часа и в конце концов послали за дактилоскопической бригадой. Чаевник Уилли, будучи знаменитым опытным правонарушителем, разумеется, предугадал их ход — полагаю, Данн будет сильно удивлен, если дактилоскописты найдут хоть что-нибудь. Я сразу мог бы сказать ему, что взломщик был в перчатках. В 30829 году, когда Намир ушел в отставку, мы еще не пересаживали ткань на кончиках пальцев.
Данна мучили украденные альбомы с фотографиями. Думаю, он решил, что Уилли свихнулся от напряжения, присущего его профессии. Ферман и Мак потеряли немного денег. Старые леди хранили свои сбережения — по выражению миссис Кит — «в укромном местечке». Она не настаивала на более глубоком расследовании, намекая, что все полицейские — мошенники и враги бедных.
Я подумал: «Ого!»
В половине седьмого Данн и его приятель с добрыми пожеланиями оставили нас в покое. Партнер Данна при этом заявил мне, что ни один камень не останется неперевернутым. Больше мы о случившемся никогда от них ничего не слышали, поэтому я до сих пор представляю себе этого копа переворачивающим камни в изменчивых мировых пространствах. При всем моем уважении к мисс Кит я думаю, что полицейские — очень славные ребята, и только пожелал бы человеческим существам не совершать поступки, ожесточающие таких парней.
Предыдущим вечером, после приятного получасового космического путешествия, Шэрон Брэнд сумела-таки настроить себя на продажу мне таких вещей, как кофе и хлеб. Ее мать находилась в задней комнате («Она там с мигренью», — сказала Шэрон), а отец ушел на профсоюзное собрание. Шэрон наслаждалась заботой о магазине. Она очень квалифицированно разделалась с двумя-тремя покупателями, посмевшими прервать наши межзвездные приключения. И вот теперь сверток с моим завтраком напомнил мне о Шэрон. Если я вообще нуждался в напоминаниях…
Я посчитал оправданной озабоченностью. Уж если Шэрон была, по ее же определению, подружкой Анжело, то ею следовало заняться хотя бы ради целей моей миссии. Впрочем, я тут же перестал обманывать себя — Шэрон пробуждала во мне чувство одиночества вдали от моей собственной дочери, оставшейся в Северном Городе. Полагаю, Элман и мой сын будут живы спустя четыре или пять сотен лет, а о маленькой Шэрон Брэнд никто уже и не вспомнит. Цветок-однолеток и дуб — но очень-то справедливо.
Тем не менее семена живут, и цветение личностей может быть чудным даже на протяжении жалких семидесяти.
Я признался себе в большем. Шэрон как личность неким образом обогатила меня, что-то помогла понять в мальчике. Ей недоставало его раннего развития, ей могло не хватать его кипящей любознательности. Но вы представили меня себе самому, Дрозма. Наблюдатель Кайна не сообщила о Шэрон. Если бы она…
Еще не было девяти, когда я увидел в окно, что Анжело и его мать, нарядно одетые, отправились по Мартин-стрит к мессе. Роза чуть не падала от усталости, Анжело же казался слишком маленьким и тонким, чтобы хоть чем-то помочь ей. Я тоже вышел и не спеша двинулся в другую сторону — вниз по Калюмет-стрит.
Утро было теплым, сырым и безветренным. Солнце пробивалось сквозь легкий туман. Тропический день — день для ленивых, день, заставивший меня вспомнить пальмы Рио или океан, дремлющий возле пляжей Лусона,[12] где я когда-то жил, но это было так давно…
Я ощутил тревогу еще до того, как достиг «ПРО.У.ТЫ». Голос Шэрон, холодный, сдавленный и испуганный, донесся из-под входной арки дома, расположившегося по соседству с магазином:
— Не надо, Билли! Я никогда не скажу… Не надо!
Я заторопился, и мои шаги, по-видимому, наделали шуму. Во всяком случае, когда я приблизился, ничего особенного как-будто не происходило. Шэрон неуклюже опиралась на заколоченную дверь, почти скрытая от меня широкоплечим мальчиком. Правую руку она держала за спиной. У меня сложилось впечатление, что мальчишка только что отпустил руку Шэрон. Он повернул белокурую голову и пристально посмотрел на меня. Гораздо выше Шэрон, тринадцати, а то и четырнадцати лет, крепкий, красивый, но с таким тупым выражением лица, как будто только что нацепил маску. Да, иногда у людей это хорошо получается.
Шэрон слабо улыбнулась мне:
— Привет, мистер Майлз!
Мальчишка пожал плечами и двинулся прочь.
— А ну-ка вернись, — сказал я.
Он обернулся — взгляд дерзкий, руки в карманах.
— Ты обидел эту девочку?
— Нет.
Он был спокоен и нагл. Голос взрослого человека, ничего похожего на карканье подростков. Он вполне мог быть старше, чем казался на вид.
— Он обидел тебя, Шэрон?
Она еле слышно проговорила:
— Нет-нет-нет.
У нее был красный мячик на резинке. Она с задумчивым видом подкидывала его. Я вдруг заметил, что она держит мячик левой рукой.
— Шэрон, можно мне посмотреть на другую твою руку?
Она вытащила ее из-за спины неохотно, но рука была как рука — ничего особенного. Когда я решил перевести взгляд на мальчишку, того уже и след простыл. Шэрон с досадой ткнула кулачком в мокрые глаза и сказала в манере, витиеватой даже для суда Святого Джеймса:
— Мистер Майлз, как я могла бы наидостойнейшим образом отблагодарить вас?
— Не бери в голову… А кто был этот желтоволосый феномен?
Это помогло. Она кивнула, подтверждая ценность услышанного слова:
— Просто Билли Келл… Черт! Он и вправду феномен.
— Боюсь, мне он не понравился. Что ему было нужно?
Она поджала губы:
— Ничего. — Она подкидывала мячик с ужасной сосредоточенностью. — Он явный феномен. Не берите в голову. — И добавила вежливо, стремясь не обрывать разговора: — Я слышала, у вас побывал взломщик.
— Да быстро расходятся новости!..
— Черт, да я просто заглянула в ваш дом утром. Перед тем как Анжело начал наряжаться в церковь. Он говорит, что Догбери никогда не доберется до сути происшедшего… Ну и плевать на Догбери, как вы думаете?.. Кстати, вы клянетесь никогда не проболтаться, если я вам чего-то покажу?
Я сказал, что клятвы — дело серьезное, но ей это было известно. Она изучала меня столь долго, что кто-нибудь слабонервный успел бы сойти с ума, и наконец приняла решение. Бросив пристальный взгляд на улицу, она направилась в полуподвал, расположенный ниже уровня тротуара. Вход в него прятался за ступенями фасадного крыльца. Вместо деревянной двери он был заколочен доской.
— Вам придется поклясться, мистер Майлз.
Я проверил свою совесть и сказал:
— Клянусь!
— Вам придется перекреститься, чтобы все было по закону.
Я перекрестился, и она, сделав легкое усилие, левой рукой сняла доску. Однако левшой она не была: я замечаю подобные вещи. Я последовал за ней, по ее приказу закрыв за собой эту насмешку над дверью, и мы оказались в жарком грязном мраке, затхлом и туманном, пахнущем крысами и старой сырой штукатуркой.
Я заверил Шэрон, что прекрасно вижу дорогу, но она взяла меня за большой палец и повела мимо множества пустых упаковочных коробок и гор не поддающегося описанию мусора в дальнюю комнату, которая раньше — до того как дом был покинут жильцами — исполняла обязанности кухни. В Латимере очень много подобных домов, и отток населения на окраины вряд ли способен дать объяснение этому факту. Хотел бы я знать, не начинают ли люди понемногу ненавидеть города, которым они отдали столько сил…
Посреди заброшенной кухни неясно просматривалось огромное хрупкое сооружение — нечто собранное на скорую руку из старых упаковочных ящиков, этакий дом внутри дома.
— Подождите!
Шэрон нырнула куда-то в недра сооружения. Зажгла спичку. Родились два огонька.
— Теперь можете зайти.
Когда я протиснулся внутрь, она была молчалива и торжественна. Морская синева ее глаз напрочь растворилась в жутком мраке.
— Никто никогда не делал этого раньше. Кроме меня… Это Амагоя. — Она немного подумала и, явно опасаясь, что я окажусь недостойным правды, добавила: — Конечно, это не игра в «воображалки».
Это была игра и не игра. Дно перевернутого ящика изображало собой алтарь. На импровизированном престоле (полка над ящиком) лежало то, что всякий принял бы за тряпичную куклу.
— Амаг, — Шэрон кивнула на куклу, — просто образ, привыкший быть куклой. Куклы — это так по-детски, не правда ли?
— Возможно, но фантазия — всегда реальна. То, что находится внутри твоей головы, не менее реально, чем то, что окружает тебя снаружи. Просто это другой тип реальности, вот и все.
Две горящие свечи стояли в карауле, оберегая предметы, лежащие на ящике-алтаре. Обтрепанная мальчишеская кепка, перочинный нож, серебряный доллар.
— Я и в самом деле единственный человек, кто видел это, Шэрон? А Анжело?
— О нет! — она была потрясена. — Амагоя — это я, когда мне одиноко. И теперь вот вы… Потому я и заставила вас поклясться. Ну потому, что вы не смеетесь, когда это нельзя.
Увы, Дрозма, мне пришлось прожить триста сорок шесть лет, чтобы услышать в свой адрес столь значительный комплимент.
— Доллар. Он получил его как школьную премию и подарил мне на счастье. Перочинный нож, потому что я хотела и он сказал: «Держи!»
Слышали бы вы то выражение, с каким она произнесла местоимение «он»!..
— Кепку он просто выбросил.
Любые комментарии были сейчас неуместны — даже вежливые, даже со стороны марсианина. Впрочем, Шэрон и не ждала комментариев. Я глядел почтительно, и ей этого было вполне достаточно. Она с облегчением сменила тему, заговорила порывисто дыша и словно ни о чем.
— Отец вернулся с профсоюзного собрания пьяным. Устроил настоящее сражение… Ударил крышкой подъемника по плите, просто чтобы наделать шуму. Разнес ее ко всем чертям. Откровенно говоря, вы не поверите, с чем мне приходится мириться. Откровенно говоря…
— Подожди-ка, Шэрон! Этот Билли Келл… Мне кажется, он повредил тебе руку. Ты можешь сказать мне, что случилось?
— Я не могла позволить вам избить его. Откровенно говоря, я не могла бы взять на себя такую ответственность.
— Я не избиваю людей. Я бы просто слегка припугнул его.
— Он не из пугливых, да и все равно я не боюсь его. Он на самом деле не ломал мне палец, просто притворился, что сломает.
Она не была изобретательной во лжи, и я добился своего простым молчаливым ожиданием.
— Ну, он пытался заставить меня сказать… кое-что, о чем я не скажу, и все. При меня и Анжело. Билли может пойти утопиться. Он явный феномен, мистер Майлз…
— А палец?
— Все в порядке, честно… Смотрите, как играют гамму.
Она продемонстрировала, прямо на полу. И я обнаружил, что ее рука цела и невредима. А потом я обнаружил, что ее большой палец прекрасно знает, как с абсолютной четкостью подкладываться под остальные пальцы. И это после одного-единственного урока. Медленно, разумеется, но правильно!..
Вы сами, Дрозма, благожелательно отзывались обо мне как о пианисте. Но я знаю, что мы никогда не сможем сравниться с лучшими музыкантами-людьми. И совсем не потому, что наши искусственные пятые пальцы недостаточно подвижны для фортепиано… Вам никогда не приходило в голову, что причина только в том, что человеческие существа, живущие столь короткое время, всегда помнят об этом в своей музыке?
— Я озадачен, Шэрон. Сегодня утром Анжело говорил что-то о Билли Келле. Вроде бы они друзья, как я понял.
В ее голосе зазвучала взрослая горечь:
— Он думает, что Билли ему друг. Однажды я пыталась доказать обратное. Он мне не поверил. Ведь он считает, что все вокруг хорошие.
— Не знаю, Шэрон… Не думаю, чтобы кому-то, кто бы он ни был, удалось дурачить Анжело достаточно долго.
Что ж, это была удачная мысль, и она, казалось, заставила Шэрон почувствовать себя гораздо лучше.
Она снова искусно переменила тему:
— Если вы хотите, мы могли бы сделать Амагою космическим кораблем. Иногда я так делаю.
— Здравая идея.
Откуда-то из глубин мертвой кухни донеслись крадущиеся быстрые шаги.
— Не берите в голову, — сказала Шэрон. — Знаете, когда я ухожу отсюда, я все закрываю другим ящиком. Чтобы не подпустить феноменов…
Когда я вернулся с космического корабля, на ступеньках крыльца меня встретил нарядно одетый Анжело и передал приглашение хозяйки на чашечку кофе. Ферман был уже внизу. Чашечка кофе, согласно воле Розы, состояла из пиццы и полудюжины других соблазнительных блюд. Сама Роза в воскресном наряде выглядела увядающей от чего-то более значительного, чем утренняя жара.
— Вы хотели тишины и покоя, мистер Майлз, — произнесла она с сожалением.
— Зовите меня Беном.
Я старался расслабиться, но не потерять чопорности «мистера Майлза». Уж тот-то не имел никаких шансов сойтись с Шэрон поближе, подумалось мне.
Мы опять вспомнили альбомы с фотографиями. Ферман снова и снова возвращался к одному и тому же вопросу: зачем они могли понадобиться вору?
— А у нас внизу ничего не пропало, — сказал Анжело. — Я проверял.
Через некоторое время Ферман нерешительно произнес:
— Анжело, Мак сказал мне, что он… ну… выкопает место. Во дворе. Если ты хочешь, чтобы он это сделал.
Анжело поперхнулся:
— Если это позволит ему чувствовать себя лучше…
— Дорогой мой, — почти прошептала Роза. — Angelo mio… пожалуйста…
— Извините, но не передаст ли кто-нибудь Маку, что я уже вышел из пеленок?
— Ну, сынок, — сказал Ферман. — Мак как раз подумал…
— Мак как раз не подумал!
Наступила натянутая тишина. Потом я не выдержал:
— Слушай, Анжело… Будь терпелив к людям. Они стараются.
Он с раздражением глянул на меня поверх симпатичного кухонного столика, но раздражение это тут же исчезло. Теперь он казался озадаченным: вероятно, его одолевали мысли о том, кто я и что я, какое место я занимаю в его тайно расширяющимся мире. Справившись с собой, он извинился:
— Простите, дядя Джейкоб! Пусть Мак сделает это. Я обозлился, потому что из-за моей поганой ноги не справляюсь с лопатой.
— Анжело, не употребляй таких слов!.. Ведь я же просила тебя!
Его лицо сделалось свекольно-красным. Ферман не выдержал:
— Пусть, Роза. На этот раз… Я бы и не так выражался, если бы Белла принадлежала мне. Ругань еще никогда никому не приносила вреда.
— Воскресное утро, — захныкала Роза. — Всего час, как закончилась месса… Ладно, Анжело, я не сержусь. Но не говори так. Ведь ты же не хочешь быть похожим на этих мальчишек-хулиганов с улицы!
— Не такие уж они и хулиганы, мама. — Билли Келл напускает на себя такой вид, но это ничего не значит.
— Хулиганские слова делают хулиганским мышление, — сказал Ферман, и эта мысль, похоже, не возмутила Анжело.
Вскоре я откланялся. Анжело вызвался проводить меня. Едва мы подошли к лестнице, он вдруг спросил:
— Кто вы, мистер Майлз?
Это было в его стиле — закончить разговор пренеприятнейшим вопросом. Я не имею в виду, будто меня обеспокоило мое марсианское происхождение — нет, конечно. Мне не понравилось то, что придется уклоняться от правдивого ответа.
— Ничем не примечательный экс-учитель, как я уже говорил твоей матери. А в чем дело, дружок?
— Ну-у, ваша манера истолковывания некоторых вещей… э-э…
— Не такая, как у большинства людей?
Он пожал плечами, и от этого телодвижения за версту несло тщательной продуманностью — так оно было изящно.
— Я не знаю… Я встретил в парке одного старика, около месяца назад. Возможно, и он… Он обещал дать мне на время несколько книг, но больше я его не видел.
— Что за книги, не вспомнишь?
— Некто по имени Гегель. И Маркс. Я пытался взять Маркса в публичной библиотеке, но они выдать отказались.
— Сказали, что дети не читают Маркса?
Он быстро взглянул на меня, и во взгляде этом явно присутствовала некоторая доля недоверчивости.
— Я мог бы взять их для тебя. Если хочешь.
— Возьмете?
— Разумеется! И эти, и другие… Никогда не разберешься, что такое хорошо, а что такое плохо, пока не доберешься до первоисточника. Но пойми, Анжело, — ты пугаешь людей. И тебе известно почему, не так ли?
Он покраснел и, как всякий маленький мальчик, шаркнул носком ботинка по полу.
— Я не знаю, мистер Майлз.
— Люди думают строго определенным образом, Анжело. Они представляют себе двенадцатилетнего мальчика таким и никаким другим. Когда появляется ребенок, мысли которого не соответствуют его возрасту, у людей возникает ощущение, будто покачнулась земля. Это их пугает. — Я положил ему руку на плечо, желая донести до него то, что не выразишь словами.
Он не отстранился.
— Меня, Анжело, это не пугает.
— Нет?
Я попытался скопировать его изящное пожатие плечами:
— В конце концов Норберт Винер[13] поступил в университет будучи одиннадцатилетним.
— Да, и у него тоже были сложности. Я читал его книгу.
— Тогда тебе известно многое из того, что я пытаюсь объяснить. Ну, а как насчет других книг? Что ты любишь читать?
Он забыл об осторожности и воскликнул:
— Все! Все что угодно!
— Роджер![14]
Я стиснул его плечо, опустил руку и отправился наверх. Не уверен, но мне показалось, будто он прошептал мне вслед:
— Спасибо!
В полдень я сидел у себя в комнате, обдумывая свои действия и тщетно стараясь предугадать, какими будут следующие шаги Намира. Заглянул Ферман, разодетый и несерьезный. Заявил, что у него свидание с женой. В его возрасте, думаю, и в самом деле не стоит придавать особое значение воскресным визитам на кладбище. Он брал с собой Анжело и пригласил присоединиться к ним.
Его «развалюхой» оказалась модель 58-го года. Едва мы потарахтели по Калюмет-стрит, Анжело показал мне модели 62-го и 63-го. Их линии восхитили меня. Мои спутники вовсю болтали о машинах, и я оказался единственным, кто заметил этот серый двухместный автомобиль. Он все время держался позади нас. А когда мы покинули городские улицы, последовал за нами и на хайвэй.[15]
— Кладбище не в Латимере?
— Нет. Родственники Сузан были родом из Байфилда. Она пожелала, чтобы ее похоронили именно там. Около десяти миль. Она была Сузан Грейнгер. Говорят, Грейнгеры жили в Байфилде с 1650 года… А мой папа приплыл третьим классом.
— Как и мой дедушка, — сказал Анжело. — Кому это теперь интересно?
Ферман посмотрел на меня, прищурился и улыбнулся. Я сказал:
— Мир один, Анжело?
— Конечно. А разве нет?
— Мир один, а цивилизаций много.
Он выглядел взволнованным.
— Ну что ж, — сказал Джейкоб Ферман, — я из тех, кому нравится идея насчет единого мирового правительства.
— А я боюсь этого, — заметил я, наблюдая за Анжело. — Сделаться монолитными так же легко, как для индивидуалистов убить индивидуализм, не познав его. Почему бы не существовать семи или восьми федерациям — по числу основных цивилизаций?.. Федерациям, соблюдающим общемировой закон, признающий с их стороны право быть различными и неагрессивными?
— Думаете, мы когда-нибудь сможем получить подобный закон? — с сомнением произнес Ферман. — А каковы в этом случае гарантии против войны, Майлз?
— Гарантия только в моральной зрелости людей, и никаких других!.. Разумно организованные политические структуры могли бы оказать значительную помощь, но риск войны не исчезнет до тех пор, пока люди не перестанут считать, что можно оправдывать ненависть к чужакам и присвоение силой. Главное — человеческое сердца и умы, а все остальное — механика.
— Ого, да вы — пессимист!
— Вовсе нет, Ферман. Однако я напуган всеобщим стремлением видеть все исключительно так, как хочется тебе самому. В политике именно такое стремление дает волкам разрешение на вой.
— Хм-м… — Старик стиснул костлявое колено Анжело. — Как ты думаешь, Анжело, мы с Майлзом уже достаточно стары, чтобы не ломать голову над такими вещами?
Анжело отверг бы подобный сарказм со стороны кого угодно. Но не стороны дяди Джейкоба. Он хихикнул и нанес кулаком по плечу Фермана воображаемый удар. Так мы дурачились до самого Байфилда. Серый двухместный автомобиль продолжал плестись позади, и я перестал обращать на него внимание. Дорога была прекрасной, а мое воображение могло перегреться. Однако Ферман вел машину с медлительной осторожностью, так что большинство машин обгоняли нас. Едва мы притащились на автостоянку около кладбища, серый автомобиль прибавил скорость и пролетел мимо. Водитель пригнулся, явно не желая, чтобы его увидели.
Анжело был здесь не впервые: Ферман уже привозил его на кладбище. Мне бы следовало составить компанию Джейкобу и проводить его до могилы, но Анжело помотал головой и потащил меня на покрытый зеленью вал, расположенный в наиболее старой части кладбища. С точки зрения американца, там были совершенно древние захоронения, поскольку некоторые полуразрушенные надгробные камни были установлены еще три столетия назад, когда я был мальчиком. Анжело водил меня среди них без тени улыбки на губах, а ведь большинство молодых откровенно ржали бы, разглядывая труды давно умерших каменщиков, символически изобразивших ангелов круглоглазыми и с несколькими штрихами в камне вместо волос.
— Представляете, все, что у них было, — это песчаник или как его там…
— Да, за прошедшие столетия вроде бы научились обрабатывать мрамор.
— Конечно! — он рассмеялся. — Ну что такое эти несколько столетий?
Он сидел на валу, жевал травинку, качал ногой. Преисполненный спокойствия, с залитой солнечным светом седой головой, Джейкоб Ферман находился в полусотне шагов от нас и казался на своем острове созерцания более далеким, чем на самом деле. Он смотрел свысока на любую истину, которую видел в этом скромном землянином холмике и там, дальше, среди летних облаков и вечности. В человеке помоложе это могло бы показаться болезненно сентиментальным, по крайней мере для тех, кто всегда спешит навесить ярлыки на странности других. Но Ферман был слишком основательным и внутренне спокойным, чтобы беспокоиться о ярлыках. Потом он сел на землю и подпер голову рукой, безразличный как к сырости, так и к скрипу старческих суставов.
Анжело пробормотал:
— И вот так каждое воскресенье, хоть дождливое, хоть солнечное. Да-да, даже когда идет дождь. Разве что тогда он не сидит на траве… И зимой — то же самое.
— Думаю, он любил ее, Анжело. Ему нравиться быть здесь, где ничто не мешает думать о ней.
Тем не менее я блуждал среди призраков. Мой нос ощущал запах хлороформа, мои глаза видели, как юный геркулес с тупой физиономией нависает над Шэрон в дверном проеме, а потом снова замечали серый двухместный автомобиль, которому давно следовало обогнать нас. Мелочи… Не случилось ничего угрожающего, кроме смерти Беллы. Тепло и прелесть этого дня делали абсурдным предположение, будто впереди может ждать угроза. Но даже в залитых солнцем тихих джунглях вы вдруг можете заметить краем глаза промелькнувшее среди зелени черное с оранжевым, полосатое нечто. А потом зашуршат среди полного безветрия листья… Я деланно зевнул, надеясь, что зевок покажется натуральным и придаст небрежность заданному вопросу.
— Ты ходишь в церковь, Анжело?
— Конечно.
Его лицо стало неуловимо настороженным. Было вполне вероятно, что он догадывается о неслучайности вопроса, знает о моих попытках прощупать его мысли и желает знать, давать ли мне право на подобные исследования.
— Я даже пел в церковном хоре год назад, — продолжал он. — У мальчишки, стоявшего впереди меня, были уши, как у муравьеда. Я все время сбивался. — Он запел чистым контральто, удивительно звучащим на открытом воздухе: — Ad Deum qui laetificat juventutem meam… — Потом пожевал травинку и улыбнулся.
— И это приводит тебя в восторг?
Он захихикал:
— Теперь вы говорите как тот человек, с которым я беседовал в парке. Он сказал, что религия — обман.
— Я не считаю ее обманом, все-таки мне случалось быть агностиком. Дело в личной вере. В любом случае тебе следует ходить в церковь — хотя бы только потому, что так считает твоя мать… Ведь она, я думаю, набожна, не так ли?
Он быстро взял себя в руки:
— Да…
— Расскажи мне о Латимере. — Я смотрел, как он покачивает здоровой ногой — легко и изящно. Искривленная была в шине. — Я мог бы поселиться здесь.
Он проговорил с сомнением:
— Ну, он не велик. Люди говорят, запущен. Я не знаю…
Полно пустых домов. Редко что случается. Пригородны хороши — как здесь. И когда выезжаешь за город… Господи, если бы я мог! Вы знаете, просто ходить целый день, взбираться на холмы… Я прохожу милю, а затем вот тут, сзади, начинает болеть нога. И прогулке — конец…
— Думаю, я достану машину. Тогда мы могли бы выбираться на природу.
— Господи! — его глаза загорелись надеждой. — Провести целый день в лесу! Я мог бы взяться… Знаете, эта картина, та, что в вашей комнате… Думаете, там нарисовано место, которое я видел в действительности?.. Совсем нет. Я видел места, похожие на него… березы… Иногда дядя Джейкоб берет меня в поездки. Но когда я вылезаю из машины, он не отходит от меня ни на шаг. Беспокоится о моей ноге, вместо того чтобы позволить мне самому беспокоиться о ней. И оставить меня, когда я готов… — Он замолк и посмотрел мне в глаза. — Я люблю зверей. Знаете, такие маленькие существа, которые… Я читал, если сесть тихо в лесу, через некоторое время они начнут ходить вокруг и не бояться.
— Это правда. Я часто делаю так. Большинство птиц не обращают не тебя внимания, если ты не шевелишься. Наоборот, это их не беспокоит, это выглядит менее подозрительным. Ко мне достаточно близко подлетали иволги. И краснокрылый дрозд. А однажды на меня наткнулась лиса. Я сидел на ее любимой тропе. Она всего-навсего смутилась и обошла меня… Кстати, я тут встретил кое-кого из твоих друзей. В продуктовом магазинчике. Шэрон Брэнд.
Его мысли все еще гуляли по лесу, и он произнес с отсутствующим видом:
— Да, она милый ребенок.
— В некотором роде ты вырос вместе с ней.
— В некотором роде. Года четыре-пять — точно. Мама… не очень любит ее.
— Но почему? Я думаю, Шэрон — славная девочка.
Он сорвал свежую травинку и осторожно произнес:
— Родичи Шэрон — не католики…
— А Билли Келл — католик?
— Нет. — Он был ошеломлен. — Билли? Когда это я…
— Сегодня утром, Анжело. Когда мы нашли Беллу. Ты сказал: «Билли Келл может знать».
— Я так сказал? — он недовольно вздохнул. — Господи!..
— Ты еще сказал что-то об «индейцах». Кто они? Банда?
— Да.
— Твоего возраста?
— Да. Чуть старше.
— Хулиганы?
Он улыбнулся, и это была улыбка, которой я никогда не видел. Словно он примерил хулиганство на себя, пытаясь понять, как он будет выглядеть в подобном костюме.
— Они считают именно так, мистер Майлз, но слушать их — все равно что мазать битой по бейсбольному мячу.
— Похоже, ты не очень-то их любишь.
— Это свора… — он замолк, оценивающе глядя на меня.
Думаю, он решал, как я отнесусь к непристойности в устах двенадцатилетнего, и, похоже, принял решение не в мою пользу. Во всяком случае, закончил он совсем другим тоном:
— Эти ублюдки никому не нравятся.
— А чем они вообще занимаются?
— Дерутся, не соблюдая никаких правил. Кроме того, полагаю, воруют фрукты и продают их на обочинах дорог. Билли говорит, что некоторые из старших — грабители, а у некоторых в карманах перья… Я имею в виду ножи.
Мне не понравилась его улыбка. С его характером, который, мне казалось, я начинаю узнавать, у него не должно было быть подобной улыбки.
— Большинство из них, — продолжал он, — уроженцы… ну, того района, где живут бедные. Это южный конец Калюмет-стрит… Есть сигареты?
Я достал одну сигарету и дал ему прикурить. Ферман не видел, но, думаю, с ним-то мы бы договорились в любом случае.
— Анжело! — сказал я. — А нет ли у «индейцев» конкурентов?
Он пребывал в сомнениях совсем не долго.
— Разумеется! «Стервятники». Это банда Билли Келла. — Он курил небрежно, глубоко затягиваясь и не кашляя. — Вы знаете, я однажды видел, как Билли колет грецкие орехи. Просто кладет орех на бицепс и сгибает руку. Связываться с Билли Келлом желающих нет. — Он помолчал и добавил таким тоном, будто пытался убедить себя в чем-то весьма значительном: — «Стервятники» — нормальные ребята.
— И у тебя есть о чем разговаривать с ним? С этим самым Билли Келлом…
Он прекрасно понял смысл моего вопроса, но притворился, будто до него не доходит.
— Что вы имеете в виду?
— Когда я впервые встретил тебя вчера, ты читал «Крития». Именно это я и имею в виду.
Он ответил уклончиво:
— Книги — далеко не все… Билли хорошо учится, все время получает «ашки».[16]
— А как школа? Достаточно приличная?
— Нормальная.
— Но тебе приходится ломать комедию, верно?
Он затушил сигарету о камень. И, помолчав, сказал:
— Они занимаются ужасными вещами. Может быть, я тоже. Иногда… Я не очень способный к математике. Да и к труду… Видели бы вы скворечники, которые я пытался сделать! Они скорее были похожи на собачью конуру.
— А к чему у тебя есть способности?
Он скорчил рожицу.
— К предметам, которые у них не преподаются. К примеру, «Критий», мистер Майлз. Философия.
— А этика?
— Ну, я достал университетский учебник в библиотеке. Я не ожидал, что в нем так много доказательств. У них там Спиноза. Я и пытаться не стал.
— И не пытайся. — Я схватил его за здоровую лодыжку, словно не позволяя ему прыгнуть. — Ты опередил свой возраст, дружок, но до Спинозы ты еще не дорос. Не уверен, что даже я до него дорос. Если ты сумеешь одолеть его, это, разумеется, хорошо, но лучше пусть он подождет… Когда я работал в школе, я преподавал историю. Как насчет этого предмета?
— Они не преподают ее, а вдалбливают. Забивают твою голову лозунгами. Скажут вам одно, а потом вы возьмете книгу в библиотеке, и там совершенно противоположное. Ну и кто прав? Мне кажется, учитель преподносит нам все так, как он видит сам. Нам же остается только проглотить и выложить ему его же мнение. Если вы считаете иначе, вам «Е»[17] за достижения. В школьных учебниках говорится, что в 1776 году мы отделились от Англии, потому что британский империализм экономически душил колонии. Декларация независимости утверждает, что мы сделали это по политическим мотивам. А на самом деле — по обеим причинам, не так ли?
— Это были две из множества причин, Анжело.
Я никогда не примирюсь с нашим притворством, Дрозма. Мне хотелось рассказать ему о том, как я наблюдал за кораблями французского флота, входящими в Чесапик перед Йорктауном![18] Помню я и осеннюю бурю, поднявшуюся в тот день, когда бедняги в красных мундирах[19] пытались переправиться через реку… Пожалуй, я не мог бы описать ему эту переправу подробно. Или мог бы — не знаю…
— История не укладывается в планы любых преподавателей, — сказал я, — потому что она бесконечно велика. Приходится производить отбор событий и фактов, и, производя подобный отбор, даже лучший из преподавателей не способен избежать своего предвзятого отношения к ним. Конечно, учителя обязаны напоминать вам об этой сложности, но, полагаю, не напоминают.
— Да, не напоминают. Федералистские документы тоже не все объясняют экономикой. Я читал их, а это не положено. Нет, учительница не ругала меня за это. Она сказала: прекрасно, что я предпринял такую попытку, но она боится, что это окажется выше моего понимания. А кроме того, пусть федералистские документы привлекательны своей стариной и интересны, но они не являются частью нашего курса. Так не буду ли я повнимательнее в классе и не продемонстрирую ли интереса к школьному курсу?
— Тебе не кажется, Анжело, что в некоторые дни попросту не стоит вставать с постели?
Моя реплика ему понравилась. В приступе смеха он выронил изо рта травинку и тут же сорвал другую.
— Ништяк, мистер Майлз!
На жаргоне тинэйджеров 30963 года это означает, что вы — молодец. Впрочем, Анжело употреблял такие словечки крайне редко. Ведь нормальным английским языком он владел более четко и красиво, чем любые взрослые, с которыми я встречался при выполнении этой миссии.
— А ты входишь в банду, о которой говорил? Я имею в виду банду Билли Келла… Ничего, если я лезу не в свое дело?
Он перестал смеяться и отвернулся.
— Нет, не вхожу. Но, думаю, они бы хотели, чтобы я присоединился. Я не знаю…
Я молча ждал, а молчать было нелегко.
— Если я сделаю это, — сказал он наконец, — мне бы не хотелось, чтобы узнала мама.
— А присоединившись, ты должен будешь согласиться со всеми их действиями, верно? Обычно это главное условие.
— Может быть, и так.
Он спустился вниз — лениво, руки в карманах. Передо мной снова был хулиган, показной и насквозь фальшивый. И я вдруг понял, что вторгся в область, где он не примет от меня никакого совета. И что он не собирается отвечать на незаданный вопрос. Его взгляд был не сухой, но полусонный. Он уже спрятался — хоть и не очень глубоко — в тысячецветной глубине души, которую я так никогда и не узнаю. И до конца жизни не забуду, как напоминал он мне порой небесное создание с картины Микеланджело «Мадонна с младенцем, святым Иоанном и ангелами». (Я купил неплохую копию и до сих пор храню ее. Иногда детская фигурка на ней кажется мне более похожей на Анжело, чем фотография, которая якобы говорит полную правду).
— Машина, которую я достану, — сказал я, — скорее всего, будет развалюхой, Как насчет форда пятьдесят шестого года?
— Отлично! — он ослепительно улыбнулся и показал мне сомкнутые колечком большой и указательный пальцы правой руки — американский жест, который означает, что все в полном порядке. — Любая старая колымага, и вы уже будете не в состоянии отделаться от меня. — Анжело прихромал к ближайшей могиле и потер пальцем полуразрушившиеся буквы. — Здесь лежит парень, который «отыскал свою награду 10 августа 1671 года, служитель Христа». Звали его Мордекай Пэйкстон.
Анжело принялся очищать паутину с наклонившегося, наполовину погрузившегося в землю камня. Потом вдруг опустил руку и сказал:
— Нет, ведь ему придется плести новую сеть. А кроме того…
— А кроме того, они с Мордекаем живут в полном согласии. Возможно, эта паутина принадлежит прямому наследнику паука, который знал Мордекая лично.
— Возможно, — сказал он. — Однако все остальные забыли Мордекая. — Он сорвал несколько веселых одуванчиков и воткнул их в землю вокруг камня. — Ему и его бакенбардам. — Он поднял на меня сияющие глаза. — Так обычно делает Шэрон. Выглядит лучше, верно?
— Гораздо лучше.
— Держу пари, у него были пышные бакенбарды.
— И он был человеком с большими странностями.
Мы обсудили внешность Мордекая. Я предположил, что бакенбарды были рыжими, но Анжело заявил, что бакенбарды черные и щетинистые, Мордекай был толстяком и Сатана постоянно искушал его соблазнительной свиной отбивной. Мы угомонились, лишь когда вернулся Ферман, и не потому, что старик возразил бы против смеха.
Помню, когда мы ехали домой, я снова видел сзади серый автомобиль. Едва мы остановились возле придорожного кафе, он пронесся мимо так же стремительно, как и в первый раз. В кафе Анжело уничтожил пугающее количество фисташкового мороженого. Когда мы снова загрузились в машину, он рыгнул, сказав: «О, хлористый водород!» — и уснул, приникнув ко мне.
Всю оставшуюся дорогу я находился в опасности. Но голова Анжело была не совсем на моей груди, да и спал он слишком крепко, чтобы заметить, что мое сердце бьется один раз в шестьдесят секунд.
Что мы такое, Дрозма?
Больше чем люди, когда следим за ними? Или меньше, когда разбиваем крылья о стекло?
Следующую неделю моя память превратила в калейдоскоп незначительных событий.
Проснулся поздно. Шэрон и Анжело водружали кучу булыжников, отмечая на заднем дворе место, где была похоронена Белла. Если бы я не был очевидцем вчерашней вспышки гнева, я мог бы предположить, что Анжело нравится это занятие. Но вот он сделал шаг за спину Шэрон, и притворство слетело с его лица. Это было лицо терпеливого человека, лицо, отмеченное печатью нежности, — как у взрослого, наблюдающего за детской игрой в «воображалки», — лицо человека, вспоминающего леса, равнины и пустыни зрелости. Потом они отправились в южный конец Калюмет-стрит, в городские джунгли… Я сидел с пустой головой перед пишущей машинкой и убеждал себя, что «мистеру Бену Майлзу» следует поубедительнее играть свою роль, роль парня, всегда находящегося накануне написания книги, но никогда не совершающего подобного подвига… Посетили с Анжело «ПРО.У.ТЫ» (это было во вторник), но Шэрон не нашли, зато обнаружили в магазинчике маленького беспокойного чудака, оказавшегося отцом Шэрон. Он по-дружески поговорил с Анжело о бейсболе и ничем не был похож на сокрушителя чугунных плит… Встретил в баре Джейка Макгуайра, возвращающегося с работы в гараже. Мы начали с кражи, но в конце концов перешли на Анжело.
— Сидеть весь день, уткнувшись носом в книгу, — вредно, — сказал Мак. Конечно, с его ногой он никогда не станет спортсменом, но даже при такой ноге это вредно. Он вырастет кривобоким чудаком. Если бы он был моим ребенком, я бы этому сразу положил конец. Но что мы можем сделать?
Я не знал…
Ничто на этой неделе не вызывало у меня подозрений о присутствии поблизости Намира.
Я снова увидел Билли Келла из окна. Он играл с Анжело бейсбольным мячом на Мартин-стрит, и мне вдруг подумалось, что мое первое впечатление о нем может и не соответствовать истине. А не заблуждалась ли Шэрон?.. Да, он мучил ее, но, возможно, она сама спровоцировала такое поведение с его стороны. Играя в мяч, Билли казался совсем другим человеком. Он бросал так, чтобы Анжело не приходилось много двигаться, но, с другой стороны, ухитрялся заставить Анжело поработать. В поведении Билли не было снисходительности, а в громких замечаниях — проявлений покровительства. Он не по-мальчишески серьезно старался дать Анжело возможность провести время с пользой. Устав от игры, они уселись на бордюрный камень — светлая и темная головы, ведущие меж собой некую дружелюбную беседу. Беседа выглядела пустопорожней: Билли не казался ни настаивающим, ни убеждающим в чем-то собеседника. Когда Роза позвала Анжело ужинать, тот обменялся с другом странным прощальным жестом — вскинул руку с вывернутой ладонью. Я помнил, что Билли Келл командует «стервятниками». Но Анжело ведь утверждал, что еще не присоединился к банде…
В четверг вечером я ужинал с Понтевеччио. Компанию нам составили и обе старые леди. Роза старалась от души. Она так и порхала — с ее-то комплекцией! — перед плитой и вокруг стола. Я поражался, как много, при ее крошечном доходе, тратит она на такие вечеринки. И все это вовсе не было расточительством, просто Роза по натуре была дарительницей, гостеприимство требовалось ее душе, как кислород телу. Получив возможность похвастаться красивой скатертью и напичкать гостей разнообразными блюдами, Роза становилась румяной и энергичной. Исчезла куда-то усталая, обеспокоенная, толстая женщина, и я видел перед собой мать Анжело.
Миссис Дорис Кит, величественная, с седыми волосами, в сером шелке, при аметистовой броши, явно склонная к мишуре, заставила меня вспомнить, что когда я увидел ее впервые, она была в хлопчатобумажной рубашке и вопила от ужаса. Высокая — шести футов ростом — в те времена, когда ей еще не было нынешних семидесяти лет, она, по-видимому, отличалась весьма суровым нравом. Миссис же Мапп, думается, всегда была доброй и медлительной, а в юности — и вовсе прелестница-возлюбленная. Хотя именно миссис Мапп некогда учительствовала — преподавала искусство и музыку в старших классах женской школы. Что же касается миссис Кит, она никогда не предпринимала попыток сделать хоть какую-нибудь карьеру, кроме карьеры домохозяйки, и в достаточной степени воинственно сообщала об этом. Когда их мужья много лет назад почили вечным сном, две леди создали некий симбиоз, по-видимому, вполне устраивающий их, и собирались прожить в этом состоянии весь остаток своей жизни. Надеюсь, к ним придет счастье и умереть в один день.
— Анжело, — сказала миссис Кит, — покажи Агнес свою последнюю работу.
— Да я почти ничего не закончил.
Она принялась любезно увешать его, как взрослого:
— Никто не может идти вперед без квалифицированной критики. Каждый должен внести свою лепту.
— Да я просто валяю дурака.
Тем не менее его зацеловали и уговорили принести две картины. Отправляясь за ними, чертенок подмигнул мне. Три кобылы среди высоких трав, головы устремлены к приближающемуся огромному красному жеребцу. Цвета ревущие, как ветер в горах. Встреча бури и солнечного света, свирепая и радостная, кричащая и вызывающе сексуальная. Чертенка следовало бы хорошенько отшлепать… Другая картина была мягким сказочным пейзажем.
Я должен был признаться себе, что леди были столь же смешными, сколь и трогательными. Их усердные замечания касались чего угодно, но только не очевидного.
— Цвет, — отважно заявила миссис Мапп, — слишком экстравагантный.
— Да, — сказал Анжело.
— А эта нога немного длинновата. Думаю, тебе нужно рисовать с модели.
— Да, — сказал Анжело.
— А массы… Учись размещать массы сбалансированно, Анжело.
— Да, — сказал Анжело.
— Теперь эта… — миссис Мапп с немалым облегчением взяла в руки пейзаж. — Эта… хм… неплоха. Она миленькая, Анжело. Очень даже миленькая.
— Да, — сказал Анжело.
Роза рассмеялась. Безо всякого намека на смущение, потому что чего-чего, а смущения в этой женщине, наполненной только сердечностью и восхищением, и быть не могло. После того как Анжело вернулся, унеся свои рисунки, она не отпустила руки от его кудрей. И в то же время она абсолютно не воспринимала своего сына в качестве художника. В той же мере, как книги, которые читал Анжело, были для нее страной за семью морями, так и рисунки двенадцатилетнего ребенка в ее представлении не могли иметь никакого значения для окружающего мира. Тот факт, что своей небрежной виртуозностью он уже достиг порога, к которому большинство художников стремятся всю жизнь, был выше ее понимания. Доброжелательное невежество стало для нее щитом, за которым она пряталась от реальной жизни.
Пока старые леди помогали Розе с уборкой стола, Анжело показал мне свою комнату. Я не старался выглядеть сердитым и не стал ему объяснять, что ошеломить и шокировать маленькую миссис Мапп — невелико достижение. Он уже и сам понял это и казался весьма расстроенным.
Комната была узкой и крошечной. Единственное жалкое окошко почти упиралось в тротуар на Мартин-стрит. Для койки, книжной полки и мольберта едва хватало места. И тем не менее это была студия, в которой создавались шедевры, недооценивавшиеся даже самим автором.
Анжело вытащил из кипы, лежащей у стены, еще один рисунок. Рисунок казался простым и технически незаконченным, но художник был прав в своем нежелании продолжать с ним работу.
Изогнутая странным образом рука, пытающаяся подхватить падающего тигра. Пасть зверя перекошена в непостижимо безнадежном рыке. Из полосатой шкуры торчит дротик…
— Ты несомненно веришь в Бога, Анжело.
Взгляд его был полон досады.
— Рука символизирует человеческую жалость, не так ли?
И тут мне показалось, что в тот момент, когда я сделал свой скороспелый вывод, душа Анжело наконец рассталась с этой картиной. Подавленный, он плюхнулся на койку, подпер руками подбородок.
— Мне лучше извиниться?
— Не стоит.
— Что вы хотите сказать?
— Твои извинения могут смутить ее еще сильнее. Почему бы не оставить все как есть? А на будущее запомнить, что милые старые леди и похотливые жеребцы не слишком ладят друг с другом. Вопрос из области эмпирической этики.
Я обнаружил, что слово «эмпирическая» не озадачило его. Он знал это слово и не находил его необычным.
Подумав некоторое время, он вздохнул:
— О'кей, — успокоенный, но неудовлетворенный.
Случившееся продолжало терзать его душу. Именно поэтому, полагаю, он в скором времени подарил миссис Мапп «очень даже миленький» пейзаж, сопроводив подарок сентиментальными цветистыми выражениями. И стойко, как истинный джентльмен, перенес те минуты, пока его осыпала поцелуями и слишком долгими благодарностями.
Следующее воскресенье принесло с собой теплый, непрекращающийся дождь. Все утро я посвятил чтению воскресной газеты. Оценивать новости оказалось достаточно сложным занятием — ведь я слишком сильно нуждался в оценке самого себя. За неделю у меня не появилось ничего похожего на какой-либо заслуживающий внимания план действий. Я узнал кое-что об окружающей среде, кое-что о Розе, Фермане и Шэрон и почти ничего о Билли Келле.
Через день после поездки на кладбище мне пришлось заниматься поисками места, где можно было бы приобрести дешевую подержанную машину. Ничего внушающего доверия я однако не обнаружил, после чего был вынужден связаться по телефону с Торонто. Это трата, которую можно оправдать, Дрозма, даже если она предназначена лишь для того, чтобы позволить Анжело познакомиться с лесом… Во всяком случае, я побывал в большинстве храмов и соборов всего мира, но покой, который я иногда находил в них, был не более чем жалким подобием того покоя, который обретаешь, оказавшись под арками из живой листвы.
У меня по-прежнему не было ни малейшего представления о том, где находится и что замышляет Намир. Украв фотографии и дистроер, а также прекрасно владея марсианским искусством смены личин, он был способен затеять любой маскарад. А может быть, он хотел всего-навсего заставить меня бояться этого — чтобы я засомневался в Фермане и других обитателях дома, чтобы тратил силы и нервы на пустые подозрения?.. Взять да и повернуть против меня мои собственные слабости и недостатки, заставить меня спотыкаться из-за моей собственной слепоты и побудить Анжело к тому же самому — Намир вполне был способен осуществить такой план. В разумной жизни — земной ли, марсианской ли — думается, всегда существовало разделение на тех, кто с уважением относится к себе подобным, и на тех, кто стремится управлять и совращать. Допускаю, что такое разделение непостоянно. Ведь некоторые из нас умудрялись временами оказываться то в том, то в другом лагере. Бывало, и убийцы исправлялись, а бывало, и праведники развращались…
По содержанию передовой статьи я сделал вывод, что новое правительство Испании очень скоро приведет свою страну в порт с названием «Соединенные Штаты Европы». Это вполне могло оказаться бесконечно важным для человечества событием, но я позволил газете упасть с моих колен и принялся созерцать березы и раненого тигра — этот рисунок Анжело из вежливости подарил мне. К тому же я прочел и о проектируемой станции-спутнике. В 1952 году, говорилось в статье, думали, что для этого потребуется десять лет. Десяти лет и кое-какая мелочь в размере четырех миллиардов долларов. Теперь выясняется, что времени понадобится чуть побольше да и долларов тоже — на миллиард или около того. Более полные испытания, имитирующие условия в открытом космосе, намекают на возможность долговременных убытков для человечества, каковую возможность более ранние, грубые эксперименты выявить не могли. Но ничего более или менее серьезного. Кандидатов следовало бы отбирать более критически — вот и все. По-видимому, тысяча девятьсот шестьдесят седьмой или шестьдесят восьмой…
Мы вполне могли бы рассказать им кое-что из нашей древней истории, но я одобряю мудрость наших законов: земляне должны быть оставлены со своими технологическими проблемами один на один. Было логично помочь некоторым племенам в изобретении лука и стрелы — что мы и сделали, но времена с тех пор изменились.
Днем ко мне заглянул Ферман. Он опять собирался на кладбище. Унылый дождь все что-то нашептывал, и я упомянул о нем. Ферман улыбнулся мокрому оконному стеклу: — Солнце сегодня встало где-то далеко от нас.
— Джейкоб! — мы уже называли друг друга по имени. — Вам известно что-нибудь об этих «индейцах» и «стервятниках»? Не хотелось бы обнаружить Анжело замешанным в их дела.
— Детские игры, я думаю. Тяжеловато вытаскивать его на разговор об этом.
— «Индейцы», кажется, состоят из более старших мальчишек, и некоторые из них бандиты.
— В самом деле? — он был заинтересован, но не слишком глубоко. — Я представляю себе мальчишек очень дикими животными. Они быстро становятся такими в своих компаниях. Не то чтобы я с пристрастием относился к Анжело… А с другой стороны, мальчишка Келл кажется вполне приличным.
Я однако не отставал:
— Где он живет, вы не знаете?
— Где-то в южной части Калюмет-стрит, в дешевом районе. Полагаю, его родители умерли. Живет у родственников, как будто бы у тети. — Джейкоб обнаружил мою брошенную газету, и его интерес к Билли Келлу стал стремительно исчезать. — Или с какой-то женщиной, которая его усыновила, точно не знаю. Среди живущих на южном конце они — явное исключение. Он, кажется, учится в одном классе с Анжело, и хороший ученик, как я слышал… Ого! Вы видели это? Макс опять в тюрьме.
— Макс?
Я воскресил в памяти сообщения на первой странице. Это была нью-йоркская газета с обычной мешаниной политических интриг, речей, личностей, странностей и бедствий. Некий Джозеф Макс был арестован за подстрекательство к бунту. Все произошло на митинге, организованном Максом и кучкой его последователей в честь встречи с каким-то сенатором. События были подробно описаны самим Максом, но до продолжения на внутренних полосах я не добрался.
— Наследник Хьюи Лонга. — Ферман читал с должным вниманием. — Упустил я свою газету утром… Лонг, да Бринкли-Козлошеий, да куклуксы. Плюс национал-коммунисты нажмут. Заварят кашу… Да-а, они не умрут!
— Один из этих? Только не подумайте, что я о нем хоть что-то слышал.
— Наверное, канадские газеты о Максе не слишком кричали. Все, что ему требуется, — это рубашка определенного цвета. Впервые, я думаю, он появился в тысяча девятьсот шестидесятом с… как же он назвал ее?.. Ага, Чистая христианская лига, чертовщина какая-то!.. Сделал политический капитал на слове «христианская». Она такая же христианская, как черепаха — быстрая. Вы же знаете, какие странные партии обычно появляются в год президентских выборов. Пена на стоячей воде.
— Да, Гитлера и Ленина до поры до времени тоже считали пеной.
— Ну, я же и говорю вам, дурацкая человеческая манера не обращать внимания на то, что нас пугает!.. Макс на пару лет исчез из виду, а год назад снова стал попадать в заголовки газет. «Чистота американской расы» — так они говорят… Никогда мы ничему не научимся!
— Значит, это слова Макса?
— Да, но все выглядит так, словно он обыкновенный болтун. Он сформировал нечто, называемое им Партией единства. Претендует на миллион единомышленников, этакая вот приятненькая круглая цифра… «Справедливость восторжествует!» — заявляет он по дороге в тюрьму, и это после того, как схвачены с поличным несколько человек. Надеюсь, они не сделают из него мученика. Естественно, это было бы ему весьма кстати.
(Полагаю, тут есть материал для миссии отдельного Наблюдателя, Дрозма, если еще никто не отправлен).
— Думаете, он может получить длительный срок?
Ферман вздохнул. Его искусные руки, руки инженера, покоились на коленях со сцепленными пальцами.
— Я немало поездил, Бен, и очень много думал. Я бы все отдал, чтобы снова оказаться на рельсах. «Пятьсот девятый» и я, мы были что-то вроде друзей. — Он явно стеснялся своих слов. — Вы понимаете? Если ты был энергичным на протяжении всей своей жизни, тяжело выкинуть эти вещи из головы, когда ты постарел. Может, я приукрашиваю действительность? Катаясь по стране… Нет, такие, как Макс, — только пена. Вероятно, стране хватит здравого смысла, чтобы перед тем, как выпустить его, сделать с ним нечто вроде дезинфекции… Кстати, Бен, вам никогда не приходило в голову, что в тех неприятных ситуациях, которые нам довелось пережить, мы могли бы поступать несколько иначе? Брать больше любовью и меньше гордыней? Рассчитывать на самого себя, но относиться при этом к другому, как к самому себе? Делать другим… Не желаете ли съездить в Байфилд?
Он был одинок, но я, сославшись на дождь, отказался. Он ушел от меня с открытой и сердечной улыбкой на лице, которой я больше никогда не увидел…
Ближе к вечеру дождь перестал. Я нашел Анжело и Билли Келла на ступеньках крыльца, бьющими баклуши во влажном тепле. Возможно, когда я появился на крыльце и принялся расстилать газету на верхней ступеньке, собираясь сесть, характер их разговора изменился. Это была моя вторая личная встреча с Билли Келлом. Анжело представил нас друг другу, но Билли и вида не подал, что узнал меня. Он был вежлив до такой степени, до какой без труда способны быть четырнадцатилетние. Не без иронии, думается. Он тут же направил разговор в русло этакой легковесной болтовни — Канада, бейсбол, то да се. Его познания в этом направлении были неисчерпаемы, и я не мог уловить в его репликах ничего такого, что бы можно было квалифицировать как издевательство.
На другой стороне улицы появилась Шэрон, одетая в новое розовое платье. В свете клонящегося к закату солнца, сосредоточенно подбрасывая свой красный мячик на резинке, она выглядела столь же маленькой и одинокой, сколь и энергичной.
Анжело позвал:
— Эй, малышка! Иди-ка сюда!
Она повернулась к нам спиной. Анжело пихнул Билли в бок:
— Вот одна из ее выходок.
— Телка с рожками, — сказал Билли Келл.
Полагаю выражение из жаргона тинэйджеров.
Продемонстрировав свое отношение, Шэрон направилась в нашу сторону. Не замечая присутствия мальчишек, она промаршировала по ступенькам и с чувством собственного достоинства обратилась ко мне:
— Добрый вечер, мистер Майлз. Я удивлена, встретив вас здесь.
Я подал ей кусок газеты:
— Ступеньки все еще сырые, а это, как мне кажется, похоже на новое платье.
— Благодарю вас, мистер Майлз! — она взяла газету с царственной рассеянностью. — Я рада узнать, что кое-чьи достижения оказались не совсем недооцененными.
Уши Анжело вспыхнули. Я был под перекрестным огнем и не видел способа укрыться от падающих снарядов. Билли Келл наслаждался ситуацией. Анжело пробормотал:
— Самое время перехватить чего-нибудь до ужина, а?
— Я должен идти, — сказал Билли Келл.
— Мистер Майлз, вы замечали, что некоторые всегда меняют тему разговора?
Я попытался проявить суровость:
— Мне следовало сменить ее самому. Как твои занятия на этой неделе, Шэрон?
Ее показную вежливость как ветром сдуло. Она заговорила с удовольствием и живостью, не забывая, конечно, время от времени вставить шпильку, но, тем, не менее, наслаждаясь предметом разговора. Уроки были ужасными и с каждым днем становились все ужаснее. Миссис Уилкс собиралась в понедельник дать ей задание выучить настоящую пьесу. Она уже почти может растянуть руку на полную октаву, правда, с трудом и немного выворачивая кисть. Это наверняка было правдой, потому что пять ее пальцев, по сравнению с ростом, выглядели достаточно длинными. Анжело молча страдал, а Билли Келл, несмотря на свое замечание о том, что ему пора, медлил. Анжело повернулся к Шэрон, на его лице не было и подобия улыбки.
— Извини, Шэрон! — он положил руку на носок ее туфельки. — Что это за достижения оказались недооцененными?
Она проигнорировала его жест, позволив своей ноге остаться на прежнем месте, и обратилась к воображаемому мистеру Майлзу, расположившемуся где-то на крышах домов противоположной стороны улицы:
— Мистер Майлз, как вы полагаете, о чем говорит этот ребенок?
— Облом, — сказал Анжело, а Билли Келл загоготал.
Я постарался снова переменить тему и спросил, задерживался ли когда-нибудь Ферман в Байфилде до такого часа, как сегодня.
Анжело с трудом справился с раздражением по поводу извечных женских капризов. Что касается меня, то, помимо недостаточного внимания Анжело к новому платью Шэрон, я не видел причины, по которой бы она так сходить с ума. По-видимому, виновником был Билли Келл. Ведь он занимал внимание Анжело, а Шэрон очень хотела, чтобы Анжело глядел только на нее, — взрослая ревность в десятилетней оболочке, которая лишь с трудом способна выдержать подобную тяжесть. Анжело заставил себя вспомнить о Фермане и обеспокоился:
— Нет, Бен, он никогда не задерживался так поздно…
И тут Билли проворчал:
— А это не его машина?
Это была его машина. Седовласый господин махнул нам рукой и повернул за угол, отправившись к гаражу на Мартин-стрит. Какое-то странное беспокойство, скорее похожее на женское предчувствие беды, жило в Анжело до того момента, пока Ферман не появился из-за угла и не зашагал к нам, помахивая ключами то двери. Подойдя, он улыбнулся детям и, взглянув на меня, натянуто кивнул. Что-то не то происходило с Джейкобом Ферманом. Он присел на верхнюю ступеньку и, обращаясь, по-видимому, к Анжело, сказал деревянным голосом:
— За городом, даже несмотря не дождь, хорошо.
Мне нужно было услышать этот голос снова, и я лениво произнес:
— Похоже, там было не очень прохладно.
Он не посмотрел на меня, а когда ответил, в голосе его прозвучала коварная нотка, совершенно не свойственная тому Ферману, которого я знал:
— В Канаде, наверное, никогда не бывает такой жары?
Тогда я решил, что Намир встретился с ним и заронил в его душу сомнения в том, что я совсем не тот, за кого себя выдаю.
Конечно, Намиру были известны все преимущества сплетен, намеков и полуправды. Необыкновенной силой оружие и такое простое в применении. Пятно, не смываемое ни с того, кому лгут, ни с того, на кого лгут. Я так старался представить другие, более сложные методы нападения, что глупо просмотрел этот, самый простой и самый естественный для всех, кто свято верит, что цель всегда оправдывает средства. Теперь следовало определить, какой слух был обо мне пущен. Кто я — азиатский шпион, анархист, беглый преступник?.. Я мог быть кем угодно: для лжи открывалось широкое поле. Ведь когда я раскрою одну неправду и опровергну ее, на смену тут же явится следующая.
И я сказал:
— Нет, почему же, иногда бывает. Но там, вдали от моря, нет такой, как здесь, сырости.
— В самом деле? Вы хорошо это помните?
Анжело смотрел на нас ошеломленно, Билли Келл — безразлично. Неужели это был тот самый Ферман, который так по-дружески расстался со мной всего несколько часов назад!
— Почему же не помню? Не так уж много времени прошло с тех пор, как я уехал из Канады.
— Да?.. Твоя мать дома, Анжело?
Не дожидаясь ответа, он обошел нас и отправился в полуподвальное помещение. Явно стараясь пройти подальше от меня.
Деньги из Торонто пришли на следующий день. Я приобрел очень приличный салатного цвета автомобиль 55-го года выпуска, и в течение двух следующих внешне спокойных недель Анжело немножко познакомился с лесом. Хотя немножко — это не то слово. Он встретил живую тишину леса с такой восхитительной восприимчивостью, как будто слушал самого себя, ему совершенно не требовалось учиться слушать, и мы не слишком-то заботились о словах. Под сенью деревьев его обычная мальчишеская непоседливость исчезла напрочь. Он оказался способен сидеть в тишине и наблюдать окружающее так, что я, вместо того чтобы предпринимать какие-то усилия по его обучению начаткам ботаники и зоологии, сохранял молчание и давал природе возможность говорить за себя.
У нас было четыре подобных экспедиций, миль на тридцать от города, в поросшие соснами предгорья Беркшира — два полных дня и два после полудня. Не могу сказать, что наши путешествия расширили мои знания об Анжело, но это не имело значения: он был счастлив и впитывал окружающее сразу всеми пятью чувствами, чего Латимер еще не требовал от него ни разу. Миссис Понтевеччио доверяла мне и, казалось, радовалась возможности поручить сына моему попечению.
Чего не скажешь о Фермане. Вечером того самого дождливого воскресенья я зашел к нему в комнату. Он всячески избегал моего взгляда, довольно грубо встречал мою болтовню, а потом и вовсе придумал для себя какое-то дело за пределами дома — лишь бы отделаться от моего общества. Я не стал придумывать объяснения всем этим переменам, ведь, честно говоря, я не очень-то и знал его. Но во всем этом была нотка какой-то фальши… Читая эти строки и глядя на происходившие события со стороны, вы, Дрозма, вероятно, сразу поняли суть случившегося. Я же не понял — тогда. Я только думал, что тот Ферман, которого я уже узнал, не стал бы молчать, если бы начал подозревать обо мне что-то гадкое, и высказал свои подозрения напрямик. Угрюмое отчуждение его характеру было не свойственно.
Недели через две после этой перемены с Ферманом Роза поделилась со мной своей тревогой. Сырым утром она убирала мою комнату, бледная, тяжело дыша. Когда я убедил ее отдохнуть, она со словами благодарности села в кресло.
— Ох! — вздохнула она. — Смогу ли я встать снова?.. Скажите, Бен, когда вы были мальчиком, входили вы когда-нибудь в эти самые… детские банды?
Я предпочел не касаться моего собственного детства:
— Не думаю, что Анжело занимается подобными делами.
— Да?.. Вы добры к нему. Я вам очень признательна.
Помню, я еще подумал: «Странно, что она относиться ко мне с таким дружелюбием, если Намир воспользовался ядом клеветы!»
— Вы знаете, я чуть было снова не вышла замуж, — продолжала она. — Мне казалось, что Анжело очень сильно нуждается в отце. Не следовало мне столько работать, теперь я понимаю. — Она вытерла пот со своего доброго, круглого, печального лица и поправила обернутое вокруг головы полотенце. — Он с достаточной уверенностью сказал вам, что не собирается войти в банду Билли Келла?
— Пожалуй, нет. Но, возможно, банда — это не так уж и страшно, Роза?
— Это страшно. Они устраивают драки… и не знаю, что еще. Я никогда не могла понять, что для него лучше. Все, что я могу, это проверить счет от бакалейщика. Как я вообще могла родить такого ребенка? Я, простая, как дорожная пыль…
— Это не так.
— Вы знаете, что это так, — сказала она безо всякого кокетства. — Кстати, отец Джад… он уже умер… он окрестил его Фрэнсисом. Это была идея Сильвио. В честь, знаете, благословенного Франциско ди Ассизи,[20] так что настоящее его имя Фрэнсис Анжело, но имя Фрэнсис так к нему и не приклеилось. Когда ему еще не было года, он выглядел как… как… В любом случае я должна называть его так, как решила я… Бен, вы не могли бы поговорить с ним о том, чтобы он не вступал в эту банду? Вы могли бы сказать, что я… что я…
— Не беспокойтесь. Я обязательно с ним поговорю.
— Ведь если он вступил, я, возможно, даже не узнаю об этом.
— Он бы вам сказал.
Выражение ее лица вполне определенно говорили, что существует достаточное количество вещей, о которых он ей не рассказывает.
— Кстати, Роза, мистер Ферман злится на меня?
— Злится?! — она была изумлена. А затем торопливо объяснила: — О, это из-за жары. Он ее плохо переносит. Мне самой всю последнюю неделю было тяжело общаться с ним.
В этот день я вывел свою машину — мы с Анжело назвали ее «Энди» в честь Эндрю Джексона,[21] потому что она всегда вздорно скрипела корпусом, — и поехал к «ПРО.У.ТЫ». Я знал, что в этот час Шэрон должна отправляться в опустевшую школу на музыкальные занятия. Она приняла предложение подвезти ее со снисходительным спокойствием.
— Мне кажется, Шэрон, тебе следовало бы иметь дома свое собственное пианино.
— Миссис Уилкс говорила им, что надо. Но мама, как всегда с мигренью, — вежливо сказала она. — А кроме того… В школе хорошее пианино. Миссис Уилкс — ужасная. Но я люблю ее за понимательность.
— Хотелось бы когда-нибудь с ней познакомиться.
— Она слепая. Видит ваше лицо пальцами. И все изменения настроения понимает. Я выучила наизусть первую пьесу в два приема, без ошибок.
— Это ужасно!
— Иногда я становлюсь ужасной, — сказала Шэрон, поглощенная своими мыслями.
В школу нас впустил швейцар. Охрана была еще та: старик с мутными глазами поверил мне на слово, что я друг девочки, и зашаркал прочь, в чащу холодных труб парового отопления. Пианино находилось в зале собраний. Школа казалась слишком большой и слишком пустой, но за окнами голоса игравших в баскетбол подростков, а в одном из кабинетов, мимо которых мы прошли, я заметил двух молодых женщин. Я переборол в себе беспокоящегося родителя и весь отдался ожиданию чуда.
Естественно, это была еще не музыка, а потуги начинающего: упражнения для пяти пальцев, гамма до мажор, детсадовская мелодия с «та-та» в тонике и доминантой[22] в левой части клавиатуры. Впрочем, это не имело никакого значения. Главное, была музыкальность и тяга к дисциплине и самодисциплине. После каких-то двух недель занятий обе руки ее уже были партнерами. Да-да, музыкальность была налицо. Назовите это невозможным, но я это слышал.
На цыпочках я проследовал в зрительный зал и с открытым ртом тяжело опустился на стул. Луч солнца превращал ее каштановые волосы в светящееся золотое облако. Разумеется, передо мной была Шэрон, принадлежащая Амагое и красному мячику на резинке, но я уже видел в ней женщину.
Она будет такой же красивой. Даже если сохранит свой курносый носик… Нет, не сохранит. В день дебюта на ней должно быть белое платье. Скорее всего она не вырастет высокой, но будет казаться такой, одинокая, залитая светом софитов. И огромный черный «стэйнвэй» покорится ей. Я видел эту картину наяву. Для Шэрон она, вероятно, будет тем мимолетным ослепительным блеском, который толпа называет славой, и достижения ее современников станут всего лишь слабым эхом ее достижений. Но даже если в конце ее ждет черное крушение надежд, Шэрон — музыкант и ей не дано избежать предначертанного судьбой. Я обязательно должен встретиться со слепой миссис Уилкс: нам есть о чем поговорить…
Мне следовало бы услышать, как в конце зала тихо открылась дверь, но я любовался Шэрон и даже воплей баскетболистов не замечал, пока не уловил краем глаза какое-то движение. Я сидел ссутулившись и в тени. Поэтому он, наверное, не заметил меня. Но, пытаясь оглянуться, я привстал, и он стремительно скользнул в коридор, отвернув лицо и опустив голову. Даже увидев мельком желтые волосы, я не был уверен, что это Билли Келл. Двери мягко затворились. Он исчез.
Мне бы отогнать свои подозрения. Подумаешь, забрел в зал какой-то мальчишка! Подумаешь, заглянул приятель Шэрон по играм и, увидев здесь взрослого, застеснялся!.. Но поспешно отступление «приятеля» выглядело вороватым — словно крыса прошмыгнула… И я почувствовал холод в горле. Человеческим эквивалентом этого ощущения является то, что люди называют гусиной кожей…
Через одно из окон я внимательно изучил толпу любителей баскетбола. Но Билли не увидел. Не было его и среди немногочисленных зрителей вокруг площадки. Впрочем, это ничего не значило.
Я взглянул на часы и поразился. Оказывается, Шэрон занималась уже час. Возможно, я частично пребывал в состоянии марсианского созерцания, но я так не думаю. А думаю я, что это было односторонней связью. Упорно трудившиеся пальчики Шэрон завлекли меня, подчинили мою душу. И я делил с ней напряжение, надежду, ее маленькие, но значительные победы. А теперь она остановилась и из своего солнечного сияния наблюдала за мной.
— Черт!.. А вы играете?
— Немного играю, голубушка. Ты хочешь отдохнуть?
Она освободила мне табурет, и я заиграл так, как только мог. Для школьного пианино моя игра была вполне сносной, хотя оно мало напоминало те три «стэйнвэя», которые несколько десятилетий назад мы с таким мучениями доставили в разобранном виде в Северный Город. Скорее оно напоминало мне «Бехштейн», на котором я однажды играл в Старом Городе. В Старом Городе любят выдержанные временем вещи, а звучание этого школьного пианино было сверхвыдержанным — басы глухие и неприятные. Но оно вполне еще могло называться музыкальным инструментом. Я заиграл отрывок из шумановского «Карнавала» — тот, что помнил лучше всего. Шэрон попросил Бетховена. Я предложил ей «К Элизе».
— Нет-нет, миссис Уилкс играла мне это. Что-нибудь более значительное.
Да простят мне небеса мои дурацкие пятые пальцы! Я заиграл «Вальдштейн». Я надеялся (тщетно), что, связав ассоциации, вызванные этой сонатой, с Шэрон, я сумею вытеснить ими более глубокие воспоминания.
Дрозма, вы, вероятно, помните мое турне по пяти Городам в 30894 году? «Вальдштейн» всегда воссоздавал в моей памяти концертный зал в Городе Океанов. Я всегда вспоминал его окна, глядящие в сердце моря, окна, изготовленные с таким трудом и так давно… Мне сказали тогда, что имена некоторых строителей утеряны напрочь. Едва ли покажется странным, что жители Города Океанов всегда немного отличались от обитателей остальных Городов. Я играл там в тот год и, честно говоря, думал, что приблизился к уровню мастера того времени. И если я не ошибался в собственной оценке, то причина была в самом Городе Океанов, а не в достижениях моих рук или души. Плавное движение водорослей за теми окнами, вечно похожее и никогда не одинаковое; снующие туда-сюда рыбы — алые, голубые, зеленые, золотые… Я и сейчас вижу эти картины и ничем не могу помочь. Каждый из тех, кто сидел в зале, излучал какое-то особое доброжелательство. Они слушали музыку душой и встречали меня так, словно целый век ждали моего визита.
Все случилось, как вы знаете, много позже, когда изучение человеческой истории стало для меня настоятельной потребностью. Потребностью подлинной и выдержавшей испытание временем. И если я больше никогда не совершу следующего турне, то только потому, что слишком хорошо помню Город Океанов. Как страшно слеп случай, Дрозма! Почему наши далекие предки выбрали остров рядом с Бикини?..[23] Ну ладно, по крайней мере, мы владели им в течение двадцати тысяч лет и должны быть рады, что предупреждение последовало достаточно рано и хоть некоторым удалось спастись. И возможно, родиться новый Город Океанов, через несколько столетий после того, как мы доживем до создания Союза…
Шэрон была уже рядом, она попросила:
— Теперь немножко Шопена?
— Нет, дорогая, я устал. Да и практики у меня не было. Как-нибудь в другой раз.
— Между прочим, я люблю вас за понимательность.
Это признание действительно изменило характер нашего общения, изменило настолько, насколько имело отношение ко мне, хотя я и был в состоянии бубнить что-то из-под личины «мистера Майлза».
Она тоже устала, и мы закончили занятие. Дверь снова оказалась открытой, но на этот раз никакой опасности не было: ее открыли две девушки, замеченные мною в одном из кабинетов, — им захотелось послушать мое громыхание. Я прикинулся в меру польщенным. Шэрон вышла на улицу и отправилась к машине, а я переговорил с женщинами. Я рассказал о неизвестном, пробравшемся в зал во время занятий. Я обратил их внимание на то, что, едва завидев меня, он ретировался. Я наталкивал их на мысль о слабой охране. Конечно, любой ребенок может заглянуть в зал, но… И так далее и тому подобное. Одна из девушек решила испытать на живом пианисте взгляд своих нежных глазок, но другая уловила мои намеки и заверила, что впредь швейцар найдет способ поддерживать порядок в коридоре, пока идут занятия музыкой. Встревоженный родитель во мне был успокоен.
Но не до конца. Пока я не увидел, распрощавшись с Шэрон у «ПРО.У.ТЫ», хорошо знакомую светловолосую фигуру. Он не спеша шел по улице. Я протащился квартал на машине и, едва скрывшись из поля зрения Шэрон, тут же припарковался. Выбравшись на тротуар, двинулся за Билли Келлом пешком. Главное, говорил я себе, понять, насколько хорошо я помню сложное искусство слежки.
Маленькие улочки, изогнутые, как коровьи тропы, разбегались в разные стороны от южного конца Калюмет-стрит. Большинство домов стояли отдельно друг от друга, здания старой постройки, которых явно не касалась рука ремонтников, чуть ли не валился на бок. Наверно, в те времена, когда люди еще не двинулись целыми семьями в пригороды, покидая то, что они никогда особенно и не любили, район выглядел лучше. Впрочем, и сейчас мне встретились дети, коты, собаки, ручные тележки и несколько пьяниц, Их присутствие смягчало ощущение необитаемости и одиночества. А в остальном здесь царил дух запустения. Окна были заколочены досками, а если не заколочены, то чернели пустотой, как выбитые зубы во рту гнусно бранящегося бродяги. Мусор повсюду. Разнесенные вдребезги стекла и дряхлость. Крыса, бросившая на меня наглый бесстрашный взгляд перед тем, как просочиться через трещину в фундаменте. Попрошайка, решивший возложить на случайного прохожего ответственность за свой завтрак и в результате реквизировавший у меня десять центов…
Это произошло уже на боковой улиц, куда свернул с Калюмет Билли Келл. Когда я избавился от нищего, Билли уже переходил улицу примерно в квартале от меня. А еще дальше, в полуквартале от Билли, стояла привязанная к столбу лошадь старьевщика — с выпирающими ребрами, покрытая паршой, понурившаяся от жары. Я и сам тут же, чисто автоматически, стремясь оказаться от нее подальше, перешел улицу, хотя мой дистроер был достаточно свежим. Уже тогда я должен был удивиться, почему Билли Келл проделал то же самое, но… Думаю, меня все-таки можно извинить, потому что без дистроера ни один марсианин не сумел бы пройти по этой узкой улочке, не напугав бедную старую клячу до приступа бешенства. Ведь у меня почти не было запаха, но когда я проходил мимо, лошадь все же вскинула голову и недовольно фыркнула бархатными ноздрями.
Через пару минут Билли Келл остановился поболтать с группой из десяти или двенадцати подростков, сидевших развалясь возле ограды уныло выглядевшего церковного двора. Вероятно, они ждали его, потому что Билли при разговоре выглядел как вождь или советник.
Я заскочил в подходящий проем, в котором не было двери.
Они льстиво одаривали Брилла пристальным вниманием, таращили изумленные глаза и хохотали над его остротами. Мальчишки и девчонки, все они носили эти петушиные береты, которые теперь, кажется, стали символами принадлежности к подростковой среде. Голоса их были скрипучими и громкими, но говорили они на каком-то жаргоне — мешанине слов с переставленными слогами, а то и вовсе несуществующих, — и большей частью я не мог даже уловить смысла беседы. Когда Билли прощался с ними, я снова увидел тот странный жест — вскинутую руку с вывернутой ладонью.
Он еще некоторое время водил меня по лабиринту узких улочек и наконец вошел в неряшливо выглядевшую двухэтажную хибару, но как раз перед этим я и осознал то, что должен был понять, обходя лошадь. С надвинутой на лоб шляпой я прогуливался в полуквартале от Билли. Он уже поднимался по вытертым ступеням, когда налетел порыв ветра и с шорохом пронес мимо меня кучу мусора. Я уловил этот слабый запах, но и Билли, находящийся за полквартала, услышал его. Голова Билли по-совиному стремительно повернулась в мою сторону, глаза быстро распознали источник шума и мимоходом скользнули по мне. Трудно сказать, узнал он меня или нет, — в дом он вошел с достаточно безразличным видом.
Я уже встречал человеческие существа с такими же высокими мускульными реакциями, как у нас, — у Анжело, к примеру, они временами бывают чрезвычайно быстрыми. Но я никогда не встречал человека, чей слух остротой был бы сравним с марсианским. И я уже тогда обязан был вспомнить, что у Намира есть сын.
Хотя я и написал это, у меня до сих пор нет достаточных доказательств. Он мог повернуть голову по любой другой причине. То, что он обошел лошадь, могло оказаться обыкновенной случайностью или быть вызванной неприязнью к животным, встречающейся у землян. Но я думаю, что я прав, и о нем следует предупредить остальных Наблюдателей.
В этом районе не было подходящего места, где бы я мог спрятаться. Но не было и причины, по которым мистеру Бену Майлзу нельзя было побродить по этому жалкому району, раз уж старика сюда занесло. Я как раз проходил мимо дома, когда оттуда донесся визг визгливой брани. Женский голос был настолько пьяным, что я разобрал лишь несколько слов.
— Мерзкий сопляк! — далее последовал целый поток сквернословия. — Стараешься быть тебе матерью — и никакого проку… Проваливай! Не надоедай мне! Мне плохо…
Раздался звук разбившейся бутылки, я оглянулся и вовремя — Билли как раз выходил из дома. Легкой неторопливой походкой он дошел до угла и исчез. Повинуясь внезапному порыву, я вернулся и принялся стучать в дверь. Я колотил в нее до тех пор, пока не раздались мрачные проклятья и не донеслось шарканье тапок по полу.
— Департаменты пожарной инспекции! — крикнул я.
— Да?
Мускулистыми руками она перегородила дверной проем. Зловонное дыхание. Прищуренные, красные, с бессмысленным взглядом глаза, но в общем-то не стара — вероятно, около пятидесяти — и неплохо одета. Враждебность на ее лице сменилась глупой самодовольной улыбкой. За спиной женщины я разглядел грязную переднюю, заваленную портновской утварью. Хозяйка, без сомнения, была человек — в конце концов, сальваяне практически неспособны докатиться до запоев. Думаю, в трезвом состоянии она совершенно другая. Возможно, она сурово-представительна и упорно-трудолюбива — портновское оборудование говорило о ней как о профессионале. Вероятно, пьянство было пагубной слабостью, бегством от душившей ее нищеты и крушения жизненных надежд. Годы подобного существования сразили ее, как болезнь: сделали напуганной, сварливой, одинокой, старой — так много было грубыми строчками написано на ее лице. Бутылку (пустую) разбили о дверной косяк, повсюду валялись осколки, но полагаю, что Билли благополучно убрался раньше, чем она позволила себе подобную выходку.
— Маленькая случайность… — она захихикала. — Из-за этой жары я не очень хорошо себя чувствую. — Она принялась бороться с выбившейся прядью коричнево-седых волос. — Чем обязана такой честью, мистер?
— Профилактический осмотр, мэм. Сколько человек здесь проживает?
Ее качнуло от двери.
— Только я и мальчик.
— Ага… Только вы и ваш сын, мэм?
— Усыновленный… Какое ваше дело черт побери?! Я вношу плату, никаких нарушений, разумеется, нет. Я уверена.
— Таков порядок. Могу я осмотреть проводку?
Она пошатнулась и выпятила губы:
— Разве вас остановишь!
Я посмотрел, как она тщетно пытается наклониться над осколками, и беспрепятственно отправился в путешествие по дому. Наверху обнаружил только две комнаты. Чистая комната, очевидно, принадлежала Билли. В другой же я, к сожалению — а вернее, к стыду своему, — задержаться надолго не смог. В комнате Билли ничего особенного не было. Разве что напрочь отсутствовали обычные мальчишеские безделушки. Койка, похожая на военную; стопка учебников безо всяких пометок, хотя Ферман и Анжело утверждали, что Билли является хорошим учеником. Если и присутствовал в комнате марсианский запах, то он был настолько слаб, что я не мог отделить его от своего собственного. Впрочем, и отсутствие его ясности бы не принесло, потому что Намир утащил достаточное количество дистроера, чтобы на долгое время обеспечить сразу двоих пользователей. Ясно было лишь одно: Билли — это не Намир, поскольку никакое искусство смены личности не могло сделать Отказника коренастым и коротконогим.
Когда я покидал дом, женщина все еще мучительно оправдывалась.
— Жаркая погода, — говорила она. — Я бы предложила вам немного выпить, до только нет ничего в доме, хотя обычно я люблю немного приложиться — для пищеварения, иначе пища плохо усваивается.
Расстались мы друзьями.
Если я прав насчет Билли Келла, то, думаю, он добился неких отношений с этой женщиной с помощью уговоров и своей юной привлекательности. С целью получить себе временное имя и прикрытие в человеческом обществе он сыграл на ее одиночестве и несостоявшемся материнстве. Когда она произнесла слово «усыновленный», я ней явно ощущался страх перед властями. Официальное усыновление сопровождается такими формальностями, на какие, думается, ни он, ни она не решились бы пойти. И если он сын Намира, то когда она перестанет быть ему полезной, Билли Келл несомненно исчезнет — без угрызения свести, без жалости, безо всяких объяснений.
Вернувшись в меблированные комнаты, я решил выполнить данное Розе обещание и поговорить с Анжело. Теперь, когда я выяснил подноготную Билли Келла, за это следовало взяться со всей серьезностью. Но каким образом вызвать Анжело на разговор? И как добиться нужного результата?..
Анжело любил меня — в этом я был уверен. Он внимательно выслушал мои монологи. Интерлюдии в лесу доставляли ему радость: он желал их и был способен участвовать в них, по-взрослому, хотя и с мальчишеской застенчивостью обращаясь со словами. Я покупал ему книги, а каких купить не мог — брал в библиотеке. Он благодарил меня за все горячо и не без удовольствия. (Одна из книг была о Геке Финне — как выяснилось он ее прежде не читал). Как-то у нас состоялась обширная, но так и не удовлетворившая его дискуссия о прочитанных книгах. Он купался в Марке Твене и Мелвилле,[24] он был поражен Достоевским, он забавлялся ветерком ложных выводов, дувшим сквозь немытую бороду Маркса…
Но далеко не все в Анжело было открыто для меня — целые области его мыслей и чувств были заперты и украшены невидимой табличкой:
НЕ ПОСЯГАТЬ!
И он не искал меня в те моменты, когда ему было плохо, а таких моментов, я знаю, хватало. Так что же, я просто должен дать ему совет не вступать в банду, совет, который наверняка уже мог дать ему Ферман?.. Мягкий юмор, присущий Анжело, делал такой поступок абсурдным. Ограничиться коротким, но строгим приказанием? На чем же остановиться в страхе перед его ленивой улыбочкой?.. Если бы он был марсианином, я, возможно, и знал бы, что делать. Ведь люди, я заметил, и сами до сих пор не придумали способа понимать себя.
Я устало стоял в коридоре, до сих пор видя перед собой опухшее лицо «приемной матери» Билли Келла, как вдруг обнаружил, что из-за закрытой двери Фермана уже давно раздается его голос. И до меня медленно дошел смысл его слов.
— Любой опыт полезен. Может быть, «стервятники» и жестоки, но сможешь ли ты обойтись в этом мире без жестокости? Ведь ты должен защитить свою спину. С твоим-то умом, ты не можешь позволить себе не делать этого. Люди ненавидят ум, разве ты не знаешь?
— Но ведь все зависит от того, приносит ли он людям пользу.
— Не обольщайся, Анжело, — сказал Ферман. — Придумай новый механизм — и они будут какое-то время тебе благодарны. Но любят они механизмы, а не мозг, их создателей. Его они просто боятся. У них может оказаться достаточно суеверного страха, чтобы поклоняться ему, как поклоняются дьяволу, но уважать его они не будут никогда. Я не говорил с тобой на эти темы, пока не убедился, что ты сможешь воспринять их. А я думаю, ты можешь. — Из-за двери донесся звук, похожий на добрый, хрипловатый смех Фермана. — И разумеется, суеверный трепет, который будут испытывать перед твоим умом люди, вполне может быть использован.
— Что вы имеете в виду?
— О, это решится само собой. — Донесся старческий вздох. — Как бы то не было, помни: механизмы — это все, чего хотят люди. Механизмы и простые идеи, которые вроде бы все объясняют, но оставляют нетронутые предрассудки. И они заплатят приличную цену, если механизм или идея окажутся достаточно блестящими. Я знаю их, Анжело.
Это было не по-фермановски. Ферман не стал бы говорить о механизмах с таким пренебрежением. Трезвомыслящий, он, как и любой другой американец 960-х, был влюблен в механизм. Разве не прошла бОльшая часть его жизни в заботах и могучих машинах, изменивших лицо Земли?..
— Нет, — продолжал голос Фермана, — ты должен бороться все время, всю жизнь. И любым оружием, которое сумеешь присвоить. Я стар, сынок. Я знаю.
— И тогда я смогу добиться чего-то в жизни! — легкомысленно воскликнул Анжело. — Ну а если я не собираюсь вступать в борьбу ради борьбы…
— Тогда ты погибнешь… Иногда можно даже делать зло. Так, чтобы из него могла выйти польза. Но все это ты должен делать, не жалея своих сил. И к черту неудачников!
Вот так, Дрозма, я понял, что Джейкоб Ферман мертв.
Я постучал и вошел. Готовый к чему угодно, стремящийся вмешаться, как вмешиваются в события человеческие существа, когда чувствуют опасность для тех, кого любят. На время я прихватил с собой «мистера Майлза», чтобы он спокойно закрыл дверь и мирно зажег сигарету. Анжело, лениво восседавший на подоконнике, видел перед собой только «мистера Майлза». А что увидят остальные, находящиеся в комнате, меня абсолютно не волновало.
Он сидел в кресле и держал ноги на подушечке, которую износил до дыр Ферман. Он даже курил пенковую трубку, выполненную в форме лошадиной головы. Безо всякой логики это взъярило меня еще больше: я мог использовать один из тех человеческих методов опознания нечеловечности, которые нам положено избегать.
— Надеюсь, не помешал, — сказал я, поскольку помешал. — Имею потребность в утешении философией. — Ничто не интересовало меня сейчас меньше, чем философия. — Выкиньте меня вон, если душа переселяется.
Я уселся верхом на стуле возле окна. Ему, вероятно, следовало бы выкинуть вместе со мной и стул, но он не мог сделать ни того, ни другого. Однако физических проявлений страха не было, и это даже создавало некий комфорт.
— Кстати, — сказал я, — у вас красивая трубка. Вы, должно быть, любитель конины, не так ли?
Я видел его глаза. Когда человеческое существо напугано, зрачки расширяются, но не во всю же радужную оболочку! После этого все мои сомнения испарились.
Он произнес одновременно осторожным и беззаботным тоном:
— О да, кстати… Философия, да?
— Философия! — оживился Анжело. — Мы уже разложили ее по полочкам, Бен… Леди и джентльмены, заходите сюда и изложите в двух словах ваши проблемы. Ферман и Понтевеччио, прибывшие к вам, несмотря на чудовищные расходы, разрешат ваши проблемы методом «гистерона-протерона». Они гуляют, они беседуют, они, как пресмыкающиеся, ползают на брюхе. За незначительную плату они видят прошлое, будущее и даже настоящее. Если вы не будете удовлетворены, вам вернут ваши деньги. О леди и джентльмены! Перед вами те пророки, именно те адвокаты невиданного мира, — Анжело был воодушевлен и дружелюбен, словно щенок, жующий мой ботинок, — именно те, кто недавно разгадал одну из самых непостижимых загадок страдающего человечества — кто сунул халат в чауде[25] миссис Мэрфи…
— И кто же это сделал? — спросил я.
— Дух, — сказал Анжело. — Прорицаю! Это произошло, когда она вышла из себя и в нее на время вселился мистер Мэрфи.
Тот, кто изображал из себя Джейкоба Фермана, не говорил и не улыбался.
Тогда я сказал:
— Предскажи будущее, прорицатель. «Энди» подхватил расстройство клапана, а может быть и карбюратора. Так вот, через какое время наступит момент, когда бензина станет так мало, что мы вернемся… к лошадям?
На вдохе я вставил сальваянское слово, обозначающее лошадь, крайне редко употребляемое нами и только в качестве непристойности. Оно достаточно звукоподражательно, и Анжело должно было показаться, будто я всего-навсего прочистил горло. Фермановское лицо Намира не утратило ледяного спокойствия.
Я несу полную ответственность за этот глупый промах, Дрозма. Мне следовало скрывать, что я узнал его. Я же утратил это явное преимущество в гневе, за который не может быть прощен ни один Наблюдатель.
— Очень хороший вопрос, — сказал Анжело, расчесывая пальцами воображаемую бороду на своем круглом подбородке. — Я бы сказал, сэр, что экстраполируемые возможности будут разрешаться в должном течении событий, не раньше.
Я старался слушать его бессмыслицу и думал о том, что добросердечный, безвредный старик лежит сейчас где-то мертвый, спрятанный от людских глаз по одной-единственной причине — потому что его смерть могла принести пользу нечеловеку, ненавидящему его род лютой ненавистью. Хотелось бы знать, сохранилась ли у Намира до сих пор суицид-граната. Она наверняка была у него в тот далекий год, когда он ушел в отставку. Тут вполне бы подошла даже граната старого образца. Я не вижу причин, по которым она не разложила бы человеческое тело с такой же легкостью, как и марсианское. И если Намир употребил ее, человеческий закон никогда до него не доберется. Да мне ли не знать, что этого попросту нельзя допустить! Ведь американцы весьма аккуратны в делах, касающихся заключенных. Их трупы после казни, скорее всего, осматриваются и подлежат вскрытию. Человеческие преступники с помощью хирургии иногда уничтожают свои отпечатки пальцев. Мне хорошо было видно, что Намир к такому методу не прибегал — его пальцы, говоря по-марсиански, выглядели вполне нормально. Они одни способны вызвать любопытство, а уж если в полицейских протоколах появятся описания наших не имеющих нервов, зато имеющих угловатую форму ребер… Нет, когда его загонят в угол… Знаете, Дрозма, я вряд ли могу разделить ваше ощущение, что он будет воздерживаться от любых поступков, способных привести его к предательству.
Он стал существом без роду, без племени. Он создал закон для самого себя, без постижения причин, справедливости или сострадания. Кто другой мог бы с такой легкостью убить Фермана? (Теперь, когда я пишу эти строки, у меня уже есть доказательства. В тот день их не было, но их место заняла тошнотворная уверенность. Когда же я и в самом деле нашел решающее доказательство, оно стало лишь кровавой точкой в уже написанном предложении).
Я снова принялся слушать Анжело, который продолжал бурлить, как маленький веселый фонтан в лучах полуденного солнца:
— …и это изобретение, этот триумф гениальных Фермана-Понтевеччио — чрезвычайно простая вещь. Позвольте мне кратко изложить рассуждение, которое привело к столь блестящему открытию. Дождевые черви любят лук. Они аллиотропны. Этот термин происходит, как знает каждый школьник, от латинского слова Allium, ботанический вид, включающий в себя обычный и огородный лук. Итак, черви аллиотропны… Пять долларов, пожалуйста.
Поэтому мы предлагаем сконструировать легкие тележки… это не так-то просто сделать, хотя бы потому, что у нас нет средств… Тележки прикрепляются к хвостам заранее рассчитанного достаточного количества дождевых червей вида Limbricus terrestris. Луковицу надо будет нацепить на палку впереди червяков, которые ползут за ней, передавая таким образом тягу тележке. В случае остановки надо всего лишь спрыгнуть с тележки — а она, естественно, движется с не слишком большой скоростью; выкопать яму и опустить туда луковицу. Тогда черви уйдут за ней под землю, но их упряжь будет устроена таким образом, что они никогда не смогу добраться до приманки. Таким образом устраняется необходимость в замене луковицы… Разумеется, хорошую упряжку червей надо как следует кормить и постоянно о ней заботиться. К тому же, сил у них для того, чтобы затянуть тележку под землю, будет недостаточно, но поскольку они все-таки будут пытаться сделать это, то тележка затормозиться и в конце концов остановится… Почему это старомодно? А зачем утруждать себя неэкономичными, ненадежными, опасными лошадьми? И зачем тратиться на кобылу, когда у ближайшего дилера можно приобрести плавный, мягкий и изящный червемобиль Фермана-Понтевеччио?
— Вы создали корпорацию?
— Пока нет, Бен. Мы могли бы предоставить вам акции на одних с нами условиях… А где вы пропадали целый день?
— Присутствовал на музыкальных занятиях Шэрон. У нее талант, Анжело.
— В самом деле? — Шэрон в его мыслях места не было. — Почему вы так думаете?
— Я вижу ее отношение к музыке. Она живет в ней. Она выглядит посвященной. Это мало где требуется. Искусство, науки. Политика — но не так, как ее понимает обыватель. Религия — опять же если у тебя есть к ней предопределенность.
Намир-Ферман был погружен в рассеянность, трубка вынута изо рта.
— Изучение этики, — добавил я.
— Посвятить себя изучению этики, — проскрипел старческий голос. — Звучит как лозунг насчет попечительства над ворами.
— Почему? — поинтересовался мальчик.
Намир притворился закашлявшимся, и под видом шумного выдоха я расслышал сальваянское слово, передать смысл которого на более вежливом английском языке можно только словами «Уходи!» Потом лицо Фермана заулыбалось, и в улыбке этой проскользнула толика добродушного осуждения.
— Сделал лишь первые шаги, Анжело. На твоем месте я бы не слишком ломал голову. Есть вероятность уйти в себя.
Вот тут Намир совершил ошибку, и я обрадовался, увидев, как Анжело надел на себя маску подчеркнутого смирения, как бы говоря: «О'кей, мне ведь всего двенадцать».
— Больше смотри по сторонам, Анжело, набирайся опыта. Я уже сказал тебе, что жизнь есть борьба. Ты должен стремиться туда, в самый центр — чем дальше, тем больше — и ни в коем случае не прятаться в башню из слоновой кости.
Да, как видно, старый железнодорожный инженер часто употреблял это выражение. Я видел, что перемены в поведении «Фермана» совершенно не беспокоят Анжело. По-видимому, общение с настоящим Ферманом никогда не отличалось особой сердечностью. Настоящий Ферман мог предложить мальчику свою нетребовательную любовь и терпимость, но вряд ли мог относиться к нему, как к сознательному человеку. И скорее всего нынешнее отношение к нему старика могло показаться Анжело капризом взрослого. Перемена личины, разумеется, была безупречной — уж в чем-в чем, а в искусстве маскировки Намир просто ас. Он даже воспроизвел крошечный белый рубчик в проборе, который не всякий человеческий глаз и заметит-то.
Я спросил Анжело:
— Скажи, разве Бетховен сражался с кем-нибудь, когда писал «Вальдштейна»?
— Не сейчас. — Анжело слез со своего насеста. — Могущественный мозг только что вспомнил, что его просили сходить в бакалейную лавку.
Я тоже поднялся, подарив вежливый кивок тому, кого собирался убить.
Я оправдывал свое намерение законом от 27140 года — «вред нашим людям или человечеству». Мне было нужны только доказательства убийства Фермана, после этого я имел полное право действовать. Надо будет найти способ выманить Намира в безлюдное место и применить гранату, которой меня обеспечил Снабженец. После этого я мог бы спать спокойно… Так я думал. Я позволил себе не оглянуться, закрыл дверь и поспешил за Анжело, ожидая найти его по-прежнему полным веселого спокойствия.
Он не был ни веселым, ни спокойным. Он начал было спускаться по лестнице, но вдруг вернулся, прежде чем я открыл рот, встревоженно посмотрел на мою дверь:
— Могу я зайти на минутку?
— Разумеется. Что придумал, дружок?
— О, только ветчину и яйца.[26]
В нем, однако, не было признаков веселья. Он заметался по моей комнате. Потом забавно — как умел только он — оттопырил верхнюю губу и подергал ее большим и указательным пальцем из стороны в сторону.
— Я не знаю… Может быть, иногда все чувствуют себя сразу двумя людьми…
— Конечно. Двумя, я то и больше. Во всех нас много душ.
— Но… — он поднял глаза, и я увидел, что он искренне напуган. — Но этого не могло быть… Не так ли, Бен? Я имею в виду… ну, там, в комнате дяди Джейкоба, это было, как… — он принялся перебирать безделушки на моем комоде, по-видимому, только для того, чтобы я не видел его лица. Потом сказал жалобным голосом: — Не надо мне ни в какую бакалейную лавку. Я только захотел… Я имею в виду, Бен, что существует мое «я», которое любит здесь… все: наших постояльцев, Шэрон, Билли, других ребят, даже школу. И… ну, особенно, леса, и… беседу с вами и всякую ерунду…
— А другому твоему «я» хотелось бы…
— Все бросить, — прошептал он. — Вообще все… И начать сначала. Там, в той комнате, я был, как… как разрезанный посередине. Но это же мое, не так ли? Нет никакого смысла. Я и в самом деле не хочу никуда уезжать. Если бы я мог…
— Думаю, это пройдет, — сказал я, не найдя ничего лучшего, чем эти глупые слова, которые вряд ли могли ему помочь.
— Да, я догадываюсь, — он собрался уходить.
— Подожди-ка минутку! — я открыл комод, достал зеркало и принялся снимать с него упаковку. — Тут вещь, на которую ты, возможно, захочешь посмотреть. Я привез его из Канады. Когда я изучал историю, Анжело, я в основном интересовался древней историей. Эта вещь была подарена мне другом, который занимался археологией…
Дрозма, зеркало просто перепугало меня. Может быть, я предчувствовал свой испуг, потому никогда и не разворачивал его, до этого самого столь неудачного выбранного момента. Что это — результат катастрофы или забытое искусство? Что за хитрое искажение в бронзе, вызывающее громкий крик множества истин? Я увидел молодого Элмиса, разглядел искусного (нет, почти искусного!) музыканта, заметил легкомысленного юношу, которого так терпеливо вы учили. А потом упорного ученого, занимающегося историей. А потом невнимательного любовника и мужа… Не ловкого Наблюдателя… Никудышного отца…
Как это может происходить и ничтожном хрупком предмете, принадлежащем давно погибшему минойскому миру? А если чуть повернуть зеркало… Нет, этого не выразить словами. Одно дело — умом знать, что каждый придет к старости, что у каждого есть бесчисленное количество лиц — для победы, стыда, смерти, надежды, поражения… Но совсем другое дело — видеть их в сверкании бронзы. Я заблудился в нем, пытаясь отыскать, каким я был в Городе Океанов.
И тут Анжело спросил:
— Что случилось?
— Нет, ничего.
Мне уже не хотелось показывать ему эту вещь, но мои глупые неловкие пальцы сами собой разжались, и оно перешло в его руки, невинные и загорелые. А я забормотал:
— Это минойская культура, вероятно… Найдено на Крите, изготовлено еще до того, как родился Гомер… Видишь, патина была удалена… Я имею в виду, оно отполировано и таким образом до сих пор представляет собой зеркало, каким было и раньше…
Он меня не слышал. Его вдруг затрясло. Лицо его сморщилось и исказилось, словно он увидел там что-то кошмарное.
— Все, отдай мне эту чертову штуку… Я сам еще до сих пор не смотрел в него. Я не знал, Анжело. Тут нечего пугаться…
Но когда я попытался взять зеркало, он отдернул руки и продолжал вглядываться в него, явно против своей воли.
— Господи, что это?..
Он начал смеяться, и смех этот был хуже всего. Я отобрал зеркало и бросил его в ящик.
— Мне бы следовало дать пинка, Анжело, но я и в самом деле не знал…
Он вырвался из моих рук:
— Будьте осторожны!.. Вероятно, я обломлюсь. — Он побежал к лестнице. А когда я последовал за ним, он выглянул из темного колодца лестничной клетки и сказал: — Все нормально, Бен. Я получаю свое. Не обращайте внимания, хорошо?
Не обращать внимания?
Этой ночью я не мог спать, ни предаваться созерцанию. Я прислушивался к звукам, доносившимся из соседней комнаты, и они были очень похожи на те, которые рождает жизнь людей, но эти звуки были порождены моим врагом.
Если Намир покинет комнату, я последую за ним. Обеспечь граната полную дезинтеграцию, я бы уничтожил его этой ночью в его собственной обители. Но без шума вряд ли удастся обойтись даже если я застану его спящим. К тому же останутся пятна, не обойдется без багровой вспышки и запаха газов. Да и горсточка остатков тоже потребует обязательной уборки.
Я не разделся и не лег в постель. Я сидел возле окна и был вознагражден за это восходом луны, хоть и не был способен им насладиться. В полночь где-то над крышами прострекотал пассажирский коптер, последний до шести утра. Постепенно умирали звуки, рождаемые людьми: шаги припозднившихся прохожих, девичий смех за занавешенным окном, по Калюмет-стрит прошелестело несколько машин. Мартин-стрит, упирающаяся тремя кварталами к востоку в склад древесины, автомобилистов в такое время не привлекала. Где-то раскапризничался ребенок, потом его утихомирили. Около часа ночи до меня донесся шум лайнера «Чикаго — Вена», далекий, высокий и одинокий.
Скрип открывшейся калитки на заднем дворе показался не более чем намеком на шум. Было около двух часов. Луна уже поднялась, и мое лицо растворилось в непроницаемой тьме. Я видел, как он проскользнул, крадущийся, светлоголовый, переполненный ощущением опасности. Он миновал полосу лунного света, затем очень деликатно — словно крылышко ночной бабочки — поскребся в кухонное окно. Он прекрасно отдавал себе отчет в том, что мое окно открыто, но ведь я был в темноте.
Вышел Анжело. Они не сказали друг другу ни слова, даже шепотом. Прокрались через двор. Анжело, несмотря на свою хромоту, двигался так же бесшумно, как и Билли Келл.
Они пошли вниз по Мартин-стрит. Я позволил им набрать дистанцию, затем снял с окна решетку и прыгнул. Всего пятнадцать футов, но ведь мне следовало обойтись безо всякого шума. Они не оглянулись. Я быстренько отыскал лунную тень. Они тоже крались в тени, скользили по направлению к складу древесины, быстро и бесшумно, словно порождение тумана, оседающего на стенах домов, создающего ореолы вокруг уличных фонарей. Сидя у окна, я тумана и не замечал. Теперь я дышал им. Он был везде, спереди и сзади, снизу и сверху. И даже в мозгу моем висело туманное облако. Земля тоже умеет плакать, моя планета Земля…
Едва я проскользнул за ними на территорию склада, до меня донеслось приглушенное бормотание дюжины голосов, в большинстве своем — дисканты,[27] но было и несколько уже сломанных половой зрелостью — как у Билли Келла. Передо мной темнел высокий штабель бревен, и я знал, что банда расположилась за ним. Мне повезло: я сумел взобраться на бревна без шума. Глянул поверх штабеля. Голоса обрели своих владельцев. Я услышал Билли Келла:
— Ты прошел все предыдущие испытания, как-нибудь справишься и с этим.
И тут же слегка возбужденный скулящий голосок ободряющие добавил:
— Это же всего-навсего чертов грязный «индеец», Анжело, и ничего больше.
Они шаркали ногами, и тот небольшой шум, который я производил, растворил в этом шарканье. Я забрался на верх штабеля, подполз к другому его краю, глянул вниз.
У следующего штабеля стоял тощий парень, привязанный за талию к бревну. Его руки были скручены за спиной, рубашка лоскутами свисала через веревку на талии, лицо и грудь перепачканы. Он был единственным стоящим лицом ко мне. Его взгляд упирался в землю, но, если бы он и поднял голову, очертания моего тела в кромешной тьме он бы не разглядел. Парень ругался — механически, с показной яростью, презрительно и не от боли. Я решил, что успею спрыгнуть со штабеля и предотвратить возможное несчастье. Пока же мне следовало постараться понять.
Билли Келл обнял Анжело за плечи и потащил в сторону от других, ближе к моему укрытию. Жизнерадостные голоса остальных мальчишек тут же перестали для меня существовать.
— Анжело, на самом деле мы вовсе не собираемся причинять ему настоящий вред, понимаешь? — шепот Билли Келла был ровным и тихим, и я видел его улыбку. — Смотри…
Он показал Анжело нож, повернув его, ловя тусклый свет далекого фонаря. Видел я и лицо Анжело — туманное после битвы между страхом и возбуждением, между очарованием и отвращением.
— Элементарный трюк, — сказал Билли Келл. Это пластик. Смотри!
Он воткнул нож в собственную ладонь так натурально, что я вздрогнул. И только потом заметил, что конец лезвия согнулся.
— Просто, чтобы напугать его, да?
— Конечно, Анжело, ты понял. Сунь ему под нос, не прикасаясь, понимаешь, а потом воткни… ну, в плечо или еще куда-нибудь. Но слушай: остальные парни думают, что ты думаешь, будто это настоящее перо, понимаешь? Я выложил тебе все потому, черт, что ты мой друг и я знаю, что ты чувствуешь. Ты не мог бы сделать это настоящим пером. Я понимаю, видишь, но они — нет. Поэтому сделай вид, ради нас с тобой, а?
— Хорошо, я сделаю это. А как насчет того, что ты мне говорил тогда о нем?
— Все подтвердилось. Это он тогда залез к вам, в натуре. Мы поработали над ним. Он раскололся. Он распелся, приятель. Он проделал кражу в качестве испытания у «индейцев». Ему надо было взять что-нибудь из каждой комнаты, но насчет денег он оказался слабаком. Взять чуть-чуть, а потом вместо них прихватил фотки и барахло… Цыпленок! А еще ему приказали держаться подальше от твоей комнаты. Знаешь зачем? Чтобы было похоже, будто жильцов обчистил ты.
— О черт, нет!
— Да, малыш. И щенка укокал он. Мы заставили его петь, говорю тебе! Он дал ей кусок котлеты и свернул шею…
— У мистера Майлза ничего не пропало, а ведь его комната…
— Это он говорит, что не пропало… Слушай, Анжело, на днях я выложу тебе кое-что насчет твоего мистера Майлза.
— Что ты имеешь в виду? Майлз — парень что надо!
Премного благодарен за подобный комплимент…
— Ты думаешь?.. Но не важно, когда-нибудь позже, малыш. Вот, возьми перо.
Анжело потянулся за ножом. Как они были неумелы! Билли уронил нож и нагнулся, вглядываясь в неосвещенную землю. Затем они отошли от меня, и нож уже оказался в руке Анжело, а остальные столпились вокруг — толпа гоблинов в сетях тревожной ночи.
Я снова совершил грубейшую ошибку, Дрозма. Я обязан был догадаться.
Голос Анжело изменился, стал тонким, почти ломающимся:
— Ты убил мою собаку? Ты убил мою собаку, грязный «индеец»?
Тощий пленник молча плюнул анжело на ногу. Но его мужество уже было подорвано, он заскулил, глядя на лезвие, и съежился, когда маленькая рука Анжело устремился к нему с ножом. И он был не единственный, кто вскрикнул, когда нож пронзил тело… я видел это… и кровь брызнула из костлявого плеча, заливая пальцы Анжело. Вторым вскрикнувшим был сам Анжело. Он еще раз вскрикнул и отбросил нож. Потом выхватил из заднего кармана брюк носовой платок и попытался остановить кровь. Остальные вряд ли были способны на что-то большее, чем просто стоять разинув рот и хихикать.
— Будь ты проклят, Билли!.. Будь ты проклят!..
— Заткнись, малыш!.. Что такое немножко крови?!
Билли оттолкнул Анжело в сторону. Билли быстро и со знанием дела отвязал тощего пленника и дал знак своим приятелям придержать его. Билли вытер рану и осмотрел ее.
— Всего лишь царапина!
И он был прав, потому что раненым здесь был совсем другой человек. Раненым был Анжело.
Анжело трясло. Его окровавленная рука судорожно дергалась ко рту и падала вниз. Он машинально нащупал платок, выброшенный Билли, и сделал слабую попутку вытереть им пальцы. Потом он выронил платок и зашелся в приступе тошноты.
Билли рывком повернул пленника и пнул его:
— Разве это рана!.. А теперь беги, «индеец», беги! Удирай и скажи своим соплякам, что мы подожгли серу.
Тощий пошатнулся, но сделал шаг в сторону, прижимая к порезу кусок рубашки.
— Вы что-о-о?
Билли хихикнул:
— Мы подожгли серу. И встретимся с вашими парнями в любое время.
Тощий кинулся прочь. Гоблины заржали. Билли Келл схватил Анжело за запястье и поднял его руку:
— Полноправный член «стервятников». В деле он?
— Он в деле! — отвечали ему. Словно хор привидений.
— Слушай сюда, орлы, знаете что?.. Он подменил пере, когда понял, что перо липовое. Он не хотел, но сделал это, потому что знал, что это правильно. Теперь он настоящий «стервятник». Я знал это, когда он при первом испытании окропил своей кровью камень.
Тут они столпились вокруг Анжело, с простодушными непристойностями и льстивыми смешками принялись обнимать и расхваливать его. Анжело принимал их выходки со слабой улыбкой, с затаенным стыдом и скрытым презрением. А потом и вовсе с нарастающей гордостью и неохотным одобрением. Как будто он заставлял себя поверить в ложь Билли… Была ли эта ложь хорошим политическим ходом? Я не знал.
— Ну, — сказал Анжело, — ну, он же кокнул моего пса, ведь так? Господи!.. Туман поглощал выводков Билли Келла — одного за другим. Они исчезали в нем, подняв руку с вывернутой ладонью. В тумане находился и я — где мне претендовать на то, чтобы понять этих детей!.. Хотел бы я быть старым настолько, чтобы помнить то, что происходило четыре или пять столетий назад!
Утрачено нечто такое, что я искал и не находил в бандах, которые изучал при последним своем посещении Штатов, семнадцать лет назад. Банды того времени были, на первый взгляд, гораздо более злобными, шумными и неприятными. Ими двигало нечто большее, чем молчаливая обида на мир взрослых, их стимулами были материальные побуждения — секс, деньги и страх. Эти же беспризорники (а в известном смысле они и вовсе сироты) вернулись к более примитивным фантазиям. Их колдовство — пусть выраженное в модной одежде или жаргоне, но все равно колдовство — говорит о том, что равнодушие взрослых по отношению к ним достигло полного безразличия. Возможно (а может, и нет), причина — в упадке городов. Южная часть Калюмет-стрит — не более чем робкий вихрь в потоке, и на окраинах или в пригородах я мог бы отыскать проблемы совершенно другие… не знаю. Но вряд ли покажется странным, что это беспризорничество, эти зреющие правонарушения имеют место в культуре, которая лишь недавно научилась заменять древние религиозные императивы чем-то лучшим.
Думаю, это переходный период. Сила древней набожности была утрачена ими в те времена, которые они называют «двенадцатым веком», и миллионы их, в поспешной человеческой манере, вместе с водой выплескивают и ребенка. Такие понятия как дисциплина, ответственность и честь были отринуты вместе с дискредитировавшими себе догмами. Потеряв опору в Иегове,[28] они до сих пор не хотят учиться стоять на своих собственных ногах. Но я верю, что они научатся. Я вижу человека двадцатого столетия довольно приятным парнем со слабыми ногами и находящейся в скверном состоянии головой. А какой еще может быть голова, если ею бьются в каменную стену!.. Возможно, в скором времени человек пробьет ее, придет в себя и продолжит свои человеческие дела, полагаясь на божественность в себе и своих собратьях…
Билли и Анжело покинули склад последними. Я проследовал за ними до дома N_21. Перед тем как скрыться в доме, Анжело поднял руку с вывернутой ладонью, полноправный член «стервятников». Я боялся, что его страдания выразятся в форме ночных кошмаров, если, конечно, он вообще может спать. Я тенью следовал за шагающим по Калюмет-стрит Билли Келлом. В квартале от «ПРО.У.ТЫ» я догнал его, взял за плечо, развернул лицом к себе и сказал по-сальваянски:
— Ну что, сын убийцы, ты доволен?
Он смотрел на меня с изумлением человеческого ребенка, без испуга, потом позволил своему лицу исказиться в человеческом страхе. Натуральном или разыгранном?… И наконец, заикаясь, сказал по-английски:
— Какого черта, мистер Майлз? Вы больны или пьяны, или еще что-нибудь?
Я устало ответил по-английски:
— Ты меня понял.
— Понял?! Я думал, вы поперхнулись. У вас что, «эйч» — основной звук или как?[29] Уберите от меня руки!
Я схватил его за рубашку. Я знал, что мне делать. Надо сорвать с него рубашку, и если этот туманно-слепой лунный свет окажется недостаточно сильным, чтобы я мог разглядеть на нижней части грудной клетки Билли крошечные запаховые железы (если они там вообще есть), потереть их руками. А потом руки понюхать. Билли тоже знал это. Как и то, что, разыгрывая из себя человека, он и пугаться должен по-человечески.
— Где же твой отец нашел для тебя хирурга? Этим искусством владел Отказник Ронза… Он все еще жив, с его грехами? Отвечай!
Он легко вырвался из моих рук — он был силен — и отшатнулся от меня:
— Перестаньте! Оставьте меня в покое!
Но я продолжал на сальваянском, медленно и откровенно:
— Завтрашней ночью я получу доказательства того, что совершил твой отец. И все закончится, ребенок. Он умрет, а ты будешь схвачен… Если не мной, то другими Наблюдателями… Для наказания и спасения в госпитале Старого Города…
— Боже мой, да вы и в самом деле пьяны! Хотите, чтобы я позвал копа? Я позову, если потребуется. Я закричу, мистер.
И он бы закричал. (Но не мог ли обыкновенный человеческий мальчишка-хулиган воспринять происходящее как некое приключение? Вероятно, да). Он мог бы и соседей поднять, и вдобавок полицию позвать. И тогда бы я превратился во вздорного, слишком крупного и не слишком хорошо одетого человека, обвиненного в хулиганских действиях по отношению к беззащитному мальчику. И прежде чем это бы случилось, прежде чем рядом со мной появилась бы патрульная полицейская машина, мне бы пришлось взвести ключ гранаты. А потом — яркая пурпурная вспышка, кучка мусора на тротуаре, кратковременная сенсация в Латимере… Миссия моя закончена, Анжело один, беззащитный перед теми, кто набивается к нему в друзья.
Я прорычал по-английски:
— Убирайся к дьяволу! — почти побежал прочь от него.
Когда я поравнялся с «ПРО.У.ТЫ» сверху донесся шепот: «Эй!» Я оглянулся назад, удостоверился, что билли Келл ушел, и только после этого осмелился поднять голову и посмотреть на белый цветок в окно второго этажа. Белый цветок было лицо Шэрон.
— Привет, голубушка!.. Жарковато для сна, правда?
— Да, черт!
Я мог видеть ее руки на подоконнике, а над ними темные цветы. Темными цветами были ее глаза.
— Луна вся в дымке, Бен. Ну, я могла бы спуститься по водосточной трубе, откровенно говоря, но на мне ничего нет, откровенно говоря.
— Как-нибудь в другой раз.
— Вы гонялись за Билли?
— Это был Билли? Я не заметил. Нет, просто вышел подышать. Вероятно, тебе лучше лечь спать, чтобы встать вовремя.
— Думаете, лучше? Кстати, я нарисовала на столике возле кровати клавиатуру, вот только не знаю, как сделать, чтобы черные клавиши были выше белых.
— Я намерен предложить тебе нечто по лучше, чем нарисованная клавиатура.
— Да?!
В этом возгласе было чистейшее замешательство ребенка, не привыкшего ждать чего-либо хорошего. Ни от кого. Встречая ее раздраженного коротышку-отца, я удивлялся, откуда у них появлялись деньги хотя бы на занятия. Вероятно, дело во временном нажиме со стороны «мама-с-мигренью». И это вряд ли поможет Шэрон ступить на дорогу, по которой она — я уверен! — должна идти дальше. Я подлизывался и находил в этом определенное удовольствие.
— Я намерен поговорить с миссис Уилкс. Думаю, могу получше организовать твои занятия музыкой, получше, чем в школе… Ну как?
— Клево! — Шэрон просияла. — Вы можете? Ой, клево!
Я не видел Анжело ни утром, ни днем. Я и сам спустился вниз поздно, но Роза сказала мне, что он нездоров и она оставила его в постели. Наверное, он спит. Наверное, простуда… Она ни капельки не беспокоилась: такое с ним случается довольно часто. И я не понял: он ни слова не сказал ей о банде. Вот тебе и простуда!
Днем я выполнил обещанное. Я взял обязательство, Дрозма, которое, думаю, наш «департамент финансов» в Торонто соизволил выполнить. Денег потребуется не так уж много, а я смогу считать это дело хоть каким-то достижением, даже если моя миссия завершится провалом. Я отправился повидаться с миссис Уилкс.
Миссис Уилкс оказалась Софией Вилькановской. Как я и предвидел, установить с ней взаимопонимание не составило особого труда. Надо сказать, что она — настоящий учитель, любящая и добрая, не поддающаяся давлению житейских неприятностей: они утомляют Софию так же, как и всех, но не сумели разрушить ее дух.
Она крошечная, фарфорово-бледная, обманчиво хрупкого вида. Живет на тихой улочки в богатом районе (я послал адрес Коммуникатору в Торонто) с сестрой, слабой в английском, зато зрячей. Они справляются. Английский Софии отвечает всем требованиям. Когда же я заговорил по-польски, она была просто счастлива, и между нами сразу же возникли дружеские отношения. В 30948 году, когда Софии было уже пятьдесят, а ее сестре сорок восемь, они убежали из душевой, пленной Польши. Как умер муж Софии, я решил не спрашивать. Обе красят волосы в черный цвет и имеют несколько других милых причуд, но музыка в Софии неистребима. Как сверкание бриллианта.
Мы говорили о Латимере, который в это пустое десятилетие хоть к музыке неравнодушен. У меня было множество других забот, поэтому я тут же предложил преобразовать ее студию в небольшую школу.
Они сказали:
— Но… но…
— Я старик, — сказал я. — У меня есть деньги — канадские ценные бумаги и кое-какие другие средства, которые я все равно не могу взять с собой в могилу. Что может быть лучше такого памятника?
Я указал, что соседний с ним дом не занят. Это могло бы быть товарищество, скажем, с одним или двумя другими латимерскими учителями… а свободные комнаты — для таких перспективных учеников, как Шэрон Брэнд. София Вилькановска не была расстроена тем, что секрет стал известен. Она знала, что такое Шэрон: если бы она не знала, она не была бы тем учителем, которого я хотел для ребенка. Я куплю и перестрою дом, сказал я. Мое участие в предстоящем деле анонимное. Я должен довести дело до конца и обеспечить гарантированное содержание в течение десяти лет, остальное — за ними.
Меньше чем за час я дал идее возможность развиться в их беспокойных, не до конца поверивших, но, по существу, практичных умах. Мы сидели, говорили по-польски и пили великолепный кофе из крошечных, почти прозрачных чашечек, каким-то образом уцелевших в том мрачном путешествии пятнадцатилетней давности. После того как я, к сдержанному удовлетворению Софии, сыграл «Полонез», она с удовольствием сказала мне, что я хороший пианист. Я был экспансивным эксцентричным пожилым джентльменом, по-видимому, американцем польского происхождения, с деньгами за душой, ищущим возможности еще при жизни поставить себе маленький нестандартный памятник. Это производило впечатление. Больше, правда, на меня, чем на них. Наконец я сознался — сказал, что мне случилось познакомиться с Шэрон и услышать ее упражнения. Я понял, что дома у нее пианино нет и не будет, и рассердился. Я полюбил девочку, собственных детей завести не пришлось, и почему бы мне не хотеть подобного памятника?..
Они все поняли.
— Это просто опасно, — сказала София, — иметь такую жажду, как у этой малышки. Перед первым с нею занятием я думала, что моя собственная жажда была… понимаете?.. поработать над пальцами девчушки, которая… Впрочем, не важно. Но что здесь будет для нее, мистер Майлз? Школа? Начало карьеры?
— Опыт. Победы, поражения, созревание. Наибольший жестокостью было бы защищать ее от огорчений, присущих борьбе.
— Боже, сущая правда. И мы принимаем ваше предложение, мистер Майлз.
Вот самое значительное из сделанного.
Я закончил предыдущую главу неделю назад, в моей душной комнате, на следующий вечер после встречи с учительницей Шэрон. Я ждал, когда наступит летняя ночь. Завтра я буду жить, но Бенедикт Майлз умрет. Я пишу эти строки в спешке, Дрозма, чтобы закончить отчет и отправить его вам. И нет такой резолюции, которой даже вы, мой второй отец, могли бы сбить меня с избранного пути.
Тем вечером, дождавшись тьмы, я вывел «Энди» из гаража на Мартин-стрит — там же стояла изящная машина, принадлежавшая Ферману — и отправился в Байфилд. Я убрал «Энди» с дороги, продрался через небольшой лесочек, перелез кладбищенскую ограду. Луна еще не взошла.
Я всегда мог находить покой среди человеческой смерти. По крайней мере, в этом они наши кровные родственники: наши пять или шесть сотен лет создают на вечности не больше ряби, чем смешная суета барахолки. Я отыскал вал, на котором мы с Анжело пережидали ритуал Джейкоба, нащупал надгробие на могиле Мордекая Пэйкстона с останками одуванчиков. Они все еще были чем-то большим, нежели высохшая органика. Я пошел к могиле Сузан Ферман.
Прошло уже десять дней, как в Байфилд уехал Ферман, а вернулась только его личина. В тот день шел дождь; больше не выпало ни одного. В этом уголке кладбища за памятниками ухаживали. Трава подстрижена, многие камни украшены свежими цветами. Это были места, удаленные от той современной части, где природе было дозволено прикрывать павших на собственный манер, где трава была высокой, где повсюду виднелись те невысокомерные цветы, которые люди называют сорняками.
Я искал следы трагедии, ставшей более печальной, чем любая из увековеченных тут смертей: Джейкоб Ферман умер не от старости, не от несчастного случая, не от глупого приступа болезни и не в силу какого-либо недостатка своего характера, но, как ребенок в подвергшемся бомбежке городе, был надменно выхвачен из жизни в результате конфликта, не им рожденного.
За десять дней трава настойчиво следующая своим жизненным правилам, конечно, уже выпрямилась, но не до конца, и этого оказалось достаточно, чтобы я обнаружил, что в лощину, под прикрытие ив, тут проволокли некий предмет. В лощине Намир тщательно замел свои следы: его усилия вполне могли бы обмануть лишенный наблюдательности глаз служителей кладбища. Но не мой глаз. На этой, всегда находящейся в тени земле, дерн был тонким и мшистым. Намир завернул часть дерна и разбросал лишнюю почву. Для обеспечения качественной маскировки ему явно не хватило старания: я очень легко обнаружил границы потревоженного дернового слоя.
Стоя на коленях в неприветливой темноте, я взглянул сквозь толщу десяти дней и увидел тот памятный, насквозь дождливый день. Ферман сказал: «Солнце встало сегодня где-то далеко от нас». Не многим бы такое пришло в голову. И ни один человек не поехал бы на кладбище в такой проливающий слезы день. Кроме этого старика. Он поехал. Он стоял здесь под дождем, искал в нем какое-то свое, невинное утешение, и тут эта тварь напала на него.
Я проткнул большим пальцем почву с легкостью — там, где должна находиться сеть из корней травы, была пуста. И тут позади меня… ох, до восхода луны было все еще далеко… позади меня раздался голос Намира:
— Он там. Вам незачем портить мое произведение.
Он стоял на возвышенности, скот-убийца с лицом Фермана и искрами нашего голубого ночного свечения в глазах. Вы говорили мне, Дрозма, что он безнадежно болен. Он и казался таким, широкоплечий, с поджатыми губами, с наклоненной головой. Но я думаю, что болезнь тех, кто пребывает во зле, становится чем-то бОльшим, нежели болезнь. Я думаю, они любят ее, как жертва героина любит свою беду. Как иначе объяснить столь огромное число преступников? Как объяснить неиссякаемое упорство фанатика, попавшего в плен одной идеи, и гору трупов вокруг Гитлера? Это же не просто истерия, когда ведьмы прошлых веков хвастались связью с дьяволом.
Даже в позе его было нечто тигриное. Но тигр не виноват, он просто голоден или его одолевает любопытство к проявлениям более мелкой жизни.
Я сказал:
— Не потрудитесь ли объяснить мне, чем вы оправдываете себя?
— Оправдываю себя? Вовсе нет.
— Объясните!
— Только не Наблюдателю. Когда-нибудь, в будущем, прославят то, что я делаю.
— У вас нет будущего. Но есть еще выбор.
— Я сам делаю свой выбор. — В его руке появился нож с длинным лезвием. — Иногда с помощью вот этого.
Он не заметил, что, поднимаясь с могилы Фермана, я прихватил круглый камень.
— Так вот как умер Ферман…
— Да, Элмис, все просто — смерть после захудалой полужизни обычного представителя его племени.
— И у него не было шансов защититься?
— А у него они должны были быть?.. Ну, Элмис, он даже улыбался. Он сказал: «Почему вы делаете это? Ведь я не причинил вам никакого вреда!» Видите?.. Он просто не мог осознать своим ничтожным умишком, что к его жизни можно относиться как к чему-то не имеющего никакого значения. Он сказал: «Что за шутки?» И протянул руку за ножом, как будто он был непослушным мальчишкой… Я! Потом он увидел, что его лицо стало моим, и это озадачило его. Он сказал: «Разве у человека есть другое я? Это мне снится». И я оборвал его сон. А теперь и ваш!
— И вас не волнует, что траву вокруг меня зальет оранжевая кровь?
— Нет. А почему вас это волнует? Даже если они найдут вас вовремя и успеют вскрыть, вы отправитель на третью страницу, как только объявится новый сексуальный маньяк.
— Вы отчаянный малый, Намир. За моими плечами тридцать тысяч лет на Земле, на моей планете Земле.
— Ну так защищайтесь, с вашими тридцатью тысячами!
Он бросился вниз по склону, спотыкаясь и вздыхая, как будто предстоящее причиняло ему страдания. Мой камень ударил его в щеку, обнажил под искусственной плотью настоящую черепную кость, ошеломил его и сбил с ног. Нож отлетел в темноту ночи. Намир однако тут же вскочил на ноги, кинулся на меня и мы вцепились друг другу в горло. Его глаза впились в мои глаза, как если бы он был влюблен в меня. Но в мысль о моей смерти он был влюблен еще больше. Я оторвал его руки от моего дыхательного горла и стиснул его плечи, прижав точки, прижав точки, расположенные выше подключичных нервных узлов. Для марсианина это очень болезненный прием, но Намир выдержал.
Мы толкались и мяли друг друга в течение бесконечно долгого времени. Впрочем, это были всего лишь какие-то секунды, потому что, когда все кончилось, луна еще не взошла.
Я услышал его хрип: «Сдаешься, Элмис? Теперь сдаешься? А позже, когда я загнал его к потревоженному мху на могиле Фермана, он, словно ощутив тень собственной смерти, вдруг подавился словами: «Я стар… Но у меня есть сын…» Он ощутил ненадежность почвы и поднял колено, намереваясь ударить меня, но я уже ожидал этого. Я подсек его опорную ногу, и он повалился наконец на мягкую землю. Его руки превратились в соломинки, и вместе с телом прекратил сопротивление он сам. Только простонал:
— Я один из многих. Мы будем жить всегда.
Я нашел нож и сунул его за пояс.
— Выбор все еще есть. Госпиталь в Старом Городе или вот это. — Я показал ему гранату. — У меня есть еще одна. Или у вас имеется собственная и вы предпочли бы ее?
— Нет, сопливый кузен ангелов… У меня нет ни одной.
— А где же вы использовали свою?
— В Кашмире. — Он бесцельно шарил рукой в траве, в его глазах жило голубое пламя памяти и немного смеха. — Около ста лет назад… Хотите послушать.
— Я должен послушать.
— Да-да, ваш драгоценный долг… Экое тщеславие! Ладно, был там у меня маленький чудак с замашками будды. Почти как Анжело. Некоторое время я учил его, но он бросил меня. Из него мог бы получиться еще один — и неплохой — Будда. Мне пришлось избавиться от него. Он уже начинал проповедовать, понимаете? Мне не хотелось, чтобы его тело превратилось в священную реликвию, поэтому я применил гранату. Таким образом, Элмис, он остался всего лишь смутно вспоминаемым дьяволом в двух или трех неграмотных деревнях. Мир, говорил он. Увеличивать внутренний свет прославлением света других… Отвратительная чушь! Вы узнаете стиль? А он был всего лишь начинающим. Он любил цитировать последние слова Гаутамы,[30] а другие дураки принимались слушать. «Кто бы ни был, Ананда, сейчас или после моего ухода, будет для него его собственный огонь, его собственное пристанище, и не будет поисков нового пристанища, с этого времени да будут последователи моей правды и пойдут они правильной стезей…» И так далее, и так далее, с небольшими собственными добавлениями.
— И за это вы нашли необходимым его уничтожить?
— Да, мне предоставилась честь задавить в зародыше по крайней мере одну нудную религию. Я, впрочем, его любил. Он был совсем как Анжело… Кстати, когда я покинул дом, следуя за вами, Анжело как раз отправился в южный конец Калюмет-стрит…
— Что-что?!
— Южный конец. Война, знаете ли. — Он улыбнулся мне, не глядя на гранату. — «Индейцы» сегодня ночью схватятся со «стервятниками». Анжело и Билли… Он совсем мальчик, Билли.
Он отвел в сторону глаза, но я успел заметить в их глубине маленькую толику лукавства, и это стало еще одним доказательством того, что мои подозрения относительно Билли Келла, кажется, недалеки от истины.
— У них был стратегический совет, — продолжал Намир. — Я кое-что подслушал. У Анжело есть здравые мысли. Особенно мне понравилась его идея, касающаяся использования крыш. «Стервятники» займут крыши вдоль Лоуэлл-стрит, по которой «индейцы» пойдут к месту своего сбора на Квайэ-лейн. Думаю, обе армии будут использовать приспособления, которые они называют «шпокалками». Вместо пуль «шпокалки» стреляют двадцатицентовыми гвоздями и представляют собой вариант арбалета. Лучше всего вам было бы видно с угла Лоуэлл-стрит и Квайэ-лейн, если, конечно, все не закончится еще до того, как вы туда доберетесь… Не позволяйте мне задерживать вас! — Он насмехался надо мной, но многое в его словах могло оказаться истиной. — Ах да, выбор!.. Элмис, если бы вы могли посмотреть на себя со стороны! Неужели вы и вправду думаете, что можете уничтожить меня?
— Госпиталь или граната?
Он прекратил смеяться:
— Граната, конечно.
— За всю историю были казнены всего двенадцать сальваян. Они брали гранату несвязанными руками. Мне бы хотелось отдать должное традиции, если бы я мог доверять вам… Вы уважаете ее?
— Конечно. Выдающаяся честь — номер тринадцать.
Он поднял руки над головой и сказал с искренним сожалением, Хотя я и не услышал ни нотки раскаяния:
— Я тоже сальваянин, Элмис. К тому же старый и усталый.
Я установил гранату на его поясе и отошел.
Он научил меня, глупца, тому, чему не могли научить все прожитые триста сорок шесть лет: не стоит ждать правды от презирающего ее. Он сорвал гранату с пояса и бросил в мою сторону. Граната пролетела мимо, ударилась в иву. Кладбище на секунду озарилось пурпурным, как кровь, сиянием. Низ дерева испарился мгновенно, а верхушка с треском и шуршанием обрушилась на меня. Чтобы спастись, мне, дураку, пришлось прыгнуть в сторону, а над могилами прозвучал тонкий смех Намира:
— Это все, что вы переняли у людей!
Известие о войне банд вполне могло оказаться ложью, но я решил не играть с судьбой. Первые метры наших дальнейших дорог совпадали, и потому я преодолел ограду кладбища вслед за Намиром. Он увидел в моей руке свой нож, улыбнулся улыбкой сумасшедшего и свернул в лес. Теперь наши дороги расходились. Впрочем, если меня не погубит моя собственная глупая нерешительность, мы еще встретимся…
Его машина — вернее, машина Фермана — стояла рядом с моей. Я проткнул ей передние шины и отправился назад, в Латимер.
Я припарковал «Энди» сразу за 21. Заглушив мотор, я услышал некий шум, напоминающий отдаленный визг, но больше похожий на свист пара из кипящего чайника. Темный лабиринт городских улиц глушил и рассеивал его. Пока я ехал из Байфилда, луна наконец взошла, но ее помощь в этом лабиринте домов со слепыми лицами была минимальной. Лоуэлл-стрит ответвлялась от Калюмет в двух кварталах за «ПРО.У.ТЫ». Я плохо знал Квайэ-лейн. Дома же на Лоуэлл-стрит не обособленны, а стоят сплошным рядом, образуя узкую улицу, больше похожую на каньоны Нью-Йорка. Когда я свернул за угол, ожесточенный крик стал ближе и мощнее. Тут же в меня врезался запыхавшийся мужчина.
— Эй, мистер! Не ходите туда! Там банды! — пытаясь сохранить равновесие, он схватился за мою руку. — Вызвал копов, не приехали, проклятые… Как всегда, когда в них нуждаешься… Думал, удастся найти патрульного копа на Калюмет…
— Кто-нибудь ранен?
— Дети с пробитыми головами… И будет еще хуже. Мистер, вы бы лучше…
— Я в порядке. Я живу тут, на этой улице.
— Ладно, но не вмешивайтесь, говорю вам. Маленькие ублюдки швыряют камни с крыш, прямо здесь, на Лоуэлл. Попали в девочку… Она не была с ними, лишь бежала следом…
— Где? Где она?
— А?.. О, ее утащила какая-то женщина, увела в дом…
— Моя дочь…
— Боже мой! Не берите в голову!.. Девочка могла оказаться любым ребенком… Она ранена не сильно, ее даже с ног не сбили, и эта женщина…
— Который дом?
— На той стороне, второй от следующего угла.
Я пожал его руку и побежал.
Позади меня в мостовую ударил камень. Только один (идея Анжело?). Звук его падения утонул в криках, и я понял, что впереди Квайэ-лейн. По моему разумению тот, кто кинул камень, не мог быть Анжело — он бы не бросил его в одинокого взрослого сейчас, когда «индейцы» уже миновали этот квартал. Часть моей души все еще настаивала на этом, когда я ворвался в дом.
Это была Шэрон. Ей постелили в передней две женщины. Одна промывала рану на ее голове, другая суетилась вокруг. Увидев меня, Шэрон тут же перестала хныкать, а я, целуя и браня ее, отбросил все правила поведения Наблюдателей.
— Что ты пыталась сделать?
Полагаю, мои зрачки были похожи на серые суповые тарелки, но она вряд ли заметила это. Как говорят люди, все было «олл райт»: кровотечение уже почти прекратилось, и спасители Шэрон как следует вычистили рану.
— Шэрон, Шэрон, что…
— Я хотела, чтобы они перестали. Вы заставите их остановиться?
— Конечно, именно это я и сделаю. Все нормально, Шэрон.
Она слегка расслабилась, вздохнула и вытерла нос, сердито и уверенно.
— Откровенно говоря, Бен, вы всегда появляетесь, когда вы нужны, откровенно говоря.
— Все в порядке, Шэрон. Я заставлю их остановиться.
Женщины взяли меня в оборот. Одна из них поинтересовалась, чем я думал, когда позволил своей дочке в такое время бегать по улицам. Я отделался словами, что она не моя дочь, черт побери, просто я знаю, где она живет, и вернусь чуть позже, чтобы забрать ее. После этого я выбежал из дома и отправился на поиски поля брани.
Долго искать не пришлось. Квайэ-лейн была грязным переулком, глухим тупиком, ограниченными двумя складами и упиравшимся в глухую стену третьего. Позже, от полиции, я узнал, каких результатов достигли «стервятники» своей стратегией. «Индейцы» двинулись по Лоуэлл-стрит, готовясь к намеченной схватке на Квайэ-лейн. Идея была проста — посмотреть, сколько увечий можно нанести друг другу до того, как завоют сирены. Вероятно, «индейцы» не поняли, что происходит, когда на Лоуэлл-стрит посыпались камни. Да еще и увеличили свои трудности, разбив уличные фонари, на Лоуэлл и Калюмет. Один мальчик был убит. Несколько позже поблизости от места схватки полиция нашла другого со сломанным плечом. Мертвый мальчик скорее всего лежал где-то в тени, потому я его и не заметил, когда бежал по этому кварталу… Преодолев зону каменного дождя, «индейцы» обнаружили небольшой отряд «стервятников». Этот отряд, инсценировав отступление на Квайэ-лейн, заманил «индейцев» в ловушку. После этого капкан захлопнулся: основные силы «стервятников», покинув свои укрытия в дверных проемах, усиленные метателями камней на крышах, атаковали врага. Среди атакующих не было лишь одного человека. Билли Келла с тех пор не видели ни я, ни полиция. Почему он не участвовал в схватке на Квайэ-лейн? Проявил заботу о своей оранжевой крови?
Кажется, мне очень хотелось верить, что именно Билли Келл сидел в одиночку на крыше, когда «индейцы» уже проследовали к месту схватки.
Кулаками, камнями, «шпокалками» и ножами «стервятники» Загнали «индейцев» в темный конец переулка. Когда я достиг грязного угла Квайэ и Лоуэлл, «индейцы» уже прекрасно поняли, что произошло, и яростно пробивались назад. Отвратительная луна уверенно заглядывала в переулок, все было видно как на ладони.
Я не мог обнаружить Анжело.
У некоторых мальчишек были фонарики, и их судорожно шныряющие лучи добавляли суматохи в ход схватки. Впрочем, гораздо чаще фонарики использовались в качестве дубинок. Я выкрикивал какую-то благоглупую чушь, которую все равно никто не слушал. Один из «стервятников» — я узнал его по черному шотландскому берету — проскочил мимо меня, держа в руках нечто похожее на деревянное ружье. Я мельком заметил резиновую ленту, гвоздь в прорези и вырвал оружие из рук мальчишки. Тот сверкнул безумными глазами, закрыл рукой лицо и убежал.
Я не мог обнаружить Анжело.
Наконец-то с Калюмет-стрит донесся визгливый гневный голос сирены. Мальчишки тоже услышали его, ударились в панику. Затопали ноги тех, кто еще мог двигаться. По мере трое остались лежать в тупиковом конце переулка.
И тут я увидел его. Он возник из ниоткуда. Вспрыгнул на ящик у открытой пасти переулка, в драной рубашке, с ног до головы залитый кровью, в руках обломок металлической трубы. Его чудесное, грязное, безрассудное лицо перекосилось, и он крикнул:
— Бей их! Не давайте им удрать! Как вы, курицы мокрые?.. Это вам за Беллу!
Услышали его не многие. Сирены были громче и говорили на более понятном языке. Все мальчишки рванули из переулка. Банды смещались, «индейцы» и «стервятники» метались по Квайэ-лейн, натыкаясь на стены складов и на меня, с трудом пытающегося пробиться к Анжело. Две патрульные машины завизжали тормозами, закрыв мечущимся мальчишкам дорогу к отступлению. Вопросительный вой сирен закончился утвердительным ворчанием. До Анжело наконец дошла вся серьезность ситуации. Прежде чем я успел поймать его, он соскочил с ящика… не думаю, что он узнал меня в тот момент… и слепо рванулся навстречу цепким рукам патрульного Данна.
— Один, во всяком случае, есть! — сказал Данн и ударил его в ухо.
Через несколько секунд, помимо Анжело, были окружены еще шестеро или семеро. Трое из четверых полисменов не прибегали к помощи дубинок, интересуясь в основном воротниками рубашек и руками схваченных мальчишек, но одна дубинка все-таки сделала свое грязное дело. Вслед за патрульными машинами прибыла «скорая помощь». Я проклинал предков Данна, но не долго и не знаю, слышал ли он мои проклятья. Он все еще выкручивал руку Анжело, и я проорал копу в ухо:
Данн! Вы не можете забрать его в участок. Если вы поступите так, это убьет его мать!
— Его ма… — Похоже, он только сейчас узнал Анжело.
И не удивительно — запекшаяся кровь, грязь, искаженное страданием лицо…
Я развил свое наступление:
— Ее сердце, человек!.. Вы не можете. Ведь ребенку всего двенадцать лет. Его втянули в это, я узнал случайно… Я расскажу вам потом. Отпустите его, Данн. Не регистрируйте его.
— Кто вы?
— Я живу там. Видел вас, когда к нам залез вор.
— Ах да… — Он еще раз тряхнул мальчика, но уже не грубо.
Анжело пошатнулся в его руках и сплюнул кровь: у него оказалась разбитой губа.
— Боже, малыш! Ты же всегда был хорошим мальчиком… С тобой никогда не было проблем. Какого же черта?
Анжело ответил неожиданно спокойно:
— Правда? А я и не знал.
— Что?.. Да ты же прежде не делал ничего подобного!
— Делал, — вяло сказал Анжело. Голова его упала на грудь, слова стали еле слышными. — Да, делал. В мечтах. Они приходят, как облака. Что есть небо — облака или синева?
— Сейчас, малыш, сейчас… Что ты такое говоришь?.. А-а истерика — вот что с тобой! Соберись с силами! Видишь «скорую помощь»? Знаешь, что происходит внутри нее?
— Отпустите его домой, Данн. Отпустите его домой!
— Все поедут в участок, мистер. Но вы правы. Пожалуй, я не стану его регистрировать и отправлю домой. Понимаешь, Анжело?.. Ошибка! Ради твоей матери, на ради тебя, поверь! Но если ты попадешься когда-нибудь во второй раз, никаких ошибок больше не будет, никаких. А теперь полезай!
— Бен! Бен… Скажите им, чтобы меня почистили, прежде чем…
— Полезай в машину! Полезай сейчас же!
Женщины-спасательницы дали Шэрон таблетку снотворного. (Это культура, все более и более потребляющая снотворное, Дрозма. Семнадцать лет назад мне и в голову не могло прийти, что почтенная женщина, живущая в бедном районе, будет иметь запас барбитуратов и, более того, безо всякой рекомендации врача, небрежно даст таблетку ребенку. Это можно рассматривать как признак наличия множества процессов, могущих похоронить нашу надежду на создание Союза в ближайшие пятьсот лет. Хотя я не стал бы слишком упрекать людей. Жизнь, с ее растущей сложностью, изводит и мучает их: вместо того, чтобы учиться непритязательности, они с большей охотой предаются сну). Я отнес Шэрон в свою машину и отвез домой. Я был раздражен и грубо оборвал взволнованное молчание ее родителей. В определенной степени их вины в происшедшем не было. Осуществляя свое сумасшедшее намерение, Шэрон спустилась по водосточной трубе, а они думали, что она в постели. О том, что запланировано на ночь, Шэрон сообщил другой ее приятель, решивший порвать со «стервятниками». Шэрон рассказала мне об этом через день-два. Я должен побыстрее завершить отчет, Дрозма, и потому буду краток.
Намир-Ферман в дом 21 не вернулся. Я и не рассчитывал на его возвращение. В тот момент, когда я пишу эти строки, труп самого Фермана еще не обнаружен. Была статья о «таинственной зарнице», уничтожившей дерево в Байфилде. Разрушения, нанесенные упавшей верхушкой, вполне могли скрыть следы присутствия мелкой могилы, появившейся на кладбище. Если старика когда-нибудь найдут, полагаю, его безмотивное убийство так и останется для следствия тайной.
Дом 21 был тих и спокоен. Розу я нашел в ее полуподвальной комнате. Она шила что-то, беззаботная, кроткая, слишком далекая от битвы на Квайэ-лейн, чтобы услышать разносившиеся по улице вопли. Она была уверена, что легко простуженный Анжело давно уже спит в своей комнате. Для меня это было уже слишком. Я не понимаю ни силы, ни хрупкости человеческих существ — то они лишь гнутся под ураганным ветром, то ломаются от легчайшего сквознячка.
По моему лицу Роза поняла: что-то случилось. Отложив шитье, она двинулась ко мне:
— В чем дело, Бен? Вы заболели? — Все еще не испугавшаяся, все еще прячущаяся за своим мнимым щитом любви и безопасности — дом в порядке, Анжело в своей комнате, — она вполне могла жалеть меня и желать мне помочь. — Что случилось, Бен? Вы выглядите ужасно.
Я пробормотал:
— Ничего серьезного, но…
Я мог бы успеть подготовить ее к случившемуся. Мне просто не повезло. Не знаю… Заикаясь, я мучительно подыскивал слова и фразы, которые должны были бы стать предупреждением и не нанести душевных ран, — неисправная тяга к человечности… Пока я кряхтел и заикался, явился Данн — без звонка, держа за руку Анжело. Да, они постарались привести его в порядок, но как скроешь разбитую губу и резанную рану над глазом?.. Они вымыли его лицо, но как отмоешь выражение стыда, лед отчуждения и следы душевной муки?..
Правая рука Розы коснулась дрожащих губ, стиснула запястье левой руки. Роза пошатнулась и повалилась на бок. Я оказался недостаточно расторопным, не успел ее подхватить и Данн.
Все было кончено в течение нескольких мгновений. Ее лицо уже синело, а она все еще старалась понять, где был Анжело, или сказать ему что-нибудь… Что все нормально, что он ни в чем не виноват…
— Можно, я схожу за отцом Райаном?
Услышав этот шепот, Данн вспомнил об Анжело и повернулся к нему:
— Боже!.. Она умерла, малыш. Она умерла!..
Да, я понимаю, я знаю. Это сделал я. Можно, я схожу за отцом Райаном?
— Конечно.
Больше он не вернулся, Дрозма. Священник пришел быстро, но Анжело с ним не было. Отец Райан сказал, что Анжело убежал.
В течение всей следующей недели полиция Латимера и штата делала все возможное, все, что может изобрести человеческий разум. Искали они и Фермана. Пустопорожние слухи плавали по городу, как легкая дымка, которая еще долго висит в воздухе после того, как лес уже сгорел. И кажется мне с той поры, что он сбежал в ночь, и ночь поглотила его, и сам я пойду в ночь и поищу его там…
Несколько слов о Шэрон. Я видел ее в последний раз у Амагои. Она знала, что ее волшебство погибло, так же хорошо, как и я, и потому было совершенно естественно, что мы заговорили как взрослые. Разумеется, Анжело будет найден, сказал я, или — что кажется более вероятным — вернется сам, когда сможет. Я ухожу искать его, сказал я. То, что она не может присоединиться ко мне, было очевидностью, и эта очевидность взывала в ней тихий протест, но она смирилась. Еще никогда я не был так опасно близко к разоблачению, как в этот раз, когда она сказала:
— Вы понимаете все, Бен. Вы найдете его.
Итак, я понимаю все! Она — женщина, Дрозма. И даже ее испорченные словечки не были забавны, они вообще не были забавны. Я заставил ее пообещать мне, что она будет делать то, о чем она и так догадывалась. Она не догадывалась — она знала. И пообещала мне остаться, остаться со своей музыкой, расти, «быть хорошей девочкой»… И мы наконец обнаружили, что можем немного посмеяться, понимая однако, что означает этот смех.
Если я сейчас закончу, у меня еще будет до рассвета время, чтобы сделать себе новое сносное лицо. А когда вы получите мой отчет, я свяжусь с вами через Коммуникатора в Торонто и узнаю ваше решение.
Но каким бы оно ни было, я не вернусь в Северный Город, даже если это будет означать отказ от нынешней миссии. Я не позволю Намиру и его сыну одержать победу. Мы немного меньше людей, Дрозма, и немного больше их.
В нашем варварском обществе влияние
характера проявляется в раннем детстве.
8 МАРТА 30972 ГОДА, СРЕДА, НЬЮ-ЙОРК
Сегодня вечером, Дрозма, меня опять мучает старая болезнь — любовь к человеческой расе.
Я занимался поисками почти девять лет. Как вам известно из моих рапортов, поиски не увенчались успехом. Если Анжело жив, ему теперь двадцать один. Вы были очень добры, поддерживая меня деньгами и советами. Из-за русско-китайской войны, неудержимо вкатывающейся уже в третий мрачный год, и безумной нерешительности остального мира, вы, конечно же, не имеете возможности выделить мне в помощь дополнительный персонал, но я должен продолжать поиски. Позже я перешлю вам этот дневник вместо официального отчета. Несколько часов назад случилось нечто, отчитаться о чем было бы весьма приятно, но в остальном — ничего хорошего: сплошные рухнувшие планы, ложные следы и бесполезные поездки. Сегодня я прибыл в Нью-Йорк. Снял здесь квартиру. И все это из-за фотографии в газете, натолкнувшей меня на мысль о Билли Келле.
На фотографии красовался тот парень, Джозеф Макс, дававший интервью какому-то журналисту. За спиной Макса я обнаружил некую физиономию, настороженно-пустую, как у телохранителя, и достаточно похожую на Келла, чтобы пробудить мой интерес. Ведь Намир (и его сын?) вполне могли разыскивать Анжело с той же настойчивостью, что и я. За десять лет я узнал о их местопребывании не больше, чем о том, где живет Анжело. Неделю назад, когда я увидел этот снимок, меня занесло в Цинциннати. Я оказался там потому, что один из моих друзей-бродяг доложил мне, что в местных речных доках околачивается некто, очень похожий на моего «внука». Пустышка… Еще один хромой темноволосый бездельник с лицом, смахивающим на деревянный чурбан. Мир полон смуглых молодых людей, хромых на левую ногу. Бродяги проститутки и мелкие жулики, являются моими главными помощниками, — не те люди, которые знают, как описать черты лица. Обращаясь к ним, я изо всех сил представляюсь старым чокнутым олухом, гоняющимся за внуком, который, возможно, давным-давно умер или (как они думают) вовсе и не жил никогда. Они стараются быть добрыми, снабжают меня слухами, пытаясь помочь стариковским поискам — отчасти, думаю, ради смеха. Конечно, у меня нет достаточных причин считать, что Анжело опустился на дно преступного мира — просто это дно легче изучить, чем бесконечную массу приличных людей. Вполне возможно, что какая-нибудь бездетная пара дала ему приют и новое имя. И тем не менее я продолжаю поиски. Мне еще не встречалось такой толпы, в какой я бы рано или поздно не заметил смуглого хромого юношу. Как-то я увидел одного. Он не только был похож на Анжело, но и имел над правым глазам шрам. Такой шрам должен был появиться у Анжело после той памятной ночи. Я встретил этого парня в коптере, летящем по маршруту «Сакраменто — Окленд». Я проследил за ним до самого дома, некоторое время понаблюдал, навел справки у соседей. Милый мальчик, даже не итальянец, всю свою жизнь прожил в Окленде. Некоторые надежды не умрут никогда…
Без сомнения, у нас есть Наблюдатели, занимающиеся Джозефом Максом и фиглярами из его Партии единства. Что ж, стану еще одним — по крайней мере, пока не удостоверюсь насчет Билли Келла. Возможно, по ходу дела мне удастся вытащить на поверхность кое-что интересное. Черт побрал эту кутерьму вокруг Джо Макса! Кстати, что там с его идеей привлечь человека типа доктора Ходдинга? Рискну повторить то, что вам уже могли сообщить другие Наблюдатели. Речь идет о той истории, что подробно освещалась газетами года два назад. Джейсон Ходдинг был членом правления «Фонда Уэльса» (биохимические исследования, весьма недурные) и изрядно напугал мир своими пропагандистскими выходками в пользу партии Макса на выборах 70-го года. Он рассчитывал, что его выходки позволят пролезть в конгресс этому ненормальному, сенатору от Аляски Гэлту. Затем Ходдинг ушел и «Фонда» (или его выставили?) и скрылся из поля зрения общественности. Не бедствует, живя на Лонг-Айленде «в отставке». Говорят, знает о мутациях вирусов больше, чем кто бы то ни было…
Теперь Макс называет свое детище «Партией органического единства». Он больше не тявкает на публику о расовой чистоте, хотя кое-какие сплетни о кандидате негритяно-индейских федералистов, по-видимому, исходят от Макса. На публике он выступает за человеческое братство: такие выступления добавляют голосов. Он сделает попытку выиграть осенние выборы, признав Америку управлять миром. «Очистим Азию!» — такой лозунг украшает его штаб-квартиру на Верхнем Уровне Лексингтон-авеню, и никто не смеется. Мы должны реформировать Азию (для их собственного блага, конечно), пока российский и китайский гиганты испускают (по-видимому) дух. Возможно, они и в самом деле его испускают: во всем, что утверждает Макс, содержится вирус полуправды. Агенты доносят, а наблюдения с помощью сателлита подтверждают, что с прошлого лета в Азии имели место ядерные взрывы. Я верю Властителям сателлита, потому что год назад, несмотря на сильный нажим, они разобрались кое с какими проблемами водородного оружия. Это требовало мужества там, наверху, на «Полночной Звезде», с тех пор как гуманитарная оппозиция, как часто бывало, поменяла свою точку зрения. В течение марта 30972 года мы в неведении… безумно, продуманно, тактично находимся в неведении. Если вы верите коммюнике Властителей сателлита (я более или менее верю), там должна быть идиотская позиционная война с фронтом вдоль всего спинного хребта Азии. Сибирь пребывает во мраке, как и всегда. Время от времени Властители жалуются, что действительно не могут собрать информацию с целых 1075 миль. Дрозма, когда будете писать мне ответ, сообщите, цел ли в настоящее время Азия-Центр. У меня там были друзья.
Тут ни в чем не сомневается, по-видимому, только Партия органического единства.
Над Максом никто не смеется, и это пугает меня. Люди стали слишком черствыми, чтобы разглядеть за передовицами, телеэкранами, кинохрониками его ядовитый фанатизм. Когда Макса застают без косметики, он всегда выглядит слегка болезненным и лоснящимся от пота — этакая скверно оживленная карикатура на Джона К. Калхоуна,[31] только без калхоуновской честности и мягкости. Когда в прошлом году Макс отрастил болтающуюся челку… черт возьми, никто и не подумал смеяться. Он бережет свой яд для вновь образованной Федералистской партии. Я еще не составил своего мнения насчет этой организации. Кажется, в ней нет ничего непорядочного и есть кое-какой смысл, раз уж они сумели смягчить доктринерскую уверенность своих членов. Иногда они забывают свои собственные добрые преамбулы. Эти «разногласия-внутри-союза» и есть сущность федерализма. Демократы и республиканцы вызывают у Макса только презрение — он заявляет, что их дни сочтены, так-то вот. Они совершили ошибку, платя ему его же собственный монетой или стараясь не замечать его вовсе. У республиканцев не было свежих идей с 1968 года, когда победу на выборах одержал демократ Клиффорд. (А как я ошибся насчет 64-го! Вероятно, я потерял самообладание, но я не типичен.) За бах-бахом Рузвельта последовал тук-тук-тук Вильсона.[32] Говорят, Клиффорд — хороший парень. Говорят, прогрессивный. Порой я удивляюсь — а не высасывает ли он свои устремления из собственного пальца?..
Теперь, Дрозма, пару слов о Филиппинах. Я слежу за этим Институтом исследования человека. Основан в 1968 году. У меня есть подозрения, что его персонал является подопытным материалом для изучения катастроф, так же как и здания, на которые я надеюсь когда-нибудь взглянуть, если доживу. Никаких дутых обоснований. За ними стоит не бросающееся в глаза мужество. Мне нравится их замысел: «Собрать и сделать доступный всю сумму имеющихся человеческих знаний». Задача трудная, но они думают о деле. «Продолжать исследования в тех направлениях, которые непосредственно касаются природы и функции человеческих существ». И они объясняют, что использование термина «человеческие существа» взамен термина «человек» сделано умышленно — это было бы естественным обращением к моей придирчивости необъективности. Но дело в том, что они мыслят категориями столетий и не боятся следующей недели. Вы помните, что Манила должна быть стать одним из величайших мировых центров торговли и культуры, если бы не европейское «тащить и не пущать», задушившее все тем, что они называют «восемнадцатым веком». Я не понимаю, почему бы Маниле не стать Афинами двадцать первого века. Когда моя миссия так или иначе завершится, я, прежде чем вернуться в Северный город, хочу побывать там.
Завтра утром я нанесу визит в штаб-квартиру Партии органического единства, прикинусь чудаковатым стариком, обремененным деньгами. Мое новое лицо меня вполне устраивает. Возможно, поднимая скулы, я несколько переборщил, зато превратился в круглощекого, чертовски милого, вспыльчивого Санта Клауса, шести футов двух дюймов ростом, немного говорящего на языках Востока. Путем усиленных тренировок я добился невозмутимого выражения глаз, что наверняка когда-нибудь пригодится. Буду претендовать на роль потенциального эйнджела[33] для фонда планируемой кампании, эйнджела, пока недостаточно убежденного, но достаточно открытого для внушения. Они расстелют передо мной ковровую дорожку. И если Билли Келл там, я учую его.
Теперь я могу обратиться к тому, что осветило мои триста пятьдесят лет.
После того как, я погнавшись за слухом, будто кто-то в двадцати милях от Латимера заметил мальчика, путешествующего автостопом, покинул городок, я узнал, что полиция еще не потеряла интереса к Бенедикту Майлзу. У меня была новая личина, и мне показалось умной мыслью проинформировать миссис Уилкс, через Торонто, о том, что Майлз умер, распорядившись в своем завещании насчет финансовой поддержки вновь создаваемой школы. Меньшая поспешность, возможно, привела бы к более хорошему решению, но действия были уже предприняты, и изменять что-либо было поздно. Миссис Уилкс добросовестно писала «доверенному лицу» в Торонто все эти годы, за исключением последних двух, и Коммуникатор пересылал мне ее письма. Конечно, когда это оказывалось возможным, поскольку зачастую у меня вообще не было адреса. Два года назад умерла сестра Софии. София переложила заботы о школе на плечи преемника и забрала Шэрон с собой, в Лондон, поскольку чувствовала, что девочка уже на голову переросла уровень ее преподавания. Семья Шэрон в последнем письме не упоминалась. Я не слишком огорчался разлуке с любимым ребенком, потому что знал — придет время, и я снова услышу о ней. И вот когда я на прошлой неделе прибыл в Нью-Йорк, афиши поведали мне о предстоящем дебюте Шэрон. Вечером она играла в «Про-Арт-холле».
Это новый концертный зал в одном из новых роскошных районов, расположенных вдоль Гудзона. Вы не узнаете Нью-Йорк, Дрозма. Я сам почти не узнал, хотя и достаточно хорошо познакомился с ним в 30946-м. В последние девять лет я был здесь несколько раз, но все проездом, и возможности задержаться не представилось.
В 960-х Нью-Йорк решил украсить и облагородить свой отвратительный береговой фасад. От моста Джорджа Вашингтона до Двадцать третьей улицы простирается величественная Эспланада, с высоченными зданиями, частью отступающими за линию более низких сооружений на внутренней стороне Эспланады, частью круто взмывающими в небо прямо от реки. Мне говорили, что понизу до сих пор грохочут поезда железной дороги. Пропуская способность причалов значительно расширилась, но это практически незаметно со стороны: пришвартоваться судну или парому означает войти под арку в светящейся отвесной скале. Надеюсь, когда у меня появится время, я обязательно пересеку Джерси[34] с целью вернуться на одном из тупоносых дизельных паромов и посмотреть все самому. Автомобили катят по второму уровню, и их движение наверху Эспланады не ощущается, так же как вы не чувствуете его, гуляя по верхним уровням авеню. На Эспланаде в компании с вами только небо, стройные здания, люди да ветер с Гудзона, ветер, который теперь не кажется враждебно рычащим, который не бросает вам в лицо песок, но является частью городского величия.
Не стоит жалеть о Нью-Йорке прошлых лет. Времена меняются. Давным-давно срыт район игорных домов, и будь проклят, если знаю, что они сотворили с могилой Гранта. Уверен только, что она по-прежнему там. Береговой фасад был спроектирован вскоре после того, как они вырвали город из лап политиков и изменили систему управления. Они не стали прибегать к методам, рассчитанным на дешевый успех. На просторах Эспланады не разрешается даже кататься на велосипедах, хотя там везде дети.
Постоянное население города уменьшилось примерно на миллион человек, и в соответствии с этим примерно на столько же увеличились огромные секторы столичного округа. Возродились старые планы сделать округ отдельным штатом. Различные общественные организации со всех сторон проталкивают эту идею. В частности собираются подписи под петицией и проводится кропотливая подготовительная работа в конгрессе. Они хотят, чтобы новый штат был назван Адельфи. Лично у меня нет никаких возражений.
«Про-Арт-холл» расположен на верхних этажах одного из зданий, вздымающегося прямо от реки. Сверкающая сталь, камень и стекло. Поскольку мы, Дрозма, вынуждены вести скрытую жизнь, мы никогда не поймем, как они достигают подобного эффекта. Эти здания совершенно человеческие, плоды их сложной науки, тем не менее гармонирующие и с природой — с ветром и с небом, с солнцем и звездами.
Сам концертный зал выглядел строгим. Холодный белый и нейтральный серый цвета. Ничего, что бы развлекало вас или отвлекало ваше внимание от простой сцены и сурового, классического благородства рояля. (Но во время антракта было приятно заглянуть в комнату отдыха и обнаружить за ее стеклянной западной стеной открытое пространство, сквозь которое можно посмотреть вниз, на реку. Насколько далеко вниз, я не знаю. Сверкающий огнями лайнер, плывущий по течению, казался детской игрушкой. Я с удовольствием наблюдал за ним, пока звонок не позвал меня на вторую половину чуда, создаваемого Шэрон.)
Думаю мало кто из публики имел о ней хоть какое-то представление. Просто еще один нью-йоркский дебютант. Я превратился в комок нервов, удары сердца поминутно встряхивали меня. Я прочел программку более десяти раз, но так и не понял, о чем в ней написано, кроме того, что первым номером будет фуга соль минор Баха.
Я затем появилась она. Изящная, хрупкая, кажущаяся высокой — о, я предугадал это! В белом. Я предугадал и это. Ее корсаж был крошечным пучком искорок и снежинок, скромный до абсурда. Каштановые волосы она до сих пор носила распущенными по плечам, они казались туманным облаком. Она и не подумала улыбнуться, да и поклон был почти небрежным. (Шэрон сказала мне потом, что, будучи очень испуганной, не могла поклониться ниже из страха, что когда она опустит голову, испуг отразится у нее на лице, и с ним будет уже не сравниться.) Я вспомнил Амагою.
Она села, коснулась ладонями носового платка. Поправила длинную юбку, чтобы подол прикрыл лодыжки. Я тупо отметил, что она все еще принадлежит к классу курносеньких. Где-то рядом с нею должен был находиться и красный мячик на резинке…
А потом я подарил ей наилучший комплимент — напрочь забыл о ней. Мной целиком овладела фуга, она нанесла мне глубокие раны и увела меня в… Какие фантастические и потому вечные города видел Бах, создавая из мрамора снов свою архитектуру? Была ли написана «соль минор» уже после того, как он ослеп? Я не помню. Да и не в этом суть: Его видения недоступны нормальным, зрячим глазам. Все было так, словно Шэрон сказала каждому из нас: «Идите сюда, ко мне. Я покажу вам, что я увидела». Нет другого способа исполнять Баха, но кто в девятнадцать лет способен понять это?
Несмотря на великолепный финал, не было обычного, убивающего последний аккорд, взрыва эмоций. Наоборот, они подарили ей несколько секунд той чарующей тишины, о которой мечтают все человеческие исполнители (и с чем, с тех пор как слушатели-марсиане воспринимают тишину чем-то само собой разумеющимся, я, во время музыки, могу полностью согласиться). Когда гром все-таки разразился, он оказался непродолжительным, потому что Шэрон тут же улыбнулась и ее застенчивая гримаска вызвала сочувственный смех. Этот смех должен был показать ей, что они влюбились в нее. Едва Шэрон повернулась к роялю, аплодисменты тут же оборвались.
Все оставшееся время в первом отделении было отдано Шопену. Соната; три ноктюрна; экспромт фа-диез минор который, думаю, и есть чистейшей Шопен — слияние экстаза и одиночества, почти непереносимых. Шэрон и чувствовала, и исполняла его именно так. И хоть огонь, горящий внутри нас, был спокойным, мы вызвали ее на бис уже в конце первого отделения — вещь в наши дни совершенно неслыханная! Когда возгласы стали явными. Шэрон подарила нам маленькую Первую прелюдию — так она могла бы бросить цветок возлюбленному, достойному ее подарка, но оказавшемуся не слишком расторопным. Сплошное пианиссимо, игнорирующее общепринятые динамические оттенки: словно открывшееся с видом на водопад окно закрывается до того, как вы сумеете угадать, о чем говорит река. Я никогда не играл это в подобном ключе. И Фредерик Шопен не играл, когда я слушал его в 30848 году. Впрочем, он бы, думаю, как раз не возражал. Я не понимаю те музыкальные умы, которые твердят об «определенной интерпретации». В таком случае, если друг подарит вам драгоценный камень, вы должны смотреть только на одну его грань… Мир бесконечен. Почему бы вам тогда не потребовалось, чтобы луна восходила в одно и тоже время в одном и том же месте?.. Проявив подобным образом свою силу, Шэрон улыбнулась — это была не усмешка имеющая какой-то скрытый смысл, а открытая человеческая улыбка. Потом она убежала. Медленно зажглись огни.
Это была чрезвычайно длинная программа, в особенности — для дебюта. От новичков и по сей день ждут, что они окажутся традиционно скромными. Отрывок из Баха — для критиков; отрывок из Бетховена. Может быть, немного Шумана — с целью заполнить переходы. Шопен — чтобы доказать, что ты пианист. А под конец искрящаяся капелька Листа — просто для бравады и куража. Шэрон отдала дань уважению Баху — и какому Баху! — но только по тому, что она именно так захотела. Моя изжеванная программка подсказала мне, что второе отделение начнется с сюиты Эндрю Карра, австралийского композитора, еще год назад мало кому известного. А заканчивалось оно Бетховеном, соната до, опус 53.
Осознание происходило медленно. У меня нет привычки вдумываться в номера опусов, но тут до моего ошеломленного ума дошло, что этот самый опус 53 — ни что иное как «Вальдштейн». Думаю именно это осознание заставило меня пойти на одно из тех импульсивных, основанных исключительно на эмоциях, решений, о которых надеешься потом не пожалеть. Я нацарапал на измятой программке:
«Не умер. Вынужден был изменить лицо и имя, надеясь, что это поможет мне найти А. Увы, дорогая, я не нашел его. Могу ли встретиться с тобой? Один на один, пожалуйста, и пока обо мне никому не говори. Ты — музыкант. Я люблю тебя за понимательность».
Затем я нашел капельдинера, девушку, которая пообещала мне доставить мисс Брэнд мою записку. Я бродил снаружи. Я смотрел на уплывающие в ночь корабли. Я был абсолютно счастлив.
Когда я вернулся, капельдинер с широко распахнутыми глазами искала меня. Она сунула в мою руку клочок бумаги и прошептала:
— Знаете, что она сделал, когда прочла вашу записку? Поцеловала меня! Ну, я имею в виду…
Санта Клаус что-то пробубнил в ответ. Огни уже потускнели, но я сумел разобрать огромные каракули:
«Кафе Голубая Река два квартала вниз от Эсплан прибрежная сторона ждите меня бездельничая избегайте ранних полицейских О Бен Бен БЕН!!!»
Она могла попытаться разглядеть меня в зале, хотя я и упомянул про изменившееся лицо. Она слепо посмотрела вокруг. Я испытал ужас, испугавшись, что, по-видимому, взволновал ее и испортил все второе отделение концерта. Однако она тут же вознесла пальцы над клавишами, как будто «Стэйнвэй» обладал своей собственной волей и был способен сообщать, утешать, снимать волнение и делать ее свободной. Мне не стоило волноваться.
Сюита Эндрю Карра оказалась превосходной. Сложная, серьезная, юная; возможно, слишком трудная, слишком необъятная, но с такой страстью, которая оправдывает все. Вероятно, зрелость объяснит Карру цену легкого касания. Помню, в программке говорилось, что наибольшее уважение он питает к Брамсу. Что ж, все к лучшему — особенно, если это означает, что композиторы 70-х окончательно похоронят пресловутое «я-действительно-имел-в-виду-не-это» школы 30-х и 40-х. У раннего Стравинского Карр научился большему, чем у позднего; поверх его плеча глядит Бетховен; ему нужно побольше Моцарта…
Я не буду теперь играть «Вальдштейна». Все, что угодно, кроме него, да… Я не отношусь с презрением к моему собственному таланту. Но никакого опуса 53. Для любого другого исполнителя было бы настоящей глупостью взяться за сонату после взрывных кульминаций и почти невозможных физических усилий, необходимых для исполнения сюиты Карра. Любой бы другой исполнитель сдался. Но не Шэрон. Она не устала. Сонатой она подвела итог, сделала заключительное заявление, нанеся пламенеющие краски на все предыдущее.
Возможно, мне приходилось слышать начальное аллегро с более техничным исполнением концовки, но с большей искренностью — никогда! В меланхолии кратко адажио я просто погиб. Я понял далеко не все, что имела в виду Шэрон, — в любом случае, размышления Бетховена, в общем-то далеки от нас. Шэрон взяла спокойное вступление в рондо более медленно, чем это сделал бы я, но права была она. А ускоряющийся пассаж в ля миноре становился все более устрашающей вспышкой, племенем внезапно открывающейся тоски… Концовка сонаты ослепляла. Никто не способен смотреть на этот великий свет.
Не буду много говорить об этих овациях, которыми ее одарили: это была всеобщая истерия. Не помню точно сколько раз ее вызывали на бис. После сонаты — семь. В конце концов мы позволили ей уйти только потому, что она разыграла маленькую комическую пантомиму об усталости.
Вы никогда бы не смогли себе представить, Дрозма, какую фразу я услышал от нее вместо приветствия. Потрясающе тонкая, сияющая, в мышино-серой шали поверх платья, она проскользнула в кафе «Голубая Река», непостижимым образом — сквозь все мои изменения — узнала меня, подбежала, неловко, как ребенок, подхватив юбку, бросилась ко мне, ткнулась курносым носом в мою рубашку и сказала:
— Бен, я запорола престиссимо, я запорола его, я сыграла слишком быстро, я исковеркала его… Где, где же вы пропадали?
— Ты никогда ничего не запарывала.
Мне пришлось пробормотать немало подобных пустяков, пока мы изо всех сил старались успокоиться.
Мы нашли кабинку с окном, вглядывающимся в ночную реку. Он спокойный и цивилизованный, этот ресторан — мягкое освещение, ни суеты, ни спешки, ни шума. Было уже позже одиннадцати, но они сумели обеспечить нас ужином героических размеров. Шэрон, постившаяся перед концертом, с трогательным изумлением посмотрела на омара и сказала:
— Могла ли я сознательно заказать это?
Тем не менее она ела его, ела со всеми гарнирами. Мы посмеивались, жевали и нащупывали возможность обратиться к прошлому. Потом, когда с омаром было покончено и с нами остались кофе и коньяк, Шэрон расправила узкие плечи, вздохнула и сказала:
— Давайте!..
Если и было что за эти девять лет, о чем я не рассказал ей, то это либо наше марсианское притворство, либо что-то и вовсе недостойное воспоминаний. В настоящее время я зовусь «Уилл Майсел». Она нашла сложным не называть меня Беном. Мое отбытие из Латимера было в какой-то степени проявлением бессердечия — теперь я понял это. Впрямую она за него меня не упрекала — как и за фальшивое известие о моей смерти, — но один раз взяла мои пальцы и, прижавшись к ним щекой, сказала:
— Когда мисс Уилкс сообщила мне… понимаете, я до исчезновения Анжело никогда никого не теряла… А потом вы… — И не позволив мне запинаться и приносить извинения, быстро продолжила: — Ваши руки все те же, те же самые. Разве возможно так изменить лицо? Я видела, что вы узнали меня, да и я узнала бы вас в любом случае, но…
С рассеянной осторожностью и совершенно подлинным смущением я врал о том, что якобы перенес когда-то, за многие годы до своего появления в Латимере, серьезное повреждение лица. Якобы часть моей лицевой структуры была после удачной пересадки кожи спротезирована, и что, мол, теперь я способен на подобные фокусы. А потом намекнул, что обидчив и не люблю говорить об этих вещах.
— Девять лет очень старят, Шэрон, так что белые волосы натуральные.
— Бен… Уилл… Неужели это было необходимо? Нет, дорогой, не говорите, если не желаете. Главное, вы здесь. Иногда я это себе представляла…
Я сказал ей, что мое исчезновение заставило полицию подозревать, что я связан с исчезновением Анжело и Фермана. Она подтвердила, что Фермана так и не нашли. В своих поисках я не хотел наталкиваться на препятствия, сказал я, поэтому пришлось изменить имя и лицо, похоронив старую индивидуальность. Такое поведение слишком далеко от человеческих норм, и не думаю, что мои объяснения удовлетворили ее, но это было лучшее, что я мог сделать. Впрочем, она слишком хорошо помнила Амагою, и ее душа не питалась подозрениями. В свои десять лет Шэрон сумела каким-то образом спрятаться от взрослых измышлений и слухов, смешивающих реальность и нереальность в этом латимерском несчастье. Когда потеря Бена Майлза и Анжело взорвала ее мир, Шэрон поддержали музыка и миссис Уилкс. А потом прошло время и пришла юность. По глупости моей, до меня не совсем доходила огромная разница между моими девятью годами и девятью годами Шэрон, тем более в этом возрасте… Я поведал ей о своих подозрениях, что Анжело попал в среду преступников — присоединился к бродягам или еще что-нибудь подобное, — а может, и вовсе потерял память. Ведь ощущение вины за смерть матери вполне могло привести к амнезии.
— Почему он так много значил для вас?
— Вероятно, я чувствовал ответственность за него. Мне следовало оберегать его от неприятностей, потому что я знал о его необыкновенности и ранимости, а я не сделал этого.
Она не удовлетворилась таким ответом.
— И я стал думать о нем как о сыне. — В этом было слишком много правды. — Я должен был стать гораздо лучшей защитой, потому что не думал, что кто-либо еще видит опасность.
Не в первый раз она хотела задать какой-то вопрос, но сдержалась, нахмурила брови в дыму своей сигареты, по-прежнему лелея мою руку.
— Хорошо ли ты помнишь его, Шэрон?
— Не знаю. — Она продемонстрировала целую серию живых маленьких манер, ни одна из которых была позой. Она то наклонялась вперед, запустив руки в волосы и держа их там, пока не рождалась между бровями и не уходила с ее ровного лба крошечная морщинка. То, не замечая этого, надувала губы своего большого милого рта. То ее лицо трогала столь мимолетная улыбка, что впоследствии вы никогда бы не были уверены, что она вообще улыбалась. — Не знаю. Я знаю, что довольно сильно любила его. Это было в десятилетнем возрасте и так давно, Бен… Боюсь, я даже не слишком хорошо понимаю, что из себя представляет этот прославленный сильный пол. Они были… знаете, как технические приспособления, а не люди… Попутчики, а не друзья. И стоит ли… я не думала об этом.
— Прошло немало времени.
— Да, время… Мне кажется, я стала считать его мертвым после того, как мама София… У меня что-то вроде привычки называть ее так, и ей это нравиться… После того, как она рассказала мне, что вы затеяли… Я никогда не забывала его, Бен, я только позволила ему уйти в прошлое… как покинутая станция удаляется от тронувшегося поезда, понимаете? Кстати, я не закончила старшие классы. Моя мать умерла, когда мне стукнуло тринадцать, и па снова женился… Ну, я пошла по пути Золушки. И терпеть не могла мачеху, а она, видит Бог, терпеть не могла меня, поэтому мама София взяла меня жить к себе… Все, что мне оставалось, это молиться за нее. Я… получала время от времени письма от па. Холодные маленькие письма. Безупречные по грамматике.
— Его не было здесь сегодня?
— Ах нет, он… — Ее прекрасные пальчики снова крепко сжали ладонь. — Он не нашего поля ягода, как сказала медуза морской змее.[35] В переводе означает, что когда эта стерва, на которой он женился, бежит в магазин, но тут же отправляется заливать за воротник. Хотите как на духу, дорогой? Он Брэнд Безымянный. И маленькая дочь для него теперь… Да к черту все это! Он пишет только, когда трезвый, примерно раз в два месяца. О Бен…
— Уилл!
— Извините… Уилл, Уилл. Я так много думала о Бене… Ну, он писал, что хотел бы побывать на концерте, но очень занят и не очень здоров. Наверно, писал под диктовку этой суки. Она знает, что он все еще по-своему любит меня… А, это ее проблемы. Люди так… так… — Она махнула рукой.
Мы долго молчали, очень, очень долго. А потом я сказал:
— Фофифэ фофэфу?
И тут она разрыдалась. Судорожным движением она схватила протянутый мною носовой платок и пробормотала:
— Сп'с'бо б'л'шое. Нельзя ли еще коньяку?..
— А мама София?
— Замечательная. — Она промокнула глаза и принялась подправлять косметику. — О, бессмертие… Боже мой, если бы она жила всегда! Я не знала, что ей сказать, когда уходила. Лгунишка гнусная… Заявила, что мне хочется побыть одной. Думаю, она и не догадывается. Так и будет ждать до поздней ночи сообщений прессы. Ни за что не заснет… Не хотите ли поехать ко мне домой? Повидаете ее…
— Не сегодня голубушка. Как-нибудь попозже. — Я достал вырезанную из газеты фотографию и показал ей. — Вот этот человек позади Макса, слева… Он тебе никого не напоминает?
— Подождите-ка, подождите… Черт! — Она поворачивала вырезку под разными углами. Затем откинулась на спинку кресла. На океанскую синеву ее широко распахнутых глаз словно дымку набросили. — Билли Келл!
— Вполне возможно. И старый Уилл Майсел должен выяснить, он ли это.
Она некоторое время смотрела на меня, совершенно сбитая с толку. В ее взгляде не было недоверия, скорее она была уверена, что я многое скрываю от нее.
— Уилл! Зачем?.. Черт, неужели я должна сидеть тихо, как мышка, и поигрывать на своем рояле, пока вы бьетесь головой о каменную стену?! Неужели я нашла вас только для того, чтобы увидеть, как вы разобьете себе голову?
— Анжело жив.
— О, вера, — сказала она мягко. — Уилл, дорогой, я никогда не видела те горы, которые она, говорят, сдвигает с места… Ладно, вы думаете, что, если Анжело жив, то он мог бы быть в контакте с… этим парнем?
— Вполне возможно.
— Я же помню Билли Келла и тот мерзкий поступок, который он совершил… И совсем не потому, что он сделал мерзость мне самой… Чтобы работать на Партию единства, он должен был повзрослеть. Я обязана сказать вам… Что если вы разбиваете свое сердце чем-то… Я имею ввиду, что это было так давно! И в любом случае в случившемся не было вашей вины. Ну же, Бен… Уилл… Полиция должна была следить, именно для этого они существуют, и средства у них есть. Они бы довели дело до конца. Вы поймите… если его… если он умер, вы, вероятно, и не узнали бы об этом, не так ли? А может, он сейчас банковский кассир или профессор-физик… или вовсе занимается мерзкопакостями, а вы… Я бы на вашем месте…
— Я стар, — оборвал я ее. — У меня есть деньги. Я мог бы помочь ему. Ты теперь взрослая девушка, а у меня не осталось ничего, чем бы я хотел заняться.
— Тогда я буру свои слова назад. Если это то, чем бы вы хотели…
— Если я найду его, это немало значило бы и для тебя. Разве не так?
— Дорогой… Если уж быть отвратительно честной… Откуда я знаю!
9 МАРТА, ЧЕТВЕРГ, НЬЮ-ЙОРК
Сегодня и вчера — это конец и начало. Дрозма, я почти уверен, что Анжело жив. Расскажу, откуда взялась моя уверенность.
Черт бы побрал эту Партию органического единства, но, по крайней мере, они не прячутся. Они занимают первый этаж делового единства, но, по крайней мере, они не прячутся. Они занимают первый этаж делового здания, выросшего в ту пору, когда Лексингтон стала одной из двухуровневых авеню. Компанию ей составляют Вторая и Восьмая. Это настоящее торжество технического прогресса. Нижние уровни предназначены только для машин и оборудованы электронными контроллерами. На верхних уровнях никакого транспорта, кроме автобусов, бегущих по узким центральным проездам. На пересечениях транспортных потоков обязательные развязки.
Моя квартира находится в роскошной деловой части города, вблизи останков Бауэри.[36] Шутки ради я отправился ранним утром прогуляться на Верхний Уровень Второй авеню. Эти воздушные развязки породили в молодежной среде своеобразную игру. Ограждения таковы, что у вас нет никакой возможности забраться на них, зато сквозь отверстия в ограждениях можно произвести влажной жевательной резинкой меткий выстрел по крыше идущего внизу автобуса. Вот только не знаю, какова у них система подсчета очков…
На Верхнем Уровне Лексингтон-авеню я сел в автобус. Штаб-квартира Партии органического единства расположена в жилых кварталах города, около Сто двадцать пятой. А Гарлем далеко не таков, каким вы, Дрозма, его помните. Негры живут по всему городу или почти по всему: среди белого большинства они все еще кажутся чумными пятнами, но это уже не имеет значения. Гарлем превратился в обычный район города, в котором встречаются и светлые, и темные лица. А вот в офисе Партии органического единства я не встретил ни одного темного лица… Процветающее местечко. Спасение мира для чистых душой — прибыльное занятие. И всегда, считаю, таковым было.
Секретарь-блондинка оказалась стеклянно-совершенной. Как фальшивый бриллиант. Оценив добротность моей одежды, она тут же переключилась в режим радушного приема — стандартная полуавтоматическая улыбка для шугэдэдди[37] — и приглашающе показала рукой на матовую стеклянную дверь с табличкой «Дэниел Уолкер». Уолкер оказался искусственно-радостным мезоморфом,[38] размякшим от полноты на своем четвертом десятке. Такой же автомат для приветствия, но на порядок совершеннее блондинки. Я не хотел спешить и потому достал сигару. В Уолкере не было ничего выдающегося. Пристальный взгляд сдержано-искренен, разговаривает он решительно-глухим голосом человека, у которого каждое слово — цитата.
— Мне интересно, — сказал я. — О вас, кажется, не очень лестные отзывы в прессе.
— Вы из газеты, мистер Майсел?
— Нет! — Я выглядел возмущенным. — На пенсии. Занимался неподвижным имуществом.
— Никогда не тревожьтесь насчет прессы, — процитировал он. — Джо не тревожится. Пресса вся реакционная. Она Не Выражает Органического Единства Народа.
В его речи так и звучали заглавные буквы, а я смотрел на него суровым, мудрым взглядом и кивал.
— По Большому счету у нас хорошая пресса. Они ненавидят нас. Ненависть заставляет их болтать, а слухи влекут за собой Разумные Вопросы, подобные вашим.
Я задрал нос, самодовольный старый козел.
— Что вас больше всего интересует в Партии, мистер Майсел?
— Ваше Чувство Предназначения, — сказал я. — Вы не боитесь Формулировать Цель.
Я поднес к сигаре огонек зажигалки, которая облегчила мой карман на сорок восемь баксов, — медленно-медленно, так, что-бы искренние глаза мистера Уолкера успели прилепить к зажигалке ценник. (Я притащу ее домой, Дрозма. Знаете, выскакивает такая фигурка, в полдюйма высоты, бело-золотая, в чем мать родила, ударяет молоточком по кремнию и тут же прячется обратно. Эстетическая ценность — около никеля.[39] Детям, вероятно, очень нравится.)
— Когда вы Одиноки в Мире… — Я вздохнул. — Честно говоря, мистер Уолкер, я чувствую, что и мне самому Партия может дать Чувство Предназначения.
И я рассказал ему, что мир рискованно плывет по течению. Интернационалистические заблуждения. Потеря сопричастности с Великими Истинами. Буйно разросшийся скептизм.
— Да! — любезно сказал мистер Уолкер и принялся выуживать мою биографию.
Я позволил ему выведать, что я из штата Мэн, вдовец, детей не имею. Разумеется, всегда был республиканцем. Но, слава Богу, не теперь. Они — Реакционеры: не понимают, что активные шаги в Азии неизбежны. Никакого Чувства Предназначения. Я был хорошим и отрицательно настроенным по отношению к республиканцам.
— Их дни сочтены, — процитировал Уолкер. — Не берите их в голову. Вас не удивило, почему мы называемся «Партией органического единства»? — И не дожидаясь ответа, продолжил: — Кое-что конфиденциально, мистер Майсел. Слово «единство» имеет одно неудобство. Нельзя же назвать себя «унионистами» или «унитариями», хе-хе.[40] Ну, и не «органистами» же!.. И слово найдено, мистер Майсел. Это Органит. Кое-кто из лидеров подарил нам его всего несколько дней назад. Оно еще не встречалось в литературе, но, я уверен, попало в самую точку. Скоро оно будет на языке у всех. И на языках у наших врагов — тоже. Они будут высмеивать его. — Он продемонстрировал мне десять наманикюренных пальцев. — Пусть высмеивают! Нам даже выгодно. — Это был единственный момент, когда из под маски любезника-атлета выглянул истинный мазохистский фанатизм. — Вот! Почему «органического»? Потому что это единственное слово, которое выражает Природу Общества и Основные Потребности Человека! Общество — это Единый организм. Вот! Что должен иметь любой единый организм? Просто, не правда ли? Средства передвижения. Средства удовлетворения голода. Средства воспроизводства. Органы чувств. Естественно, единую нервную систему. Вот! Что, например, такое — средства удовлетворения голода в Обществе?
Его руки заметались по столу, перебирая и передвигая ко мне все новые и новые брошюры и проспекты. Успокоились руки только тогда, когда мои карманы доверху оказались набиты рекламными материалами.
— Сельское хозяйство и сельскохозяйственные рабочие, — ответил я, уже видевший ранее некоторые из этих брошюр и успевший заучить жаргон, на котором излагались содержавшиеся в них идеи, идеи настолько старые и банальные, что человеческие существа были загипнотизированы ими или почувствовали к ним отвращение по меньшей мере пять тысяч лет назад.
— А что такое нервная система Общества?
— Ну, это именно тот вопрос, который беспокоит меня, честно говоря… Всякий желает быть частью нервной системы, скажем так.
— Нет, коллега, тут вы не правы… Вы не будете возражать, если я выскажусь по этому поводу? — Он снова коснулся пальцами лежащих на столе брошюр. — Далеко не всякий. Человек с улицы, мистер Майсел, желает быть управляемым. Не забывайте, демократия должна определяться как величайшее благо для подавляющего большинства. Спросите себя, сэр, много ли людей знают, что для них хорошо? Человек с улицы, мистер Майсел, нуждается в Просвещенном Преобразовании. Он должен найти, понять и принять свое предназначенное место в Организме. А иногда принять и без понимания. Вот! Кто подскажет ему? Кто в силах совершить это, кроме цвета общества, людей хорошо информированных, настоящих руководителей, иными словами — нервной системы Общества?
Я попытался взглянуть на него так, словно только что представил себе нечто светлое и ясное:
— Кажется, в этом направлении Партия органического единства могла бы оказаться весьма полезной.
Я дал сигаре возможность потухнуть, чтобы сорокавосьмидолларовая обнаженная фигурка еще раз явилась на свет. Потом я затянулся и принял такой самодовольный вид, что мне до сих пор тошно вспоминать об этом. Уолкер тоже выглядел довольным, но в его удовлетворении я заметил некоторую толику презрения, тут же, впрочем, исчезнувшего с его лица. Словно ласка выглянула из-за кучи камней и, испугавшись неведомого, скользнула назад.
— Вы очень верно выразились, мистер Майсел.
— Но нет ли у Передовой лейбористской партии чего-то похожего на подобную идею?
Это могло оказаться ошибкой — вопрос был слишком умным для «старика Майсела». Уолкер проявил осторожность и спокойно сказал:
— У них есть неплохие идеи. Они лучше старых партий понимают Проблемы Общества. И так же, как мы, видят, в чем величайшая опасность.
Я напряг свою старую марсианскую шею, чтобы искусно изготовленные щеки «мистера Майсела» украсились приятным румянцем:
— Полагаю, вы имеете в виду этих чертовых Федералистов?
Это была верно выбранная чушь. Думаю, она его утешила. Его голос снова стал любезным:
— Не было бОльших предателей в Америке со времен гражданской войны. Да, разумеется… У вас есть какие-нибудь связи с передовыми лейбористами, мистер Майсел?
— О нет!
Он успокоился, Дрозма, еще до того, как я успел ответить. Он принял решение:
— Вероятно, вам стоит побеседовать с Келлером. Замечательный парень, он вам понравится. И если у вас есть какие-то сомнения относительно того, что мы делаем и каковы наши цели, он сумеет развеять их лучше меня. — Он искоса, словно я был произведением искусства, посмотрел на меня и взялся за телефон. — Билл? Ну как?
Мое горло похолодело. Вот оно, то, за чем я сюда явился. Билл Келлер. Билли Келл… Я напряг свой грешный марсианский слух, но голос в трубке был просто писком.
— Угу, Билл… Возможно, ты встретишься с ним, когда у тебя появится свободное время?
Код, догадался я. Нечто вроде «выбери время, чтобы прощупать этого олуха».
Вскоре Уолкер прикрыл рукой трубку и нежно сказал:
— Он будет свободен сегодня днем.
Я тоже был свободен сегодня днем.
Он проводил меня до самых дверей. Он не положил мне на плечо руку, потому что я был на три дюйма выше его, но сделал все остальное, чтобы я почувствовал себя Великим Стариком Кеннебека.
— Между нами, Билли Келлер очень высокопоставленный человек. Не поймите неправильно… Он так же демократичен, как вы или я. Но, понимаете, такой Вождь, как Джо Макс, со всеми его обязанностями и заботами, не может каждому уделить столько времени, сколько ему хотелось бы. Опирается на несколько избранных. — Уолкер показал мне скрещенные пальцы. — Билл Келлер прямо Оттуда! — Он похлопал меня по спине.
«Старик Майсел» вышел, расправив плечи, окрыленный Чувством Предназначения.
Я не думал, что они организуют за мной слежку, да и не слишком заботился об этом. У них был мой адрес, и они могли бы вынюхать все, что захотели. Остаток утра я пробродил по городу. Угостил себя ленчем, не помню где, и перевел дух в Центральном зоопарке. Мартовский день был, как принявшая ванну девушка — прохладный, нежный и готовый на проказы. Теперь я способен реагировать и на такие вещи. Мы почти люди, Дрозма, но как понять, что тот кого любишь, может оказаться твоим злейшим врагом?..
Весна будоражила и медведей. Старый светло-коричневый самец патрулировал переднюю сторону ограды — нервное топтание, десять шагов влево, мотание головой, десять шагов в право, печальный разговор с самим собой. Кроме меня, за медведем наблюдал коричневолицый мальчик. Через пару минут он признал мое присутствие и обеспокоенно спросил:
— На что он жалуется?
— Не нравится сидеть в клетке, особенно в это время года.
— А вы не могли бы помочь ему освободиться, мистер? Если можете…
— Нет… Слишком люблю свою собственную шкуру.
— Конечно! Он бы схрупал нас со смаком, не так ли?
— Угу. И я не мог бы осудить его за это.
— Да?
— Да. Его посадили туда люди. Такие же, как мы.
— Да-а-а! Здорово! — Он неодобрительно посмотрел на медведя и отправился прочь.
Когда я вернулся в офис «Органические единства», минуло четыре. Холл был битком набит. Уолкер оказался занят. С четверть часа я сидел, наблюдая за приходящими и уходящими органитами. Многие из них были унылыми, напряженными и сосредоточенными на самих себе типами. Другие имели вид людей, жаждущих власти. Некоторые выглядели вылетевшими в трубу, некоторые — состоятельными. Общим у них было только одно — все они чего-то хотели. И я не видел значительного различия между глупо и умиротворенно улыбающимся чудаком, который, по-видимому, искал тут работу, умея только заклеивать конверты, и тощим параноиком, который, наверное, приволок сюда какой-то новенький — с иголочки! — план мироздания. Все они были одним миром мазаны…
В конце концов Уолкер повел меня по запутанным тропам между письменными столами в дальнею часть офиса. Помещение оказалось огромным — они оценивали общественное положение, как это делал Муссолини — по количеству ковров между дверью и столом. И когда эта дверь открылась…
Дрозма, марсианский запах был таким, что его можно было резать ломтями.
Хотя я узнал бы его и без запаха — та же тяжелая фигура, дышащая угрозой. Лицо он изменил не очень, только сделал его более зрелым. Толстые щеки, тщательно отрепетированный, наполовину радушный, наполовину сердитый взгляд. Прежде чем подняться и поприветствовать нас, он выдержал очень выразительную паузу. Самоуверенность мелкой сошки… Нет сомнения, что источником власти является страшно гуманный Джозеф Макс. Тем не менее, раздувшимся от власти и влюбленным в нее был Уильям Келлер.
Я обновил дистроер запаха в общественном туалете, да и мое новое лицо было изготовлено вполне качественно. Правда, Шэрон узнала Бена Майлза. Но Шэрон любила память об этом человеке, а кроме ого, еще не приблизившись ко мне, увидела мой достаточно красноречивый взгляд. Билли Келл (я должен научиться звать его Ульямом Келлером) Бена Майлза не узнал. Он солидно обогнул стол, солидно пожал на руки, величественно вынес, когда Уолкер в качестве рекомендации похлопал меня по спине, и одним движением брови выставил Уолкера вон.
Келлер не разглагольствовал об идеологии. Он подавил меня своим видом и стал ждать, пока я заговорю. И я заговорил. Я щелкал зажигалкой. Я бормотал автобиографию и пересыпАл ее партийными лозунгами. С Келлером и речи не могло идти о том, чтобы быть таким же грубым, каким я был с Уолкером. Наконец, ухитрившись выглядеть одновременно строгим и почтительным к моим сединам, он сказал:
— Мне бы хотелось знать, мистер Майсел, что привело вас к нам. Среди молодежи авторитет партии общеизвестен. Мы будим в них дух противоречия, мы дадим им то, во что можно верить… Именно поэтому нас ничто не может остановить. Но люди с вашим прошлым более склонный быть по отношению к нам враждебными. Они или устали, или обескуражены. Конечно, я счастлив, что вы здесь, но расскажите мне поподробнее о том, что заставило вас прийти сюда.
Меня так и подмывало ответить» «Хотя бы возможность обогнуть стол, взять тебя за горло и заставить выложить мне все, что знаешь!» Это был момент жуткого одиночества, на меня давил непосильный груз девяти мерзких лет. Но я умудрился сказать:
— Думаю, решающим фактором, мистер Келлер, была личность вашего Вождя. Я следил за карьерой Джозефа Макса… по радио и телевидению… Ну, и однажды утром я проснулся, желая что-нибудь сделать… Для начала я изучил его книгу…
После суровых раздумий Келлер кивнул:
— Это библия нашего движения. Не ошибетесь, если будете руководствоваться «Социальным Организмом» — там есть все. И вы действительно кажетесь способным схватывать теорию… Собственно, фактически это не теория, а очевидный социальный факт… А вот в чем бы я хотел быть абсолютно уверен, так это в том, что вы поняли: мы занимаемся серьезным делом. Для нас это не игра. У нас нет ни малейшего желания возиться с дилетантами, ни времени на них… Есть два типа членства в партии: ассоциат и выдержавший. Членство ассоциата — для всякого, кто платит взносы и получил билет. Выдержавший — это кое-что еще. Такое членство становится возможным после периода обучения. И экзамена.
— Разумно, — заметил я. — Не знаю, готов ли я к чему-либо подобному. Но я действительно чувствую, что способен принадлежать по меньшей мере у числу рядовых, — я скромно улыбнулся, — органитов.
Он очень любезно поинтересовался:
— А где вы слышали это слово?
— Ну, мистер Уолкер сказал, что оно скоро будет использоваться в литературе…
Его маска стала похожей на лицо покойника.
— Ему не следовало бы так говорить! — Пальцы Келлера забарабанили по столу. — Но раз уж он это сделал, я обязан вам сказать… Это слово не будет использоваться. Кое-кто из второстепенных советников Вождя склонялся к его употреблению, но слово это слишком открыто для насмешек. Естественно, Макс сразу понял всю его неуместность… Я предлагаю, мистер Майсел, считать, что вы никогда не слышали его.
К черту все испытания остроты! Эти люди, подобно коммунистам, не обладают чувством юмора. Я принялся трогательно запинаться:
— Ну конечно… Я не понял…
— Все в порядке. Вы не могли знать.
— Мистер Келлер! Нельзя ли мне как-нибудь встретиться… с Ним?
Он порекомендовал тайные размышления, пожал плечами и кивнул. Теперь он надел на себя усталость, почти человеческую и возбуждающую сочувствие.
— Конечно. Можно было бы устроить. Сегодня вечером, если вы свободны. Макс… Кстати, он избегает слова «мистер», просто «Макс», даже если вы встречаетесь с ним впервые… По четвергам Макс устраивает вечеринки для контактов с друзьями партии. Возьму вас с собой, если желаете. — Он отмахнулся от благодарностей. — Рад помочь. Да, вот еще что… По отношению к другим членам партии он предпочитает определенное соблюдение формальностей. Думаю, это обратная сторона величия. Мне плевать, но когда мы приходим туда, мы называем его Макс, а для всех остальных употребляем «мистер», понимаете?
Я почтительно кивнул.
— Загляните в мою квартиру, если желаете, — продолжал Келлер. — Около половины девятого. «Зеленая башня», последнее жилое здание на Эспланаде, возле моста. Если сейчас собираетесь вернуться в деловую часть города, то такси на Нижнем Уровне Восьмой — лучший способ добраться оттуда до моего жилища. Попросите водителя следовать робби-роудом до поворота на Вашингтон. — Он потянулся к телефону. — До встречи!
Закрывая дверь, я услышал, как он спрашивает кабинет Уолкера.
Некоторое время я плутал среди столов, оккупированных болтающими партийными чиновниками, и в конце концов уперся в какой-то тупик, из которого меня вывела стенографистка. Когда я добрался до холла, Уолкер был уже там. Он жадно пил воду. Его гипертиреодные[41] серые глаза, круглые от страха, слепо смотрели сквозь меня. Могла ли пустяковая ошибка в рутине партийной терминологии привести к таким эмоциональным перегрузкам?.. А перегрузки были — руки у него тряслись так, что он с трудом держал бумажный стаканчик…
Я хотел было позвонить Шэрон. Но после «интервью» с бездушным и таинственным существом, носящим имя Билли Келл, я был в неважнецком состоянии. Скорее всего я запутал бы и напугал ее. А то и вообще сказал бы слишком много. Я пообещал себе, что обязательно поговорю с ней после встречи с Максом — если не будет очень поздно, — и отправился обедать. Обед прошел в скуке и одиночестве. А потом я доверился фортуне. Такси промчало меня через город на Нижний Уровень Восьмой авеню. Когда мы достигли въездного радианта, выложенного белым кафелем, мотор машины вдруг заглох. Водитель бросил деньги в щель монетоприемника. Приборный щиток автомобиля расцвел желтыми огнями. Водитель тронул клавишу, мотор проснулся, и такси вкатилось в сияющее таинственное нечто. Водитель убрал обе руки с руля и спокойно закурил.
— Что за чертовщина?
— Первый раз, приятель? Не приходилось пользоваться этой штукой? — Водитель подвинулся чуть правее, положил руки на спинку сиденья и с удовольствием повернулся ко мне. (Спидометр показывал сто двадцать.) — Движение в жилых кварталах города в это время невелико. Все держится на здешнем Всевидящем Глазе. Это не человек… Знаете, приятель, не то чтобы мне нравилось пользоваться этим, но раз уж я могу ехать подобным образом, то почему бы и нет?.. Возьми шокер,[42] можешь даже не читать, лишь бы он напоминал тебе, что надо держать подальше от руля руки. — Он зевнул.
Я посмотрел на мелькающие за стеклом светильники и колонны:
— А как насчет аварий?
— Говорят, ни одной. У них тут сканер. Когда вы опускаете свои четыре монеты, он производит мгновенный контроль машины. Однажды тут меня прихватили — что-то в машине было не то, а я и не знал. Робот загнал меня на ремонтную площадку, сразу за въездом. Зато ремонтники оказались людьми… Содрали с меня три бакса и знаете что? Мой пассажир не хотел платить. Начала разоряться. Ну, это была дама, которую ждал хахаль. Забавно, до сих пор существуют люди, которые думают, что Нижний Уровень вытерпит любую развалюху. Поставили копов на каждом въезде, чтобы отвадили их. Чертовы ослы, в основном, конечно, иногородние… Вот, проезжаем поворот.
— Уже?
Он расхохотался. Мы прогудели через листок клевера[43] и поднялись к выезду. Тут шофер вздохнул и взялся за руль.
— Все дело в том, — сказал он, — что робби не человек…
«Зеленая Башня» — это парящий модерновый дизайн. Каковы бы ни были использованы отделочные материалы, но в итоге складывалось впечатление, что башня выстроена из мягко светящегося зеленого нефрита. Рядом с нею опоры моста кажутся маленькими, но гордая грация его, считающегося теперь устаревшим, от этого не меркнет. Квартира Келлера находится на четырнадцатом этаже, который расположен сразу над двенадцатым.
Меня впустил сам Келлер, рассеянный, дружелюбный, усталый, но не ставший менее строгим. Под дверным замком я обнаружил еще два имени — Карл Николас и Абрахам Браун.
Едва оказавшись в искусно отделанном холле, я тут же услышал приглушенные закрытыми дверями звуки фортепиано. Смысл восьмой инвенции Баха пытался постичь некто, чьи пальцы и ум были далеко не готовы к подобному постижению. Пока Келлер, приняв пальто, вел меня в пышную жилую комнату, левая рука музыканта дважды совершила одну и туже грубую ошибку. Исполнитель заметил ее, но еще не понял, что такие ошибки можно исправить только с помощью скучных долгих упражнений. И хотя звуки были приглушенными, создавался раздражающий фон крушения надежд.
— Скотч? — сказал Келлер. — Туда еще рановато подниматься.
— Спасибо.
Он принялся колдовать у фантастически маленького бара. Что-то раздражало меня и помимо спотыкающейся музыки. Это не была очевидная роскошь — я и так знал, что метод мессианской предприимчивости, присущей Максу, всегда представлял собой золотое дно. Легионы одиноких, изголодавшихся по мыслям и эмоциям, сбитых с толку и обиженных, злых мечтателей наконец — кто из них не отстегнул бы пять-десять долларов, в надежде купить себе замену Богу, или Деве Марии, или Старшему Брату, или Новому Иерусалиму?.. Нет, дело было в другом: едва оказавшись в комнате, я заметил краем глаза какую-то странность, а потом отвлекся. И пока Келлер возился с выпивкой, я снова обнаружил эту странность — возле арки выхода в холл висел рисунок. Я продрейфовал к нему и остолбенел.
На фоне унылой угольно-черной темноты — зеркало. Откуда-то падает странный свет, возможно, льется из самого зеркала. В зеркало смотрит молодой человек. Видны, правда, только обнаженная рука и плечо, до часть щеки, но этих деталей вполне достаточно, чтобы сказать — и с абсолютной уверенностью! — о его чрезвычайной молодости. В зеркале же на зрителя смотрит Зрелость. И тут нет ни гротеска, ни преувеличения возраста. Взятое отдельно, это скорбное лицо с пристальными глазами должно принадлежать человеку, у которого за спиной по меньшей мере тридцать-сорок сложных и печальных лет… Да, конечно, воображение любого художника могло бы натолкнуться на такую концепцию, да, уровень технического исполнения был присущ тысячам профессиональных художников. Но…
— Нравиться? — лениво спросил Келлер, протягивая мне выпивку. — К Эйбу иногда приходят чертовские идеи. Не всякого заинтересует такое.
Я привел в порядок свое лицо:
— Да, потрясающая работа.
— И я так думаю. На самом деле он не работает над ними, он делает их наспех.
— Эйб?.. О, это Абрахам Браун. Я видел его имя на вашей двери.
— Угу. — У него не возникло подозрений: просто Уилл Майсел оказался наблюдательным человеком. — Эйб мой друг. Делит эту квартиру со мной и с моим дядей. Это Эйб музицирует. Не люблю его прерывать, иначе бы представил вас.
«Твой дядя?» — подумал я. И сказал:
— Как-нибудь в другой раз… Он… э-э… тоже интересуется делами партии?
— Более или менее. — Келлер сел, глядя в свою выпивку, вздохнул, человеческим жестом отогнал от лица дым. — Не совсем политически зрелый. Совсем ребенок, мистер Майсел. Еще не нашел себя. Ему только двадцать один год.
Я должен был либо сменить тему, либо выдать сея.
— Макс живет рядом?
Келлер снисходительно улыбнулся. Глаза его говорили, что я слегка замешкался со своей выпивкой.
— Наверху. В пентхаусе.[44]
Анжело жив. Я разобрался с выпивкой без излишней торопливости, но быстро.
Горилла[45] вежливо обыскал меня в холле пентхауса, а Келлер тут же извинился за то, что не предупредил меня об этом. Хорошо, что гранаты имеют достаточно плоскую форму и хорошо прикрепляются к коже. Джозеф был уже среди щебечущих людей. Келлер, ведя меня за собой, продираясь через лес из рук, грудей и коктейльных стаканов. Мои мысли все еще пребывали внизу, рядом с «Абрахамом Брауном». Я надеялся, что мою рассеянность примут за косноязычное благоговение, которое мне полагалось ощущать в присутствии Великого Человека.
При близком рассмотрении сходство с Калхоуном закончилось челюстью. Оставшаяся часть крупного желтоватого лица замазана и зашпаклевана. Седая грива волос. Гипертиреодные, как у Уолкера, глаза и такой же нерешительный, почти слепой взгляд. Вероятно, из тщеславия избегает носить очки, но, конечно, далеко не слеп: первая же улыбка преподнесла ему Уилла Майсела взвешенным, перевязанными ленточкой и занесенным в картотеку. В нем есть, Дрозма, что-то от параноидальной силы Гитлера, немного от сварливой интеллектуальной ярости Ленина и его густых бородатых школьников. В нем есть избыток неприкрытой жажды власти, но очень мало истинной суровости, которую мы ассоциируем со Сталиным, Аттилой. Макс следует традициям тиранов, но суть его слаба. Первое же его крупное поражение может оказаться последним — он застрелится или уйдет в религию. Вот только партия, которую он создал, совсем не обязательно должна разделить его судьбу.
— Мистер Майсел! Мистер Келлер сегодня говорил о вас. Рад встречи с вами, сэр! Надеюсь, вы пожелаете работать вместе с нами.
У него есть шарм.
Я сказал:
— Для Америки нынешний год станет великим.
Эту фразу я придумал сам. Большие глаза тут же поблагодарили меня. Я смотрел, как он примеривает мои слова к знамени компании. Меня одарила улыбкой платиновая блондинка. Дружно поднялись стаканы. Подчиняясь взгляду Макса, Платинка тут же приклеилась ко мне, принялась проявлять заботу о моей выпивке. Мириам Дэйн, раскаленные под пеплом уголечки…
Пылкая, самоуверенная самочка. Когда она забывает улыбаться, ее рот становиться печальным и не терпеливым. Кажется постоянно прислушивающейся к кому-то, кто в любой момент может позвать ее. Профессионально разыгрывала благоговение маленькой девочки перед всем, что слетало с моих губ. Я догадался, что я уже в партии, Дрозма, раз приходится играть в подобные игры. Но теперь, когда я узнал, что Анжело жив, все ставки снимаются. У меня не было никакого плана дальнейших действий, но одно я знал наверняка: завтра, когда Келлер отправится в свой офис, я снова приду в его квартиру.
Мириам поискала кого-то глазами и спросила:
— А Эйб Браун не поднялся вместе с вами и Биллом?
Ее рука коснулась крупного брильянта, украшавшего палец другой руки.
— Нет, он музицировал. Я никогда с ним не встречался… Голубушка, я страшно наблюдательный старик. — Я бросил на ее бриллиант лучезарный взгляд, свойственный Санта Клаусу. — Эйб Браун?
И тут с разыгрываемой ею милой досадой что-то произошло. Получилась как бы актерская игра с двумя планами. Подразумевалось, что под милой досадой скрывается удовольствие, но на самом деле удовольствием там и не пахло. На самом деле под милой досадой я обнаружил некое малопонятное замешательство.
— Вы не ошиблись, мистер Майсел… Могу ли я звать вас Уиллом?.. Что есть, то есть.
И она потащила меня знакомиться с присутствующими. Я потряс что-влажное и неаппетитное, принадлежащее сенатору от Аляски Гэлту. Знакомство сопровождалось звуками, похожими на ослиный крик. Кричал сенатор. Его косматая челка очень напоминала прическу Уильяма Дженнингса Брайана.[46]
А потом наступила очередь Карла Николаса. Да, Дрозма. Огромная комната была так наполнена дымом и ароматами женской парфюмерии, что я не отличал его запаха от запаха Келлера, пока Мириам не оттащила меня от кого-то, чтобы познакомиться с ним. Тучный, старый, напыщенный. Сальваянские глаза глубоко запали в нездоровую плоть. Последние девять лет довели его до присущих нам возрастных изменений, Дрозма. Но в то время как вы, мой второй отец, приняли эти изменения спокойно — как вы принимаете все неизбежное — и даже говорили о них однажды в моем присутствии как о «гарантии, что Дрозма тоже умрет», этот Отказник, этот Намир… Почему он, черт его побери, все еще непримирим и, запертый в свою тучность и болезненность, все еще жаждет перевернуть мир?.. Хрипло дышащий, он тронул мою руку, едва взглянув на «мистера Майсела», но внимательно следя за актерскими изысками Макса. Тем не менее я постарался побыстрее перебраться в другой угол комнаты.
Мириам прошептала:
— Бедный малый! Ничего не поделаешь… У меня рядом с ним мурашки по телу, хотя я и знаю, что не должна относиться к нему таким образом. Он многое сделал для партии. Макс во всем полагается на него. — Она похлопала меня по руке. — Вы славный. Глупенькая я, верно?
— Нет, — сказал я. — Вы не глупенькая. Вы молодая и слабая.
Ей это понравилось.
— Вы… целый день на партийной работе, Мириам?
— Ого! — Она округлила прелестные глазки. — Вы не знаете?.. Что касается меня, я секретарь… Его секретарь. — Прелестные глазки указали на величавую изможденную фигуру Макса и, затуманившись, вернулись ко мне. — Это чудесно. Я просто не могу поверить в это!
Она замолчала, и ее молчание походило на беззвучную молитву (нет, я не чувствовал к Мириам неприязни: она забавна, мила и, я думаю, вредит самой себе). А потом она предложила мне познакомиться с принадлежащей Максу знаменитой коллекцией игрушечных солдатиков.
Солдатики занимали отдельную комнату: широкие столы, застекленные витрины. Здесь были краснокожие, персы, индусы на слонах, британские солдаты, голландцы времен «Непобедимой Армады».[47] От некоторых веяло седой стариной, а один очень походил на средневекового француза, которого я видел в музее Старого Города. Говорят, когда у Макса бессонница, он играет в солдатиков. Тоже обратная сторона величия?..
Когда мы вошли, в комнате было темно. Во мраке слышалось чье-то бормотание. Мириам включила верхний свет, и я увидел в углу комнаты, в тени, двух беседующих мужчин. Мириам повела меня от витрины к витрине, не обращая на эту пару ни малейшего внимания. Но я обратил: одним из них был Дэниел Уолкер. Его гладкое круглое лицо казалось опустошенным и несчастным. Другой был седовласым стариком, выше меня ростом и неестественно бледным. Он явно хватил лишнего — остекленевшие глаза, подчеркнуто прямая, словно деревянная, спина.
Когда мы познакомились с коллекцией и покинули комнату, Мириам прошептала:
— Этот старик… Это доктор Ходдинг.
Тот самый Ходдинг, Дрозма! Бывший член правления «Фонда Уэльса» и, очевидно, нынешний друг всего этого сброда. Я чего-то не понимаю. Может быть, есть смысл покопаться в этой странной дружбе?..
Когда я, расставаясь, тряс руку Макса, он выглядел утомленным, под глазами чернота. Интересно, неужели надо быть достаточно близким к Великому Человеку, чтобы заметить его тяжелое дыхание?.. Впрочем, я увидел в прощающемся со мной хозяине не Великого Человека, а напуганного ребенка, мальчишку, который только что подложил на железнодорожные рельсы стальную трубу. В подобных делах я встречал действительно великого человека только один раз. Он был по-настоящему спокоен и совершенно непохож на клевещущих пигмеев типа Джозефа Макса. Я посещал Белый Дом в 30864 году.[48] И кое-что помню.
10 МАРТА, ПЯТНИЦА, ДЕНЬ, НЬЮ-ЙОРК
За дверью послышались характерные шаги хромающего человека, и я отвернулся, потому что знал, что никогда не был сколько-нибудь готов взглянуть на то, что сделали девять лет. Дверь открылась. Было около половины одиннадцатого. Я пребывал в полной уверенности, что Келлер ушел на работу. А Намир?.. Пошел бы он к черту!
В дверях стоял молодой человек. Ростом не выше, чем Шэрон. Я вдруг осознал, что смотрю на его ботинки. Подметка левого ботинка была намного толще правого. И никакого намека на присутствие шины.
— Мистер Келлер дома?
— Нет, он в офисе.
У него был красивый голос, возмужавший и музыкальный. Наши взгляды на мгновение встретились, и я обнаружил, что его глаза не изменились. Над правым — V-образный шрам. Никакого намека, что меня узнали.
— Мистер Келлер ушел час назад.
— Мне следовало бы позвонить. А вы, должно быть… мистер Браун?
— Совершенно верно. Если хотите, позвоните ему отсюда.
— Хорошо, мне… — Спотыкаясь, я последовал за ним, смущенный и глупый старик. — Мне кажется, я что-то забыл здесь прошлым вечером. Я был тут вчера. Он угощал меня выпивкой, прежде чем мы отправились наверх, на встречу с Максом. Думаю, это вы играли на пианино.
— Что-то забыли?
— Думаю, да. Даже не могу вспомнить что именно… зажигалку… записную книжку… чертовщина какая-то! Ваша память никогда не отказывает? В вашем возрасте — вряд ли. Вдобавок, я немого выпил. Мое имя Майсел.
— Ах да… Билл говорил о вас. Посмотрите здесь, если хотите.
— Не хотелось бы вас беспокоить. Если я и в самом деле что-то здесь оставил, думаю, дядя мистера Келлера заметил бы это… Хотя нет, он тогда уже поднялся наверх.
— Мистер Николас? Не хотелось бы его будить. Он нездоров, поздно заснул…
— Да-да, ради Бога, не беспокойте его… Курите?
— Спасибо.
Я вновь воспользовался своей фантастической зажигалкой. Пока он был сосредоточен на пламени, мне удалось наконец рассмотреть его лицо. Ангел Микеланджело испортил себя, Дрозма.
— Я тоже вечно забываю свои вещи, — сказал он.
Чувство такта у него за девять лет не изменилось.
— Наверное, со мной играет моя восьмидесятилетняя память.
— Вы не выглядите на восемьдесят, сэр.
Сэр? Думаю, это потому, что я стар. Сэр — почти вышедшая из моды любезность.
— Тем не менее восемьдесят, — сказал я и кряхтя опустился в кресло. — У вас еще лет шестьдесят в запасе, до того момента, когда вам скажут, что вы хорошо сохранились.
Родившаяся на его лице улыбка вдруг исчезла. Он внимательно посмотрел на меня:
— Мы не встречались с вами раньше?
Ответить я не смог. Мой испуганный взгляд скользнул по его лицу и метнулся к рисунку у входа в холл.
— Ваш голос мне знаком, — сказал он. Тоже испуганно и в тоже время даже дерзко. — Не могу вспомнить, где я его слышал.
— Может быть, вы слышали его вчера вечером, когда мы были здесь с Келлером?
Он мотнул головой:
— Когда играю, ничего не слышу.
Да, тот ужасный Бах…
— Учитесь в музыкальной школе?
— Нет, я… Может быть, осенью. Не знаю.
Почему он так напуган?
— Я был на прекрасном концерте в среду. Дебют Шэрон Брэнд. Публика ошалела от восторга, и не удивительно.
— Да, — сказал он, явно следя за своим голосом. — Я был там.
Это было слишком даже для нашего знаменитого марсианского шестого чувства! Он оказался там, потому что помнил Шэрон. Возможно, даже находился рядом со мной на балконе, видел, как плыл по течению тот мерцающий корабль, видел его так же, как видел я. И был так близко, что мы могли коснуться друг друга. И поскольку его душа должна была переполняться Шэрон, он, вероятно, вспоминал и меня… время от времени… как привидение… как движущуюся тень…
— Выдающийся талант, сказал я. — Чтобы добиться подобных результатов в девятнадцать, она должна была ради этого отказаться от всего остального. Собственно, мне посчастливилось знать, что так оно и случилось. Мы были знакомы с нею, когда она была еще маленькой девочкой.
Я продолжал пялиться на рисунок, будучи уверенным, что его рука с сигаретой сейчас замерла в воздухе.
С отчаянной вежливостью он проговорил:
— Да?.. И что она за человек. Вне сцены?
— Очень мила.
Меня так и подымало заорать на него. Ведь он же наверняка разрывало от потребности сказать: «Я тоже знал ее! Я тоже знал ее!»
— Мистер Келлер говорил мне, что это нарисовали вы, — сказал я.
— Ему не следовало вешать его там. Большинство людей не обращают внимания.
— Я полагаю… А почему?
— Наверно, слишком мрачно. Я пытаюсь понять, каким образом Рембрандт умудрялся делать таким значительным тяжелый задний фон. К несчастью, я не художник, мистер Майсел. Я просто… — (Ты не художник, Анжело?) — Послушайте, я готов поклясться, что уже слышал когда-то ваш голос.
Я сдался, Дрозма. Всякое притворство отвратительно. Да, я знаю: таковы условия, в которых мы, Наблюдатели, должны жить. Хотя, если бы я не считал Союз возможным — и не далее чем через несколько столетий, — я вряд ли сумел бы выдержать это плавание в океан лжи. Наложение человеческой лжи на нашу неизбежную ложь — слишком много для меня, вот и все. Я рухнул обратно в кресло, беспомощно посмотрел на него. И сказал:
— Да, Анжело.
— Нет! — он уставился на меня. Потом тупо посмотрел на сигарету, упавшую на ковер, и даже не сделал попытки поднять ее. — Нет, — прошептал он.
— Девять лет.
— Я не могу поверить этому. Я не верю.
— Мое лицо?
Я закрыл глаза и сказал в головокружительную темноту:
— За несколько лет до того, как я встретил тебя в Латимере, Анжело, мне сильно повредили лицо. Взрыв газолина. До того я чем только ни занимался… Актер, учитель, как я и говорил твоей матери, даже какое-то время просто бродяжничал. А незадолго до несчастья я быстро разбогател… сделал достаточно важное изобретение. Поэтому у меня были деньги. И когда случилось несчастье, я рискнул обратиться к хирургу, который разработал новую технологию пластических операций. Протезный материал, и вы сами себя не узнаете. К несчастью, успешным оказались только около трети его операции, неудачи вызвали скандал и банкротство. И никакой рекламы. Он махнул на это рукой. Умер несколько лет назад, полностью исчерпав себя в попытках разработать методику, исключающую эти шестьдесят с лишним процентов неудач. Но я был одной из его удач, Анжело. Итог таков… Вещество под воздействием тепла становиться податливым. Я могу переделывать скулы, как мне нравиться, и в результате меняется все лицо. — Подобная ложь была наименьшая, и она не должна была омрачить наши отношения. (Если у нас вообще будут какие-нибудь отношения…) — Покинув Латимер, я проделал подобную манипуляцию. Изменил свою внешность, что для большинства людей весьма затруднительно. Существовала вероятность, что полиция посчитает ваше с Ферманом исчезновение делом моих рук… Ты помнишь Джейкоба Фермана?
— Конечно, — сказал он, и я смог наконец посмотреть на него. — Что… что случилось с дядей Джейкобом?
Я колебался, стоя на краю пропасти, в которой находилась запретная истина.
— Исчез той же ночью, что и ты. Это все, что нам известно. Возможно, пытался искать тебя. Как и я.
— Искать меня… Зачем?
Ответить на этот вопрос я даже не пытался. Спросил сам:
— Ты веришь, что я Бен Майлз?
— Я… не знаю.
— Помнишь надгробие Мордекая Пэйкстона?
— Мордекая?.. Ну да.
— Рассказывал кому-нибудь, кто мог бы проговориться мне — кто бы я ни был, — как втыкал в землю у надгробия одуванчики?
— Нет, я… не рассказывал.
А Намир находился где-то поблизости… Спящий ли? Двери были закрыты, говорили мы негромко.
— Ты рассказывал кому-нибудь о том зеркале?
— О нет! Никогда! — Он сел на пол рядом с моим креслом. — Вам надо было заняться чем-нибудь более важным, чем разыскивать меня.
— Не думаю… То зеркало все еще у маня, Анжело.
— Абрахам. Абрахам Браун, пожалуйста!
— Ладно, это хорошее имя.
— У меня… были причины поменять свое имя на это.
— Ладно, — пробормотал я. — Как ты? Прошло столько времени, и я не знаю… Рад меня видеть?
Это был ошибочный человеческий вопрос.
Он поднял глаза, попытался улыбнуться и прошептал: «Да». В улыбке не было ничего, кроме смущения.
— Чем собираешься заняться, Абрахам? Музыкой?
— Не знаю. — Он неуклюже поднялся и подошел к рисунку. Встал спиной ко мне и зажег новую сигарету, как будто мучительно хотел курить. — Билл достал мне пианино год назад. Я… я занимаюсь.
— Билли Келл?
Он не обернулся.
— Значит, вы узнали и его?
— По газетной фотографии. Разыскивал его, надеясь, что он связан с тобой. Прикидываюсь, будто заинтересован Партией органического единства.
— Только прикидываетесь? Билл ведь вам никогда не нравился, правда?
— Правда… Посмотри-ка на меня, Абрахам.
Он не обернулся.
— Билл Келлер и его дядя слишком много сделали для меня. Они спасли мне жизнь, по-настоящему. А шанс начать заново, когда… — Он замолк.
— Вчера вечером, у Макса, я познакомился с твоей невестой.
Он только хмыкнул.
— Твой ум Келлер со своей шайкой не купил. Ты же знаешь, что банда охотников до власти тебе не компания. Посмотри на меня и скажи, что я прав.
— В не правы! — У него перехватило дыхание, но он не обернулся. И в любом случае его протесту не хватало энергичности. — Мой ум! Если бы вы знали… Если бы у меня был ум, стал бы я… — Он подавился.
— Как долго ты пробыл Абрахамом Брауном?
— С тех пор, как меня в Канзас-сити сцапали за разбитое окно.
— Что они сделали с тобой?
— Приют для бездомных. Исправительная школа… Нам ее полагалось называть иначе. Моим законным опекуном был суд. К несчастью, окно принадлежало ювелиру, хотя я и не обратил на это внимания.
— Канзас-Сити?.. Это случилось вскоре после того, как ты покинул Латимер?
— Вскоре? Наверное. — Он произнес последнее слово так, словно ему внезапно стало безразлично, существовали эти сны прошлого или нет. — Латимер… Я просто ушел. Свалка, небольшие леса, думаю, я там спал. Два или три дня ничего не ел. Потом оказался возле железнодорожной ветки, мне помогли двое бродяг. Канзас-Сити. Бродяги хотели оставить меня у себя, но я не был «своим»… ни для них, ни где бы то ни было…
— Подожди минутку…
— Это вы подождите минутку. Я никогда не был «своим». Я даже не был хорошим бродягой, потому и болтался с ними. — Он наконец взглянул на меня, и взгляд этот был столь стремительным, как будто он хотел застать меня врасплох. — Я ничего не хотел. Вы можете понять это? Можете? Двенадцать лет от роду, голодный как волк, в кармане — ни цента, но я… не хотел… ничего! О Боже, в мире нет большего проклятья!.. Ну вот, я увидел то прекрасное зеркальное окно… поздним вечером… и прекрасные полкирпича в канаве. Я подумал: «Вот! Предположим, я сделаю это. Может быть, это заставит меня заинтересоваться хоть чем-нибудь»… как при кошмаре… вы пытаетесь проснуться, сделав себе больно…
— Это было интересно?
— Устроил чертовски хороший погром… Школу я закончил через шесть лет.
— Никому не рассказывал о своем прошлом?
— Нет. — Его губы тронула жестокая ухмылка. — История — это процесс отбора, помните, мистер Майлз?
— После смерти твоей матери я встречал кое-кого из ее родственников. Прекрасные люди.
— Они и были прекрасными людьми, — сказал Абрахам Браун. — В школе я выложил три или четыре различные истории. Прикинулся страдающим амнезией. Они проверили первые две или три, понимаете, а потом решили, что я патологический лгун. Канзас-Сити — это долгий путь из Массачусетса. Множество бездомных детей.
— Так уж и множество, Абрахам?
— За шесть лет у меня сложилось такое впечатление.
— И было важно не возвращаться в Латимер?
— Вы понимаете вашу собственную душу?
— Нет. Но ты по-прежнему мальчик, который интересовался этикой…
— О, Бен!
— И ты все еще считаешь себя виновником смерти матери. Я хочу, чтобы ты перестал винить себя.
Он смотрел слепо, но не без понимания.
— А кто же еще…
— А надо ли искать виновника? Может быть, виноват Данн, потому что приволок тебя без предупреждения и выглядел, как гнев Господний?.. Но ведь он просто выполнял свою работу, выполнял так, как он себе ее представлял. Зачем вообще обвинять кого-либо? Так ли важно обвинение?
— Да, если оно напоминает мне, что я способен испортить все, к чему прикасаюсь… Если напоминает, что я никого не должен любить слишком сильно и ни о ком не должен слишком сильно заботиться…
Я выполз из кресла и схватил его за запястья:
— Это одна из самых дурацких ловушек в мире. И теперь ты, обладатель величайших ума и сердца, какие я только знал, крутишься внутри нее, схватив себя зубами за хвост. Ты думаешь, до тебя никто не ошибался?.. У тебя впереди жизнь, а ты заявляешь: «О нет, на ней грязное пятно, заберите ее!»
— Я буду жить, — сказал он и попытался освободить запястья. — Мириам, например… Она как раз по мне, прекрасная сделка, деньги и все прочее. И сердце у нее на месте, да я и не думаю, что у нее в груди. — Полагаю, он старался причинить мне боль своими словами. — Сучка еще та, а потому мне даже не надо заботиться, влюблен я в нее или нет…
— Великолепно! Она ни в чем не повинная женщина, которую можно обидеть, как и любого другого человека. Думаю, ты помолвлен с ней потому, что так запланировали Келлер и Николас, а может быть, и Макс.
— Что-о?!
— Да-да… Как ты жил после окончания школы?
Он перестал выдергивать из моих рук свои хрупкие запястья:
— О, я… увидел Билла по телевизору. Автостопом добрался до Нью-Йорка. Это все.
— Три года назад?
— Два.
— А что было в первый год, Абрахам?
— Что вы думаете о… Келлере и Николасе?
— Оставим это. Я могу ошибаться, и если так, извини меня. Расскажи мне о том годе, Абрахам, первом после окончания школы.
— Я… О, из меня никогда бы не сделали настоящего преступника, я просто одна из школьных неудач. В сущности, я был хорошим парнем. Валял дурака на заправочной станции, около месяца, пока у них что-то не пропало из кассы. Я не брал, но за меня все сказала репутация. Мыл посуду в паре мест. В обоих случаях ничего хорошего. Часто сомневался, смогу ли вообще получить приличную работенку, так чтобы ручек не запачкать…
— Почему бы тебе не перестать заниматься самобичеванием?
— А вам не приходилось ночевать в бочках, мистер Майсел?
И тут раздался звонок в дверь.
— Абрахам, ты должен пообещать мне, что никогда не скажешь Келлеру или Николасу… вообще никому о том, что знал меня в Латимере.
Он оскорбленно взглянул на меня, безжалостно улыбнулся:
— Я должен пообещать?
— Если я окажусь связанным с той давней историей, это может стоить мне жизни.
Его злость исчезла.
— Как и ты, Абрахам, я уязвим.
Мягко, безо всякого гнева, он спросил:
— Вы в конфликте с законом?
Снова зазвонил звонок, долго, настойчиво.
— Да, нечто подобное… Я не могу объяснить. Но если ты когда-нибудь заговоришь о Бене Майлзе, это может стать мне смертным приговором.
Ответ был прямым и искренним:
— Значит, я не заговорю о Бене Майлзе.
Я отпустил его запястье. Он похромал в холл, и вскоре оттуда донесся его голос:
— Эй, поспокойнее, доктор Ходдинг! Вы что, заболели?
Он и в самом деле выглядел больным, этот старик, таким больным и изменившимся, что не услышь я имя, я бы и не узнал его. Вчера вечером он был пьян в стельку. Сейчас его щеки пылали румянцем, узел галстука торчал где-то под ухом, а серебристые волосы стояли дыбом. Шатаясь, он прошел мимо Абрахама, словно парень был шкафом или столом.
— Уолкер… Мне нужен Уолкер…
— Дэн Уолкер? Его уже здесь нет. Уже несколько дней его не видел.
— Нет, черт побери, парень! Ты знаешь, где он.
— Да не знаю я!
Я шагнул к Ходдингу: он выглядел так, словно собирался броситься на Абрахама. Старик вдруг вздрогнул и рухнул в освобожденное мною кресло.
— В офисе нет, — промямлил он сморщенными губами. — Я звонил. — Тут он заметил меня и чуть слышно проквакал: — Браун, я это что за дьявол?
— Мой друг. Послушайте, я не знаю, ничего не слышал…
— Так услышишь. Услышишь, если не найдешь его. Ты увидишь…
Сзади донесся голос, который я сразу узнал:
— Ходдинг, убирайтесь вон!
Он стоял в беззвучно распахнувшихся дверях, грузный и отупевший от пьянства. Его необъятное тело скрывалось под огромным черно-оранжевым халатом, из-под которого торчали качающиеся колонны его лодыжек. Искусственные волосы были белы, как, наверное, была бела подушка, на которой они только что лежали. Но подушка, думается, была не более, чем его жирные щеки.
Он все еще был крепок. Он равнодушно взглянул на нас с Абрахамом. Двинулся вперед — не пошатываясь, но неумолимо накатываясь, — и навис над Ходдингом со спокойствием горы. Ходдинг задыхался:
— Десять лет. Десять дурацких лет назад, именно тогда мне следовало умереть…
— Вы истеричка, — сказал Николас-Намир.
— Что в этом странного? — простонал Ходдинг. — Ваши люди купили меня… Да я не слишком и торговался, правда? Проклятье, ко всему прочему, я был искренним. Я думал…
Николас шлепнул его по плечу:
— Вставайте, вы, мужчина!
Ходдинг поднялся, качаясь, как былинка на ветру.
— Вы должны найти Уолкера. Он сумасшедший. Я — тоже, иначе я не стал бы… Слушайте, Николас, я был пьян. Я позвонил ему попасть туда… ну, в лабораторию. Вчера ночью. Я был пьян. Я должен был сказать ему… А теперь…
— Успокойтесь. Пойдемте в другую комнату.
— Мне все равно, проклятье! Вы должны найти Уолкера…
Николас снова поднял свою толстую руку. Ходдинг съежился.
— В другую комнату. Вам необходимо выпить. Уж слишком вы взволновались. Я обо всем позабочусь.
— Но Уолкер…
— Я сумею найти Уолкера. Пока мы с Абрахамом, сбитые с толку, стояли, как два дурака, они удалились. Дверь закрылась, как и открылась — беззвучно.
— Абрахам, что случилось? Если ты знаешь…
Он ответил коротко:
— Не знаю.
— В «Фонде Уэльса» они работали над мутациями вирусов. До того как доктор Ходдинг оставил свое место… У него сейчас собственная лаборатория?
— Откуда я… Дьявол, да, вы же слышали. Он говорил о ней.
— Его финансирует Партия органического единства?
— Бен, я ничего не обязан делать для всего этого… для… для Партии. А вы что должны?
— Я тоже ничего не должен! Отныне… Это был всего лишь способ познакомиться с Келлером, в надежде выйти на тебя.
— Ладно, — сказал он тухлым голосом, — вы меня нашли. Но зачем расспрашивать меня о Партии? — Он был явно напуган. И как-то напрямик, но неохотно солгал: — Я даже не являюсь ее членом, и никто не убеждает меня вернуться. Я просто живу здесь.
На это у меня имелся ответ, но он ему был прекрасно известен. Поэтому я сказал:
— Абрахам! Пойдем, организуем ленч на двоих. Нам надо поговорить о многом.
Он отшатнулся:
— Мне надо заниматься…
— В среде вечером, после концерта, я встречался с Шэрон. Думаю, сегодня увижу ее снова. Пойдем со мной?
Он был далеко, на другом конце комнаты. И даже дальше. Стоял, прижавшись лбом к холодному оконному стеклу. Потом сказал:
— Нет… Она не вспомнит меня. Это было в детстве. Можете вы понять?
— Она тебя помнит. Мы говорили о тебе.
— Тогда пусть она помнит ребенка, с которым играла, и оставьте меня таким. Бен, поймите, ради Бога. Ладно… У меня был ум. Я был чертовски одаренным и сбежал от этого. Потому что не мог выдержать то, что доказывал мне мой ум. Потому что я — трус. Рожденный трусом.
— Ты используешь воображаемую трусость в качестве щита.
Он вздрогнул от моих слов, но продолжал, будто я и не говорил вовсе:
— И единственное, что я могу сделать, дабы не спятить, это не думать вообще. Все прекрасно понимаете. Но вы стремитесь расшевелить меня, чтобы я пожелал стать кем-то важным. Не думаю, чтобы я способен на это. Не думаю, что я хочу хоть кем-либо стать.
— Кроме, вероятно, музыканта?
— Совсем другой тип мышления. Вы никогда не встретите в музыканте подлости или жестокости. Мне бы хотелось оказаться способным сыграть Баха, прежде чем они взорвут мир. Мне бы хотелось касаться пальцами клавишей, когда они сделают это.
— Ты абсолютно уверен, что они собираются взорвать мир?
— Конечно.
— Я бы не рискнул предсказать даже то, что у младенца будет заячья губа. Так ты разделишь со мной ленч?
— Я очень сожалею, но…
— А завтра? Встретимся завтра а полдень, в кафе «Голубая Река»?
— Я собираюсь уехать на уик-энд.
Я начирикал в записной книжке свой адрес и вырвал листок.
Он потянулся к нему, покрасневший и несчастный из-за своего решения, но так и не изменивший его. Голоса Намира и Ходдинга казались невнятным шумом за дверью. Думаю, Абрахам смотрел мне в спину, когда я уходил. Не знаю…
10 МАРТА, ПЯТНИЦА, ПОЛНОЧЬ, НЬЮ-ЙОРК
Я написал предыдущие строки здесь, в моей квартире, всего несколько часов назад. Странно, за этот вечер все так изменилось, что день кажется давно прошедшим временем. Закончив свою предыдущую писанину, я позвонил Шэрон Брэнд. Я ничего не сказал ей об Абрахаме: она не спрашивала… Разве только ее молчание считать вопросом… Я разрешил себе позвонить ей вечером. Они с Софией живут в Бруклине. Помните, Дрозма, вы тоже жили там несколько месяцев. 30883 год, не так ли?.. Год, когда мост был открыт для транспорта? Он до сих пор в строю, и некоторым его деталям около ста лет. (Еще не знаю, какую рекламу поставят на нем нынешней весной.) Шэрон была мне нужна — хотя бы для того, чтобы напомнить, что я не всегда ошибаюсь… Сейчас полночь, и сквозь шепчущую тишину города мне слышатся снаружи какие-то новые звуки. На самом деле их нет: они рождены моим собственным мозгом, потому что я пребываю в страхе.
Дрозма, вам надо было бы почаще пересматривать наши законы, регламентирующие поведение Наблюдателей. По какому праву вторгаемся мы в жизнь Абрахама? Кто позволил нам вмешиваться в дело любого другого землянина?
Я бы сказал, никакого права вообще нет, так как «право» в данном случае подразумевало бы существование всемирной власти, определяющей привилегии и запреты. Мы, сальваяне, рождены агностиками. Не имея ни веры, ни догматического безверия, мы вмешиваемся в человеческие дела просто потому, что у нас есть возможность для такого вмешательства. Потому что, тщеславно или застенчиво, мы надеемся увеличить человеческое добро и уменьшить человеческое зло настолько, насколько мы сами способны понять, что есть добро и зло. Хотелось бы знать, как далеко мы способны зайти в своих действиях…
После трех с половиной столетий жизни я обнаружил, что для эмпирической этики нет лучшей начальной аксиомы, чем следующая: жестокость и зло — фактически синонимы. Преподаватели человеческой этики во все века настаивали, что жестокое действие есть действие злое, и люди в целом соглашались с этой доктриной, хотя многократно ее попирали. Существует неизменное отвращение к любым явным попыткам сделать жестокость законом поведения. Неосознанная жестокость, жестокость, порожденная примитивными страхами или освященная установленными обычаями, — они могут существовать веками, но когда человеческое естество сталкивается с Калигулой,[49] оно отвергает его и испытывает отвращение к его памяти. И наоборот, я никогда не встречался со злом, где бы жестокость не была доминирующим элементом. Здесь, очевидно, человеческое естество не вполне готово следовать логике. Чтобы соответствовать семантическим законам, необходимо делать различие между непреднамеренной жестокостью и недоброжелательностью. Если тигр съест человека, то с точки зрения человека это зло, но тигр безличен, как безличны молния и лавина, он попросту заботиться о своем обеде, не испытывая никакой недоброжелательности. Таким же образом безличен я мясник, убивающий ягненка. И хотя ягненок мог бы упрекнуть меня, я думаю, что мясник занимается достаточно приличным делом. Просто ягненок платит такой смертью за кров, сытую жизнь и гибель более милосердную, чем ему могла бы предложить природа. Если в термин «жестокость» включить мотивы, не связанные с недоброжелательностью, я думаю, аксиома остается в силе. Я обратил внимание, что громадное количество случаев человеческой жестокости не связано с недоброжелательностью, а является результатом незнания или инерции, а то и вовсе результатом неправильных суждений или неверного толкования фактов.
Из этого не следует, что такая мягкая и ограниченная концепция как доброта в любом случае является синонимом блага. Люди обманывают себя иллюзией, будто добро и зло полностью противоположны. Это один из тех кратчайших путей, которые оборачиваются тупиками. Добро — гораздо широкий и более содержательный аспект жизни. Я думаю, отношение к злу выражается в чем-то большем, чем отношение сосуществования. Но зло донимает нас, преследует, как головная боль, тогда как добро мы считаем чем-то само собой разумеющимся, как мы считаем само собой разумеющимся здоровье, пока оно не утрачено. Тем не менее добро — напиток, зло же — только яд, который иногда находится в осадке. В течение жизни мы способны стряхивать стакан, не разливая вина. Хорошо спокойненько сидеть на солнышке — нет этому процессу сбалансированно противопоставленного зла. А где найти подходящее зло, которое можно противопоставить прослушиванию фуги соль минор? Вопрос этот столь же абсурден, как вопрос: «Что противоположно дереву?» Распознавая множество частичных амбивалентностей[50] между рождением и смертью, мы не замечаем их частичности и обманываемся предположением, будто амбивалентность точна и вездесуща. Мне кажется, что как люди, так и марсиане не станут мудрыми до тех пор, пока не выведут свое мышление за пределы символистического языка обманчивых и соблазнительных картинок. Ну-ка, пусть кто-нибудь измерит хотя бы обыденное равновесие дня и ночи…
И если я должен объяснить свои действия на безличном уровне (а я думаю, должен), то я имею собственное отношение к жизни Абрахама Брауна, потому что верю, что у него есть потенциально великая интуиция. И если я не прав, он обречен развивать эту интуицию (он не может помочь себе сам) на наиболее опасных и безотлагательных человеческих проблемах. И если он способен со свей развивающейся интуицией достичь зрелости без бедствий, я не понимаю, почему остальным из его породы не помочь ему твердо держать стакан и выбросить осадок. Каким путем, я думаю, другой вопрос: это может быть и искусство, и преподавание этики, и даже политическая деятельность. Разумеется, потратить девять лет на его поиски меня заставили не только ум Абрахама. Сам по себе ум — ничто. Или даже нечто худшее — Джозеф Макс чертовски умен. Причина также не в его беспокойной и сбитой с толку душе, не в его нынешнем «я». Его нынешнее «я» способно быть глупым, робким и неприветливым — таким, каким я нашел его сегодня. Нет, в Анжело (как и в Абрахаме) была и остается смесь из ума, любознательности, мужества и доброй воли. Его ум ошеломлен и измучен ужасающими сложностями окружающей жизни. Его любознательность и мужество, подкреплены слепым случаем и неизбежным одиночеством ума, в двадцать один год столкнули его с мерзостями большими, нежели готова вынести его душа… И он увидит гораздо большую мерзость в будущем — если выживет — и обнаружит, что его душа сильнее, чем ему казалось. Его добрая воля — это река, запруженная мусором, но она не сможет оставаться такой: она будет течь дальше.
Полагаю, что, как и любой другой, Абрахам Браун хотел бы время от времени быть счастливым. У меня было много счастья, и я надеюсь на еще большее. Я никогда не зарабатывал счастье поисками его. Давным-давно, когда я любил Майю и женился на ней, я думал (совсем как человеческие существа!), что занят поисками счастья. Ни она, ни я не нашли его, пока не бросили поиски, пока не осознали, что любовью можно обладать не больше, чем солнечным сиянием, и что солнце сияет, когда захочет. Помню, мы были полностью счастливы, когда она выжила при тяжелейших родах Элман. И если для счастья нужно искать причины, это было потому, что мы жили в полном соответствии с нашей натурой: у нас была наша работа, наш ребенок, наши друзья. Солнце было высоко. После того как я потерял Майю при рождении нашего сына, мое следующее счастье пришло годом позже, когда я, исполняя с оркестром Старого Города концерт «Emperor», обнаружил вдруг, что впервые знаю, что делать с тем невероятным октавным пассажем… Вы помните его: ревущая буря ослабевает, замирая без кульминации, и любой бы, кроме Бетховена, написал бы там крещендо. И понял тогда (думаю, что понял), почему он не поступил, как любой. Мои руки передали это понимание, и я был счастлив, не порабощенный больше воспоминаниями о гОре, но живущий так хорошо, как могу… И поэтому я думаю, что если зреющий ум Абрахама сумеет провести его через сложное в просторе, если его любознательность и мужество смогут показать ему относительную незначительность исправительной школы в Канзас-Сити, если река доброй воли окажется способной найти свое русло, Абрахам Браун будет достаточно счастлив. Во всяком случае, счастливее большинства… И я думаю, при всем своем уважении к одному из наиболее важных человеческих документов, что поиски счастья — это занятие для дураков.
Дрозма, если вы умны настолько, насколько я знаю, по одному характеру моих размышлений вы можете прийти к заключению, что я видел Абрахама еще раз. Это правда. Он в соседней комнате, его комнате, если он пожелаете считать ее своей. Не думаю, что люди Макса следили за мной, когда он отправился сюда, но в любом случае я не намерен спать и, осмелюсь заявить, способен справиться с любым из них. В городе или за его пределами сейчас, возможно, происходит нечто такое, перед чем, отказываясь верить, содрогнутся и отступят как человеческие, так и марсианские умы. Абрахам уверен в этом. Я же до сих пор сомневаюсь и лелею надежду, что тут могла быть ошибка. В любом случае, будучи беспомощным, этой ночью я не могу противодействовать случившемуся и остаюсь бодрствующим в неполном созерцании. А предчувствуя, что в грядущие дни и ночи мне может и не представиться такая возможность, я изложил свои субъективные соображения для вас, Дрозма. Я дал Абрахаму пилюлю, и он теперь отсыпается. Надеюсь, пилюлю поможет ему проспать до самого утра. Изредка он всхрапывал — совсем как убегавшийся за день щенок.
Теперь о Шэрон.
До Бруклина все еще непросто добраться. Интересные дела с этим человечеством!.. В наши дня можно воспользоваться новым туннелем с электронно-управляемой дорогой — они называют такие дороги «робби-роуд», — который фактически является продолжением Нижнего ровня Второй авеню. Шэрон утверждала, что если я доберусь до поворота на Грин-авеню, я уже смогу промахнуться… Конечно, она-то человек. Возможно, я бы не смог, зато такси сумело. Некоторое время мы поплутали в районе, который почему-то называется Гринпойнт, а затем рискнули свернуть на красивую авеню где-то в районе Флэтбуш. В конце концов мы нашли тихую улицу, на которой жила Шэрон. Для этого нам пришлось выбраться на другую сторону парка Проспект. Шэрон была права насчет поворота. Уверен, только мы были способны повернуть направо уже после того, как проехали его, а потом снова поворачивать то направо, то налево, а потом… Черт с ним! В следующий раз я попросту воспользуюсь метрополитеном.
Многоквартирный дом представляет собой что-то типа колонии музыкантов, сбежавших от обозленных соседей. Обстановка в гостиной кричала о том, что здесь живут женщины, но кабинет Шэрон строг, как лаборатория, — рояль, книжный шкаф да несколько стульев. И никаких украшений, нет даже традиционного бюста Шопена или Бетховена. Когда она ввела меня туда, я сказал:
— И ни одной вазы для цветов?
Она ответила:
— Ни одной.
Впрочем, это было чуть позднее. Когда же я только появился, она была совсем по-взрослому озабочена, чтобы в мою руку попала выпивка, а вдруг меня разместились подушки. Это был какой-то сугроб из подушек. Я вполне мог обойтись и без них, но брать меня в белоснежное окружение явно доставляло радость Шэрон. Она подсовывала эти чертовы подушки всюду, где оказывались или могли оказаться мои кости. Когда я поднялся, чтобы пожать руку миссис Уилкс, некоторые из подушек рассыпались, но Шэрон тут же водворила их на место. Она занималась этим, посмеиваясь над собой, но непреклонно. Прямо-таки безжалостно. С такой степенью, безжалостности что вам бы захотелось беззвучно заплакать.
Для миссис Уилкс я был старым экс-преподавателем и музыковедом, старым настолько, что помнил концерт Рахманинова в Бостоне почти пятьдесят лет назад. Я преподавал «за пределами Запада» до тех пор, пока не стало ослабевать здоровье. Я был очарован талантом Шэрон и представился ей, когда «случайно узнал мисс Брэнд», будучи в кафе «Голубая Река». Как просто лгать, Дрозма! Я не слишком раздумывал над своей ложью, а Шэрон всецело желала сотрудничать со мной в этом процессе. Конечно, объяснить Софии Уилкс воскрешение Бена Майлза было бы практически невозможно. К тому же, она очень постарела, как стареют люди. Во всех делах, кроме музыки и благополучия Шэрон, София стала бестолковой и забывчивой. Память о прошлом взяла вверх над нынешней жизнью и совершенно сбивая ее с толку. Меня она встретила по-доброму, но даже не попросила «посмотреть» своими пальцами мое лицо. Она устроилась с каким-то вязанием там, где, по-видимому, был ее привычный угол. Она знала, что мы здесь, но в то же время была не совсем с нами, покойная среди живших в ее памяти образов. Когда она два или три раза присоединялась к беседе, ее замечания были не совсем уместными, а один раз она и вовсе заговорила по-польски, на языке, который Шэрон никогда не изучала. Как бы то ни было, но об Анжело мы с Шэрон по негласному договору не вспоминали…
По дороге к ним я купил свежую газету, но сунул ее в карман пальто, даже не развернув. Возвращаясь с кухни со вторым мартини для меня Шэрон вытащила газету, взглянула на заголовки и воскликнула:
— Ого!
Я поднялся, снова рассыпав подушки, но крепко держа выпивку, и заглянул через ее плечо. По-видимому, в газете содержалась новость не для ушей Софии, потому что Шэрон приложила к губам пальчик и указала глазами на первую страницу. И я прочел жирный заголовок:
РАБОТНИК ПАРТИИ ЕДИНСТВА БРОСАЕТСЯ В СМЕРТЬ
Прыжок с тридцатого этажа
— Давайте, я покажу вам свой кабинет, — сказала Шэрон и немного посуетилась вокруг Софии. — Удобно, дорогая?
— Да, Шэрон.
На всякий случай Шэрон подложила Софии пару подушек и взяла меня за рубашку. В результате я мог одновременно идти, пить и читать газету.
«10 марта. Дэниел Уолкер, тридцать четырех лет, работник в офисе Партии органического единства, шагнул сегодня днем навстречу смерти с тридцатого этажа пентхауса, принадлежащего партийному лидеру Джозефу Максу. Мистер Макс рассказал полиции, что, по всей видимости, в результате переутомления у Уолкера наступило нервное расстройство. Чуть ранее Уолкер явился в пентхаус, как выразил Макс, «в утомленном и несвязном» состоянии. Пока мистер Макс разговаривал в саду на крыше с другим посетителями, среди которых были сенатор Аляски Гэлт и актер Питер Фрай, Уолкер в одиночестве находился в одной из комнат пентхауса. Прежде чем присутствующие поняли его намерения, Уолкер выбежал в сад и влез на парапет. Несколько мгновений он стоял на парапете. Очевидцы утверждают, что речь его была бессвязной. Затем он не то потерял равновесие, не то прыгнул, упав с тридцатого этажа на Эспланаду.
Мистер Уолкер — уроженец Огайо, не женат. У него остались мать, Миссис Элдон Сноу, и брат Стивен Уолкер, оба проживают в Цинциннати.»
Оторвавшись от газеты, я обвел глазами кабинет. А потом произнес ту самую нелепую фразу насчет вазы для цветов.
— Ни одной, — сказала Шэрон. — Бен, вы странно себя ведете… Как будто что-то случилось. А ну-ка выкладывайте!
— Я нашел его.
— Ах!
Она вцепилась в лацканы моего пиджака и долго-долго смотрела мне в лицо, словно пыталась понять, как изменило меня то, что я нашел Анжело. Потом пролепетала:
— Он… он спутался с теми, о ком вы думали? С этими… — Она кивнула на газету. — С этими людьми?
— Да, косвенно. — И я рассказал ей все, так, как оно было. Пытаясь описать, каким стал Абрахам к нынешнему, 1972 году, я, возможно, только все испортил: — Он слышал твой дебют. Он думает, ты его не помнишь…
— Исправительная школа… Бедный ребенок!
Тем не менее, несмотря на все мои потуги, Абрахам не стал для нее реальной личностью: слова в таких случаях бессильны. Она все еще интересовалась тем, что случилось со мной, и хотя ее интерес был мил и лестен, мне бы хотелось, чтобы она оставила это занятие.
— Вчера я познакомился с Уолкером. Этакий механизм для контактов с богатыми слухами, весьма преуспевающий в своем деле. Он совершил небольшой промах в партийном сленге, и я догадываюсь, что Билли Келл по прозвищу Уильям Келлер отчехвостил его за это.
— Так сильно, что он прыгнул с крыши?
— Я мельком видел его, когда уходил из офиса. Келлер поговорил с ним по телефону. Уолкер выглядел так, будто получил… как это?.. между глаз.
— А этот… Ходдинг?
— Не знаю, голубушка. И уверен, что Абрахам тоже не знает. Это все равно что видеть только хвост зверя, скрывающегося за деревом.
Она вздрогнула, запустила руку в волосы и в поисках утешения посмотрела на второго своего друга в этой комнате — на рояль.
— Не то чтобы я знаю толк в политике… это было бы слишком громко сказано… Но недавно я вступила в Федералистскую партию. Вернее, это филиал партии — юношеская организация, работающая с девушками до двадцати одного года. Билет и все прочее, черт! Как вы думаете, Бен… Ой, Я имею в виду «Уилл»… Как вы думаете, Уилл, это было разумно, или я сменила шило на мыло?
— Мне нравиться их взгляды.
— И вы сделаете попытку увести Анжело от этих неонацистов?
— Он должен уйти по собственной воле.
— А если он не уйдет? — Она смотрела на меня с нежной тревогой. — А если купится на их чушь и плюнет вам в глаза?
Каким-то образом я должен был добиться, чтобы она перестала думать обо мне.
— Да никогда! Он не настолько изменился, я имею в виду его душу. Анжело связывает благодарность Келлеру за сделанное добро… Не сомневаюсь, Келлер рассчитывал, что так оно и будет. Заманил в капкан преданности, преданности, уходящей корнями в детство, намериваясь привлечь свою жертву к деятельности, глубоко чуждой Анжело… Он до сих пор мальчик, восхищающийся Билли Келлом… Интересно, я сейчас кое-что вспомнил… Я видел, как вы с Анжело хоронили на заднем дворе его щенка. Вы, вероятно, не знали, что я смотрю в окно. Вы таскали булыжники с мостовой… Я помню, как торчал твой тощенький зад…
— Мистер! Мое нынешнее достоинство!
— Ладно-ладно… Перед этим ты посидела на чем-то грязном, ты и твои белые штанишки… Да, друзья возвращаются.
— Они возвращаются! — сказала она. — Или никогда и не уходили.
— Окутанные облаками башни… Взгляни на них снова, Шэрон.
— Да у нас была целая страна, Бен, наша собственная. Примерно за год до вашего приезда в Латимер. Все началось с особенной трещины на тротуаре Калюмет-стрит, изогнутая такая трещина, она была похожа сразу и на «S», и на «A»…
— Продолжай, Шэрон.
— Мне представляли себе, что там страна. И думали о ней. Там жили первобытные люди, иными словами, как в средневековье… — Голос ее дрогнул. — Очень большое количество королей и отвратительных визирей, вокруг все время безобразничали злые духи, черт, их было невозможно поймать… Анжело нарисовал превосходную карту страны, тогда я тоже нарисовала, но его карта была лучше. У меня была река, текущая прямо через горный хребет, он не потерпел ее. Но это была моя река, и я просто сошла с ума, тогда… — она легким прикосновением пальца вытерла веко, — тогда он сказал: «Ладно, эта река подземная, она течет под горами!» И перерисовал свою карту, чтобы согласовать с моей… отлично сделал — пещеры, подземные озера и всякие мелочи…
— Там, наверно, был бело-голубой свет, льющийся неизвестно откуда, а ваши голоса отражались эхом от влажных скал…
— О!.. Вы понимаете! Ну, и однажды мы решили, что наконец перешагнем определенным образом и окажемся в… название страны было Гоялантис… окажемся там и пробудем столько, сколько захотим. Конечно, для остальных все выглядело так, будто мы по-прежнему в этом мире. Необходимая условность. Мы жалели всех этих бедняг, потому что они смотрели на нас — даже заставляли нас умываться, причесываться, есть овсяную кашу и не чертыхаться! — и думали, что мы с ними, тогда как, видит Бог, нас вообще не было. И мы так и остались там… Я на самом деле не помню никакой церемонии возврата. Думаю, мы никогда и не заботились о возвращении. — Она открыла глаза. Они были полны слез. — Ваши руки не изменились. Сыграйте мне.
Мелочи жизни… Я сыграл один из сентиментальных ноктюрнов Филда,[51] который мне случилось вспомнить, потому что за окнами стоял теплый мартовский вечер. А потом была Первая прелюдия Шопена, потому что в среду Шэрон научила меня, как ее можно исполнять. Шэрон смотрела на меня, но видела Гоялантис. Впрочем, она его никогда и не покидала. И хотя в Гоялантисе бывали цветные туманы, его воздух мог быть чистым, и чисты были линзы, с помощью которых можно было наблюдать за этим, другим миром, и мир этот не был исключителен во владении особым зрением, тем, что мы любим называть правдой.
А потом Шэрон сказала:
— Я не ошиблась.
— В чем, дорогая?
— В вас. Понимаете, я никогда не верила, что вы умерли. Я категорически отказалась верить в тот самый момент, когда мне сказали о вашей смерти. Я продолжала отрицать ее, хотя поняла, что не могу говорить о вас даже с мамой Софией. И «Вальдштейн» на концерте… Это было для вас. Знаете, они не хотели, чтобы я включила его в программу… Даже маме Софии не нравилось, что он пойдет сразу за сюитой Карра. Но он должен был быть там. Я знала это еще три года назад, когда начала серьезно работать над ним… — И тут она очень тихо, так, что я едва расслышал ее слова сквозь лениво взятый мною аккорд, сказала: — Вы хотите, чтобы я увиделась с ним?
— Только если ты этого хочешь.
— Я так боюсь, Бен.
— Тогда обождем. Но он не ушел из Гоялантиса.
— Вы знаете это?
— Почти.
— Но может быть, ему следовало уйти? Эта страна хороша для меня. Я живу грезами. И теперь они начинают отплачивать мне за это, благослови их Господь. Но Анжело?.. Вы сказали, он пытается заниматься музыкой?
— Ужасно. Он сражается с нею. Примерно так. — Я исковеркал несколько тактов Восьмой инвенции, как это дела Абрахам. (Шэрон поморщилась.) — затем возвращается к началу и играет снова… точно так же, du lieber Gott![52]
— Это не поможет, — сказала Шэрон. — Думаете, он стремится к тому, что ему неподвластно?
— Ребенок, обе руки у которого заняты тортом, тянется за изюмом и роняет торт… Впрочем, ты оценишь его стремления лучше, чем я.
Она рассмеялась, но это был невеселый смех.
— Время от времени вы кажется порядочным злючкой. — Она перестала смеяться. — О, знаете, я увижусь с ним… скоро. Женское любопытство…
— Меня устроит женское любопытство.
Я ушел, так как знал, что у Шэрон был очень тяжелый день. Общественность добилась, чтобы выступление в филармонии назначили на апрель. Это был первый плод триумфального дебюта Шэрон. Но время для созревания этого плода осталось совсем немного. Она собиралась исполнить «Симфонические вариации» Франка и призналась мне, что до сих пор выучила только три четверти произведения. Ее не беспокоило это или…
Дверь моей квартиры оказалась запертой. Но я оставил замок незакрытым — на случай, если Абрахам явится, пока я отсутствую… Я смеялся над собой подобную надежду, однако заставил себя поступить именно так. Теперь пришлось побеспокоиться насчет ключа.
Когда я открыл дверь, свет в комнате оказался выключенным. В темноте красный огонек его сигары. Двигался на ощупь, он едва не опрокинул лампу, а когда я отыскал на стене выключатель, беспомощно рассмеялся.
— Грациозность — великая штука! — сказал он и, попытавшись поправить лампу уронил сигарету.
Пришлось нам немного прибраться. Он выглядел пристыженным и испуганным, но был рад меня видеть.
— Блудный сын вернулся, — сказал он. — Слегка ожегшись.
— Ты думаешь, я обижен?
— У вас есть на это право.
— Нет. Выдерживал и не такое.
Я смешал мою «двойную гранату»: на три пальца бренди и на один — яблочной водки. Этот коктейль никому не нравится, но если вы чувствуете себя скверно, вы понравитесь ему.
Абрахам задохнулся и, переведя дух, прокомментировал:
— И они еще беспокоятся о расщепление атома!
— Повторишь?
— Как только выну из горла горелое мясо, не раньше…
— Я читал в газете об Уолкере.
Он содрогнулся, но не от выпивки.
— Что пишут?
— Цитирую Макса… «нервное расстройство от переутомления»…
— И все?
— Сказано, что речь его была бессвязной.
— Неправда, Бен. Я был там.
— Уилл… Уилл Майсел. Привыкай к этому имени. Может оказаться существенным.
— Извините. Я постараюсь. Я думал о вас по-другому.
Я сочинил еще один, более мягкий напиток.
— Выпей-ка не торопясь. Это жидкость для промывания обожженных мест.
Он смотрел с ужасом и не мог вымолвить ни слова. Но его юное лицо уже не казалось полем сражения, каким оно представлялось утром. Теперь это было лицо пробуждающегося от долгого сна человека. Впереди его ждал тяжелый и несущий с собой смертельную опасность день, но спящий наконец просыпался.
— Эйб, я, пожалуй, изложу вкратце, что мне известно, и о чем я догадываюсь. Если я в чем-нибудь ошибусь, ты меня прервешь, хорошо?
Он с благодарностью кивнул, и я начал:
— Дэниел Уолкер является… являлся человеком, подверженным большим эмоциональным перепадам. Он не мог попросту порвать с Партией органического единства. Уж если у него появилась причина не любить ее, он должен был в своей нелюбви дойти до ненависти. А всего вероятней, вместе с партией он возненавидел и весь мир. Назовем его маниакально-депрессивным типом, просто так, в качестве ярлыка… Для Дэниела Уолкера в жизни нет полутонов — либо все черное, либо все белое. Вчера я дважды побывал в офисе партии. Уолкер сказал мне нечто такое, что было признано ошибочным уже к моему второму визиту. Келлер за это его отчитал. Дух Уолкера метнулся в другую сторону. За такую добросовестную службу — удар по зубам…
— Билл? Его отчитал Билл?
— Да. Поговорил с ним по телефону. Потом, уже по пути к выходу довелось встретить Уолкера после этого разговора. Он был словно из-за угла мешком трахнутый. Дальше… Прошлым вечером обиженный судьбою Уолкер и пьяный в стельку доктор Ходдинг о чем-то совещались. Я сам видел их среди милых игрушечных солдатиков, у Макса. Затем Уолкер оказался в лаборатории Ходдинга и взял там…
Я замолк, потому что загорелое лицо Абрахама стало белее свежевыпавшего снега. Он чуть не выронил стакан из рук.
— Я могу только догадываться, — сказал я. — Это новый вирус?
Ему удалось-таки поставить стакан на пол.
— Новый, прошептал он. — Может распространяться через воздух. — Он справился с голосом, но зачастил: — Неограниченная жизнеспособность, и никаких защитных механизмов в человеческом… нет-нет!.. в организме любого млекопитающего… Все это бормотал доктор Ходдинг, когда… ну, когда мистер Николас дал ему снотворное… Это уже после вашего ухода… Но, бедняга, он не полностью отключился, начал бормотать и метаться по кровати… уже после того, как мистер Николас ушел наверх и оставил меня с ним. Любое млекопитающее — это не только мы, Бен… Уилл… это все. Средство распространения тоже… какая-то мерзость, похожая на пыльцу… зеленая…
— Помедленнее, мальчик. Уолкер взял это?
— Да.
— Инфекционно опасное, разумеется.
— Через органы дыхания. Ходдинг постоянно бормотал о своих обезьянах и хомяках, повторял: «Макаки-резус — восемьдесят пять процентов». Я не знаю, означает ли это смертность. Думаю, да. Нейротоксин. Достигает нервной системы через органы дыхания. И спинной паралич…
— А Уолкер?
— Сегодня днем эта мерзость была у него. Я оставался с Ходдингом… несколько часов, думаю… грыз ногти, не зная, что делать. Билл вернулся рано, в три. Ходдинг тогда уже крепко заснул. Билл поднялся к Максу. Я увязался следом, ему, кажется, это не очень понравилось. Они были в саду на крыше. Сенатор Гэлт трепался о какой-то ерунде, Макс прикидывался, будто слушает. Там была Мириам. И этот сопляк Питер Фрай. И мистер Николас… — Абрахам, дрожа, потянулся к выпивке, но не взял ее. — Николас развалился в кресле, которое было способно выдержать его. Боже, что за прекрасный день! Тепло… Не думаю, что Гэлт и Фрай знали, что Уолкер там, в пентхаусе. Я заметил, что Мириам чем-то обеспокоена, улучил минутку и поинтересовался причиной. Она начала говорить что-то насчет выпившего Уолкера, но тут он сам появился и бросился к парапету. Никто не сумел остановить его, да никто и не пытался. Он стоял на парапете с этой… с этой чертовой пробиркой, в которой был зеленый порошок. Замахнулся ею на нас. Завопил: «Передается по воздуху! Передается по воздуху!» Это была не бессвязная речь. Он хохотал, как сумасшедший, но слова были понятны. Он бросил пробирку на Эспланаду… Она должна была разлететься вдребезги, вряд ли нашли бы даже пробку. А потом он сам последовал за нею. Но не прыгнул. Как будто собрался улететь, как будто думал, что умеет летать. Макс… У Макса началось что-то вроде припадка. Наверное, сердце. Побелел и согнулся. Думаю, о нем позаботилась Мириам. Мистер Николас сказал: «Уберите отсюда ребенка!» И Билл заставил меня спуститься. Полиции я уже не увидел. Остальные могли договориться и промолчать о том, что я там был. Не знаю, почему это их так беспокоило. Полиция, думаю, не узнала даже о том, что там был Билл. Он остался со мной, сидел два часа, до тех пор, пока кто-то не позвонил от Макса. Тогда он вернулся туда, а я… а я…
— А ты отправился ко мне. Они знают, что ты здесь?
— Сомневаюсь. Я просто вышел, никого не встретил.
Он все еще не мог справиться с выпивкой: зубы стучали о стакан.
— Ты порвал с ними, Абрахам?
Он выкрикнул:
— Боже! У меня были все возможности спросить себя, чем закончит политическая партия, которая платит человеку за то, чтобы он исследовал… обнаружил… Я понимал! Я должен был знать, но не обращал внимания. Просто кое-какие важные теоретические исследования, говорил Билл… да, именно что-то подобное сказал мне Билл, когда я поинтересовался…
— Успокойся, мальчик! Вероятно, так считал и сам Ходдинг, по крайней мере, когда все началось. Он привык быть хорошим ученым. Где-то, возможно, эмоциональный ущерб, зато со сверхразвитой способностью быть ребенком во всем, не относящимся к области его научных интересов…
— Но почему я… почему мне…
— Почему бы тебе не поспать?
Затем он заговорил о том, что и мне он доставляет одни лишь неприятности. Не стану воспроизводить эту часть разговора. Там была масса вопросов, на которые у меня не было ответов. «Развалившийся в кресле» Николас, разумеется, должен был знать, что за штуку раздобыл в лаборатории Уолкер. Макс, возможно, и не знал, пока не стало слишком поздно. Безусловно, Макс и Николас совместными усилиями могли бы справиться с Уолкером и отобрать у него пробирку. Я не стал задавать ни одного из подобных вопросов. Я принес снотворное и заставил мальчика проглотить его.
Итак, это выпущено, Дрозма… возможно. Я цепляюсь за хрупкую соломинку возможности. А вдруг Уолкер похитил не ту пробирку?.. Нет, потому что Ходдинг обнаружил потерю страшным трезвым утром и понял, что это означает.
Возможно, работа оказалась не настолько «успешной», как считает Ходдинг. Почему он так уверен, что у человеческого организма нет защиты?.. Возможно, ветер разнесет эту гадость, и факторы, которые не предусмотришь при лабораторных исследованиях, сделают вирус не столь живучим. Возможно, пробирка, не разбившись, упала в реку. Да-да, Дрозма, возможно, на Марсе есть «каналы»…
11 МАРТА, СУББОТА, НОЧЬ, НЬЮ-ЙОРК
Восход солнца этим утром был величествен и насыщен красками. Я сидел в своей комнате и смотрел в окно. Вот мрак над Ист-Ривер начал плавиться, появился намек на золото. Шпили и крыши Бруклина засияли, словно паутина на траве после дождя. Я наблюдал, как пересекает буксир, скользит куда-то по делам в волшебстве умирающей ночи. За ним по воде протянулся легкий хвост дыма: с востока дул небольшой бриз. Хвост, расползаясь, превращался в дорожку, бело-золотую на конце и полную таинственности.
Абрахам ворчал, вздыхая. Даже не поворачивая головы, я понял, когда он, держа в руках ботинки, прокрался в комнату. По-прежнему не поворачивая головы, я сказал:
— Не уходи.
Он поставил ботинок на пол и прихромал ко мне в носках. Сквозь полумрак я разглядел, что лицо его спокойно — без гнева, а возможно, и без страха. Пустопорожнее спокойствие, истощенное и усталое. Как безнадежность.
— Боже, неужели вы еще не ложились?
— Мне никогда не требовалось много сна. Ты не должен уходить, Абрахам.
— Тем не менее я пойду.
— Ну и куда?
— Не знаю, не думал…
— Только не возвращайся к Келлеру и Николасу.
— Не вернусь… Просто не хочу причинять вам неприятности, какие причиняю всем, кто знает меня.
— В твоей фразе нет ничего, кроме вывернутого наизнанку тщеславия. Что-то ведь заставило тебя прийти сюда. Так зачем же уходить?
— Я должен был поговорить с кем-то, кто мог меня выслушать. Эгоистическая потребность. Поэтому я… поговорил. Но…
— Ты никогда не причинял неприятностей Келлеру или Николасу. Это они навлекли их на тебя. Ты бы мог понять это, если бы был честен с самим собой.
— Я не знаю… — Он опустился на колени перед подоконником и, положив подбородок на руки, пристально посмотрел на реку. — Хорошо, правда? И вовсе не требуется быть порядочным человеком. Достаточно иметь глаза, чтобы видеть это. Достаточно иметь уши, чтобы слышать гудки кораблей… И вряд ли все сохранится, если… Ну кто скажет, что бурундук не способен наслаждаться восходом солнца? Но тогда, возможно, не останется даже… — Он долго-долго молчал, потом спросил: — Вы никогда не думали о грядущем с подобной точки зрения, Уилл? Что если все эти дома, вот там, стали бы пустыми? Просто груды стали и камня… Как долго бы они простояли, если бы никто не заботился о них? И не было бы даже ни одной крысы, способной грызть деревянные конструкции. Как вы думаете, птицы могли бы использовать крыши? Чайки… Где чайки делают гнезда?
— На мертвых деревьях.
— Тогда крыши могли бы использоваться другими птицами. Вероятно, для них следовало создать небольшие горы, утесы… Мир птиц, насекомых и рептилий. Иволги, поденки, маленькие змеи. И некому притеснять их, некому убивать. Повсюду деревья и трава. Сначала просто несерьезные крохотные побеги между камнями мостовой, а потом, очень скоро… Знаете, я где-то читал, что уровень океана поднимается гораздо быстрее, чем в прошлом веке. Может быть вода и позаботиться обо всем? Море быстро бы улучшило мир, я уверен в этом. Милый старый Гудзон стал бы внутренним морем. И Долина Могавков. Новая Англия превратилась бы в большой остров, а штат Нью-Йорк — в горсть маленьких островов. И не было бы никого, кто бы мог потревожить змей.
— Эйб, эпидемия чумы в четырнадцатом веке свалила, по-видимому только около половины Европы, хотя это были времена, когда на каждом человеке жили блохи, весьма облегчающие bacillus pestic их работу. Грипп в тысяча девятьсот восемнадцатом году убил больше, чем первая мировая война, однако статистически это вряд ли очень отразилось на человеческой расе.
Он ткнулся лбом в ладони:
— Да они могли бы пойти на употребление водородных бомб, чтобы помочь вещам освободиться от людей. Этот вирус заменит бомбы, он и наступление океана.
— Эйб, я думаю, сейчас, перед концом света, самое время выпить кофе.
Он тяжело вздохнул и поднялся, с вялой улыбкой на губах, вероятно, собираясь с мыслями, а возможно, поддавшись моему требованию только потому, что его больше ничто уже особенно и не беспокоило.
— Хорошо. Давайте, сварю. Я не сбегу.
— Ты имеешь в виду, что уже никогда ни от чего не сбежишь?
Он оглянулся на меня от дверей, наклонился, взявшись за ботинки, и сказал:
— Я бы не рискнул предсказать даже то — я цитирую, — что у младенца будет заячья губа. — Он надел ботинки. — Вы какой любите кофе? Крепкий и черный?
— Достаточно крепкий, чтобы даже на биллиардном шаре выросли волосы.
Мы все еще возились на кухне — а завтрак получился таким, что от него не отказался даже Абрахам, — когда пришла Шэрон.
Я описываю это плохо, потому что у меня нет слов, которыми можно выразить, что случается, когда в дом входит важная персона. Меняется даже воздух. Все вокруг становится таким, каким никогда не было прежде. И если важной персоной оказывается Шэрон, воздух становится пряным и искрящимся, а все вокруг теплеет и переполняется тем, что мы называем надеждой. Думаю, это просто другое имя для желания не умирать… Откуда взять слова, чтобы рассказать истинную правду о том, как можно услышать звонок в дверь, как можно приказать Абрахаму без звука сидеть на кухне? Где найти фразы, чтобы описать как я подхожу у дверям, как вижу перед собой это сияние, одетое в кроличий мех и без шляпки?..
— В любом случае я вхожу, можно? Кто еще может явиться в этакую ранищу?.. Почему я решила, что еще рано? Потому что у вас до сих пор на подбородке яйцо. — Она пинком захлопнула за собой дверь. — Нет, вот тут. — Она вытерла мой подбородок крошечным носовым платком и окончательно сконфузила меня, поцеловав это место. — Просто, чтобы сделать краше бедное яйцо.
Она швырнула куда-то свое пальто или что там на ней было. Она была одета в брюки цвета осенней листвы — их больше не называют слаксами — и хрустящую желтую блузку, и в купе с океанской синевой ее глаз эти цвета казались музыкой. Ныне брюки в моде повсюду, кроме вечерних туалетов. Для толстеньких девушек это, конечно, несчастье, но не для Шэрон… — Закурите мне, Уилл… я имею в виду, дайте мне прикурить… я имею в виду, что не могла не явиться. Вы победили.
— Что-то случилось, раз ты не можешь спать?
Пламя спички высветило устремленные на меня глаза и беспомощную улыбку.
— Вы телепат или что-нибудь подобное? Не то чтобы я ужасно вспоминала… Но я начала вспоминать и вспоминать, остановиться не могла… пожалуйста, Уилл, без ущерба для моего права быть на девять лет старше, а? Но… сведите меня туда, где он живет.
— А стоит ли?
— Ну, так вас и так семь раз, я же не успокоюсь, пока не увижу его. Хотя бы разочек. И вы знали, что я не успокоюсь. Вы говорили он живет в «Зеленой Башне»?.. Мне вроде как не хотелось бы идти туда одной. Ладно, смотрите… — Она расстегнула пуговицу на моей рубашке, набрала полные легкие дыма и, выпустив дым мне под рубашку, отступила, изучая получившуюся картину. — Похоже вот на это, вы… ваш характер. Зажигая людей глупыми идеями, вы должны нести ответственность за последствия.
Я легонько обнял ее за талию, провел на кухню. И почувствовал, как она вздрогнула — меня словно током ударило, — убрал руку.
Абрахам стоял по другую сторону загроможденного тарелками стола. Я увидел, как он развел маленькие смуглые руки, упираясь кончиками пальцев в стол, и услышал небрежно произнесенные слова: — Я бы не смотрел, Уилл, но вы все еще дымитесь.
Я не обратил не его реплику ни малейшего внимания. Шэрон — тоже. Не знаю, как долго они молча стояли, уставившись друг на друга. Наверное, достаточно для того чтобы Вселенная чуть-чуть повернулась вокруг своей оси. Я помню, что поднял ложку и с величайшей осторожностью положил ее на место — лишь бы не нарушить тишину. Ничего так и не было сказано, когда Шэрон обошла вокруг стола. Она подняла руки ко лбу Абрахама и медленно повела ими вниз, вдоль его глаз, щек, рта. Наконец руки ее улеглись на его плечи. Он по-прежнему молчал, но она вдруг заговорила с серьезностью и легким удивлением. Словно ответила на неуслышанный мною вопрос.
— Ну, — сказала она, — неужели ты мог полюбить другую женщину, а не меня?
И тогда я произнес:
— К твоему сведению, Абрахам, мир не рухнет.
Возможно, он и услышал это. Не знаю. Я вышел в комнату, накинул пальто. У дверей посмотрел вниз, пробормотал: «Нет-нет, Элмис, только не в домашних тапках». Туфли стояли около кресла, и я старательно затолкал в них мои старые четырехпалые ноги. Из кухни не доносилось ни звука. Я подошел к лифту, спустился вниз и выскочил на улицу.
Ветер был под стать утру — холодный, но очень свежий и приятный. Когда я прошел уже около мили, я вдруг осознал, что за мной следят. Я поиграл в гляделки с парочкой витринных стекол, но лица шпика так и не рассмотрел. Невысокий человек в малозаметном серо-коричневом одеянии сам суетился возле витрин, всячески отворачиваясь от меня. Я несколько раз свернул на поперечные улицы и обрел полную уверенность, что именно я и являюсь его добычей. В этом не было сомнений — он приклеился ко мне.
Я поднялся на Верхний Уровень Второй авеню, прошел по ней несколько кварталов и, чтобы получить возможность оглянуться, подошел к автобусной остановке. Его не было. Это показалось мне странным — ведь подойди сейчас автобус, соглядатай бы меня потерял. Впрочем, вполне возможно, что его просто поменяли на какого-нибудь другого шпика. Я покинул автобусную остановку и зашагал прочь. Вскоре здесь же, на Верхнем Уровне, мне попалась аптека. Я зашел туда, занял место возле прилавка с газированной водой. Отсюда мне хорошо было видно все поле боя. Однако, пока я там прохлаждался, в аптеку больше никто не вошел. Никто даже в окно не заглянул, за исключением одной, безобидной на вид женщины, которая прочитала меню и двинулась дальше. Я повернулся к дому, но и тогда не обнаружил никаких преследователей.
В общей сложности я проболтался около полутора часов. Небо потемнело, кажется, надвигалась весенняя буря. Было уже за десять, когда я вошел в вестибюль своего дома. К лифту направлялся некто, хорошо мне знакомый: блестящие платиновые волосы, красивая линия бедер. Ничего хорошего. Я схватился за дверь лифта, когда она уже закрывала ее.
— О, чертовски рада видеть вас, Уилл! Какая удача! Я как раз собиралась повидаться с вами.
— Прекрасно. — Я судорожно разыскивал в своих полупарализованных мозгах спасательную соломинку. — У меня дома беспорядок… Могу я пригласить вас куда-нибудь? Позавтракать? Кофе, к примеру?..
— О, что вы, нет! — Она мило захлопала ресницами. — Слишком много беспокойства и… к тому же, я завтракала.
Она нажала кнопку, и кабина лифта начала подниматься. Я мог бы поинтересоваться, откуда она знает, на каком этаже расположена моя квартира. Но не поинтересовался.
— Я ни на что не стану обращать внимание, Уилл… Я знаю, как вы беспомощные мужчины, управляетесь с домом. Все валяетесь где попало…
— Но…
— Да все нормально, не берите в голову! — Она взяла в плен мою руку и положила ее себе на талию. — Просто надо кое о чем поговорить с вами, кое о чем, ужасно для меня важном…
Мириам Дэйн болтала без умолку, но ничего существенного так и не сказала. Когда мы очутились перед моей дверью, я сделал последнюю попытку сбить Мириам с курса:
— У меня там приятель остановился. Он болен и… ну, долго спит. А квартира маленькая. В самом деле, лучше бы мы с вами…
— Не беспокойтесь, Уилл. Я тоже не буду шуметь и только на минутку.
Передо мной была совсем не та женщина, с которой я познакомился у Макса. Каким-то образом она стала старше. На вечеринке у Макса я не заметил в ней стальной решимости. Теперь решимость была налицо, а в стали присутствовал лютый холод. Мириам бросилась болтать и улыбаться, потому что я перестал быть Санта Клаусам. Она посмотрела на меня так, словно собиралась с помощью гипноза заставить мой ключ выскочить из кармана. Ключ не послушался. Я уставился на нее в ответ, явно собираясь позабавиться игрой «Кто кого переглядит». Ее улыбка окончательно умерла. Крошечная туфелька с фальшивым бриллиантом на пряжке принялась постукивать по полу. А потом спокойно и четко, безо всякого притворства, Мириам сказала:
— Мне необходимо увидеть Эйба Брауна.
Значит, они все-таки следили за ними ночью. Следили, но пока ничего не предприняли. Пока еще. По-видимому, были слишком заняты. По-видимому, полиция после смерти Дэниела Уолкера не оставила им свободного времени. Говорят, нью-йоркская полиция за последние тринадцать или четырнадцать лет стала невероятно честной.
— Зачем, Мириам?
— Зачем! — Ее изящный плечи дернулись. — После всего! Мы же помолвлены. И вы это знаете. Я могла бы спросить, какое вам дело до всего этого…
— Он пришел ко мне. Так что это стало моим делом.
— Вот как! Но он совершеннолетний. И его дело — дело партии.
Это была уже открытая война. Я сказал:
— Я все еще хочу знать — зачем?
— Вы не член партии. Какое вы имеете право знать?
— Он тоже не член партии. — Я говорил достаточно громко, чтобы мой голос проник сквозь тонкую дверь.
— Не нужно кричать. — Она продемонстрировала белки своих глаз. — Это ничего не даст, мистер Майсел. Не будьте так упрямы.
— Ладно. Входите. Но не откажите в любезности дать мне возможность заглянуть в вашу сумочку.
— В мою… сумочку?
Вот тут я понял, что она чуть-чуть пользуется румянами: когда кровь отхлынула от ее щек, на них проявились маленькие нездоровые розочки. Ее правая рука рванулась к голубой сумке, но не успела даже открыть защелку: на ней уже лежала моя рука. Если бы Мириам закричала, я оказался бы в щекотливом положении. Но я был уверен, что она не станет кричать, и оказался прав. Она выпустила из руки сумку и отшатнулась, коснувшись пальцами своего великолепного рта.
Я еще раз оказался прав. Он лежал в сумочке. Двадцать второй калибр, похож на игрушку, но вполне серьезная штучка. Как бы там ни было, а я такие штучки ненавижу. Я проверил предохранитель, опустил оружие в карман, а сумочку вернул владелице.
— Я ношу его для защиты, — сказала она, и в голосе зазвучали теперь печальные нотки. — Приходится бывать везде… иногда в сомнительных местах. — В печали появилось чувство собственного достоинства. — У меня есть разрешение на его ношение. Могу вам показать. Оно здесь… где-то.
Пока она рылась в сумочке, слезы не удержались в глазах и докатились до уголков ее рта. По-видимому, они появились непреднамеренно. Потому, что она шмыгнула носом, ее маленький язычок метнулся к уголку рта, а руки все еще суетились внутри сумочки.
— Вы не должны быть такими чертовски придирчивым…
— Оставьте в покое разрешение, — сказал я. — Я верну вам артиллерию, когда вы уйдете. — Я пару раз стукнул кулаком по звонку и с шумом повернул в замке ключ. — Войдете? — И невежливо прошел впереди дамы.
Шэрон с ногами сидела в кресле у окна. Абрахам по крайней мере точно не слышал наших голосов за дверью. Он расположился на полу около нее, полный спокойствия и даже какой-то сонный, и, по-видимому, его ничто на свете не интересовало, кроме руки Шэрон, нежно перебирающей его волосы. Шэрон улыбнулась и пробормотала:
— Знала, что это вы, потому и не вставала. Мы заговорили друг друга до полусмерти, и…
Тут из-за моей спины возникла Мириам и сказала:
— Ох!
Я махнул рукой — этакий туманный человеческий жест, которым я хотел объяснить, что ее появление — не моя вина. Абрахам услышал восклицание Мириам и, открыв глаза, остолбенел. Когда же он все-таки поднялся, Шэрон взяла его за руку, и я заметил, что он ничего не имел против этого. Шэрон была полна решимости, но внешне невозмутима. Как невозмутим хороший артиллерист, готовящийся к решающей битве.
Мириам, вероятно, еще никогда не выглядела более привлекательной, чем сейчас. Она уже выиграла одну битву, битву с собственными слезами: они теперь стояли в глазах, но не скатывались по щекам. Голубые брюки с изысканной отделкой, белый меховой жакет, какая-то крохотная искорка на шляпке, великолепие белых волос — перед нами стояла кроткая, очаровательная, глубоко обиженная девушка.
— Полагаю, мисс Дэйн? — сказала безучастно Шэрон.
Мириам пыталась отделаться от нее одним пренебрежительным взглядом.
— Эйб, у меня нет никакого желания мешать чему бы то ни было, но тебя хочет видеть Билл Келлер. Я имею в виду — немедленно.
— Извини. — Абрахам говорил ровно, болезненно ощущая свои слова, но полностью спокойный в душе. (Я знал это.) — Мне не хочется видеть его.
— Как?!
— Извини, Мириам. Именно так.
Я бессильно прислонился к стене, старик, который может заняться своими делами. Все закончится, как сказал Абрахам. Предстоящие минуты вряд ли будут приятными, но в помощи мальчик явно не нуждался.
— Если увидишь Билла, можешь с таким же успехом передать это и ему. Я не вернусь туда, Мириам, и больше не стану встречаться ни с кем из них.
Не думаю, что Мириам была готова к чему-либо подобному. Она явилась, рассчитывая найти смущенного, легко поддающегося нажиму мальчика. Она уставилась на свои руки, покраснела, побледнела. Она изо всех сил стремилась скрыть предчувствие поражения и растущую панику, которая, я чувствовал, была мало связана с ее отношением к Абрахаму. После нескольких фальстартов она сказала ласково:
Эйб, на свете существует еще и такая вещь как верность.
Или ты не знаешь?
Абрахам кивнул:
— Да, они будут думать обо мне как о мерзавце. И Билл, и мистер Николас, и остальные. Все в порядке. Я и сам думаю так, но свою верность я подарил тому, кому — и я должен был бы знать это — она гораздо нужнее. Я не вернусь к ним, Мириам.
— Существуют и другие верности, мисс Дэйн, — сказала Шэрон. — Вашего лидера Джозефа Макса я бы тоже назвала неверным по отношению к своим парням.
Я не думал, что Мириам сможет долго делать вид, будто не замечает Шэрон. Но надо отдать ей должное — она старалась. Она посмотрела на Абрахама, потом на кольцо на своей левой руке и прошептал:
— И даже ко мне ты не вернешься?
— Люди меняются, — сказала Шэрон.
Но и после этой реплики Мириам не взглянула на нее. Зато заговорил Абрахам, и его слова казались ответом на реплику Шэрон.
— Доктор Ходдинг был уже сломлен, когда партия купила его, — сказал Абрахам. — Не так ли, Мириам? Больной, сбежавший от действительности в пьяный бред, потому что даже та работа, которую он выполнял в «Фонде Уэльса», пугала его, пугала несмотря ни на что. Скажи мне, Мириам: почему организация, которой полагалось быть открыто зарегистрированной политической партией, субсидировала работы по изобретению нового заболевания?
— Ложь! Это невозможно, Эйб!
— Это то, что случилось. — Абрахам покачал головой. Боль плескалась в глубоких тенях его глаз, боль и, может быть, намек на сомнение. — Ты же была там, на крыше, Мириам. Ты же сама сказала мне однажды, что в партии не случается ничего, о чем бы тебе не становилось известно.
— Ты не понял. Мы не знали, что Ходдинг был…
— Не знали!
— Да, не знали. Он… Я могла бы сказать тебе… Ладно, я скажу, хотя и не имею на это права.
Шэрон вдруг посмотрела не свою свободную руку и обнаружила, что та сжата в кулак. Шэрон осторожно расслабила ее и проговорила:
— Да-да, скажите.
Мириам по-прежнему ухитрялась не замечать ее.
— Эйб! Макс только сейчас понял, кем в действительности был Ходдинг, только сегодня утром. Именно поэтому ты должен вернуться. Николас говорит, ты оставался с Ходдингом тет-а-тет, слышал что-то из его бреда. Макс должен повидаться с тобой, услышать все прямо от тебя… Мне кажется, ты очень многим нам обязан. А Билл Келлер болен, Эйб. Он потерял самообладание. Мы все спали, никто из нас, а Билл болен, он не владеет собой, не перестает спрашивать о тебе…
Она так же хорошо, как и я, видела, что он заколебался. Но, по-видимому, она не видела руки Шэрон, а рука говорила больше, чем я мог бы сказать любыми словами.
— Но Билл же никогда не болел…
— Тем не менее он болен! Я как раз пришла от него. О, Эйб, он же так много сделал для тебя… Да никто и не просит тебя браться за какую-нибудь партийную работу. Просто приди и повидайся с ним, поговори. В конце концов он никогда раньше не просил тебя ни о какой помощи…
— Мириам, если он болен, ему вряд ли поможет встреча со мной, поскольку я отверг те идеи, в которые он верит. И ты не сказала мне, что вы собираетесь делать. Что сейчас с доктором Ходдингом?
— Это слишком грязная штука, чтобы рассказывать о ней. — Когда Мириам требовалось благородство, оно было тут как тут. — Не думаю, что твоя нынешняя компания пошла тебе на пользу, Эйб. Ты не возражаешь, если я выражусь подобным образом?.. Ходдинг таков, каким он был всегда, только мы не знали об этом. Ладно, слушай. Тебе вряд ли понравится, а может быть, ты даже не поверишь тому, что мы в конце концов вытянули из этого жалкого сумасшедшего старика…
— А методы? — сказала Шэрон, не обращаясь ни к кому персонально.
Мириам наконец соизволила заметить ее:
— Прошу прощения?
— Интересно, какие методы были применены для получения информации от жалкого сумасшедшего старика?
Конечно, это была война, и Шэрон выбрала такой момент, когда небольшой толчок вполне мог бы вызвать у Мириам истерику. Но не сработало. Мириам, уставившись на нее, прошипела что-то и вновь обратилась к Абрахаму:
— Эйб, если ты способен отвлечь свои мысли от твоих так называемых друзей, слушай… Мы не сделали ничего, что бы не было оправдано крайней необходимостью. Таких людей как Ходдинг не удержишь руками, одетыми в белые перчатки. Я постараюсь рассказать тебе, что он из себя представляет. Мы выяснили… — Голос ее окреп. — Не имеет значения, каким образом… У тебя есть эта слабость, мягкий характер… В любом случае, это не имеет значения. Эйб, последние три года Ходдинг был платным агентом Китая.
Думаю, я рассмеялся. Абрахам — нет.
— Он использовал наши американские возможности, — продолжала Мириам, — чтобы изобрести кое-что для использования в Азии. И дурачил нас своими разговорами о теоретических исследованиях, об исследованиях, которые могли бы иметь гуманитарные цели… Естественно, Макс пошел на это… Макс думал, что Ходдинг работает над ви… ви…
Абрахам стал белым, как мел. Думаю, он тоже понял ее заикание. Он спросил:
— Это будет передано в прессу?
— Конечно! — крикнула Мириам, и это был первый признак надвигающейся истерики. — Конечно, как только будем готовы.
Шэрон оторвала взгляд от своих маленьких, одетых в носки ног и мягко опустила их не пол. Она хотела было что-то сказать, но Абрахам остановил ее.
— И все, что вам теперь надо, это письменное признание, полученное от Ходдинга? — спросил он. — Не так ли?
— У нас оно уже есть, — поспешно выпалила Мириам.
— Тогда вам не нужен я. Мириам, это очевидно.
С наигранным утомлением она сжала лоб рукой:
— Все-таки ты не понимаешь. Как избалованный ребенок. Да еще с новенькой игрушкой. — С тем же наигранным утомлением она обследовала взглядом Шэрон и равнодушно поинтересовалась: — Кстати, кто вы? Или мне не позволено спрашивать?
— Член Федералистской партии.
— А-а, из этих? Я могла бы и догадаться. Да еще этот дешевый неуклюжий шпик!.. — Она смерила меня взглядом с головы до ног. — Сколько вы ему платите, могу я поинтересоваться? Впрочем, неважно. Ну, мисс… мисс…
— Брэнд. Шэрон Брэнд.
— Ах да! Кажется, я уже где-то видела ваш портрет. Вы пишете книжки для детей или что-то в этом роде, не так ли?
Шэрон хмыкнула:
— У-гу! Прекрасные большие книги.
— Ну так можете передать вашим черномазым боссам из Федералистской партии, что в качестве шпика ваш друг Майсел — просто шляпа!
— О-о, тот хвост, который вы мне прицепили сегодня, — сказал я. — А я то еще удивлялся: почему он так легко меня бросил! А он вам звонил, не так ли? Дал вам знать, что я на часок-другой оставил свою квартиру?
Теперь она не замечала меня.
— А ваши методы, кажется, оказались более надежными, мисс… Брэнд? Подбираете объедки с чужого стола, в таком юном возрасте. Да-а, моя ошибка, в самом деле моя, только мне никогда в голову не могло прийти, что Эйб позарится на ребенка. Скорее вы могли бы нуждаться в этом, если бы были совершеннолетней.
Она сорвала с пальца кольцо и неуклюже швырнула его на пол. Шэрон даже не взглянула на него, лишь чуть отдернула в сторону ногу, и кольцо закатилось под кресло.
Даже после того как Мириам совершила этот театральный жест, у нее, похоже, все еще оставалась слабая надежда на успех. Впрочем, теперь эта надежда умирала. Мириам умоляюще тянула к Абрахаму руки. И хотя я практически не сомневался в исходе, я вдруг обнаружил, что затаил дыхание: у Мириам был талант.
Окончательно ее надежда была убита отнюдь не холодным спокойствием Абрахама. Было в нем еще что-то, нечто, вдруг замеченное мной, хотя, думаю, он и старался скрыть это. Мириам тоже должна была заметить переполнявшую Абрахама жалость. И заметила.
Я услышал ее бурное дыхание и увидел, как ее руки рванулись к сумочке. Шэрон вскочила. Если бы Мириам открыла сумочку, думаю, Шэрон заслонила бы Абрахама своим телом. И вряд ли бы он успел воспрепятствовать ей. Но Мириам уже вспомнила, где находится оружие, — руки ее замерли на полпути. Она отвернулась, бессильная и жалкая.
— Я передам… твои слова Джо Максу, — прошептала она.
Меня заинтересовало то, что она произнесла «Джо Максу» только теперь.
— Эйб, — пролепетала Мириам, — ты совершаешь ужасную ошибку.
Слава Богу, Абрахам ничего не ответил. Мириам медленно прошла мимо меня, не взглянув в мою сторону и, вероятно, даже не вспомнив о пистолете. Впрочем, я бы все равно не вернул его. Дверь за нею закрылась бесшумно.
Руки Шэрон крепко и нежно обвились вокруг Абрахама.
— Уилл, — сказала она через плечо, — Уилл, солнце в самом деле уже поднялось или мне только кажется?
12 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ, НОЧЬ, НЬЮ-ЙОРК
Сегодня Шэрон ездила с нами за город. Получилось нечто вроде полуимпровизированного пикника. Но не побег, хотя Шэрон могла бы подумать об этом именно так. Весна нынче пришла раньше, чем обычно. Ночью прошел небольшой дождик, и земля была умытой, ароматной и податливой. Мы нашли в лесу великолепный зимний аконит и первые белые фиалки, спрятавшиеся в укромных местах, между камнями.
Мы с Эйбом взяли напрокат машину, а Шэрон, вместо того чтобы заставить нас колесить по Бруклину, встретилась с нами возле одной из станций метрополитена, находящегося в жилой части города. Мы не рискнули воспользоваться робби-роудом, переехали через старый мост и двинулись по одному из самых красивых шоссе северного Джерси, пока не достигли скромной дороги, обещавшей привести нас в Рамапо. Нас было трое, и по невысказанному соглашению на протяжении всей поездки мы ни словом не обмолвились о том, что произошло или могло произойти два дня назад в «Зеленой Башне».
Похоже, для того чтобы размышлять об основных бедах человечества, необходима дистанция. И побольше, чем марсианская. Когда черные крылья рассекают воздух рядом с вами, они затуманивают ваш взор. И будь вы марсианин или человек, вам надо смотреть вдаль — не ради надежды или притворства, а потому, что ваше сердце заявляет: «Я не готово». А может быть, оно говорит: «Это не нужно. Это могло бы быть по-другому». Тот пилот над Хиросимой… Мог ли он взглянуть вниз?
Разумеется, в весеннем лесу не было ничего, что напомнило бы нам о беде.
После визита Мириам люди Макса нас больше не трогали. Не было слежки, когда мы с Абрахамом искали гараж по прокату автомобилей. Никто не последовал за нами, когда мы свернули с шоссе. Шэрон прихватила корзину с ленчем, было у нас и вино — прекрасное вино «Catawba», откуда-то из ласковой озерной страны.
Я мог бы не обращать внимания на уродливость взятой на прокат машины. Я мог бы позабыть о нашей дерьмовой американской одежде и представить, что мы находимся в… да не важно где! Вероятно, там имелись гористые острова, в той стране, где когда-то, давным-давно, человеческая жизнь была приятной для изучения… Во всяком случае, именно это утверждали Феокрит, Анакреонт и другие. Пан[53] никогда не умирал. Он бодрствует и дует в свою свирель везде, где земля и лес, поле и небо сходятся вместе и создают гармонию для идиллического сына Гермеса.
Дрозма, я часто вспоминаю вашего прадедушку, думаю о том, как он собирал и переписывал рукописи своего прадедушки, знавшего Древнюю Грецию, и это поистине было тогда, когда солнце находилось в зените. Те рукописи могли бы быть опубликованы, если Союз когда-либо станет возможен. Этим днем я старался представить себе Союз, но это видение заслонялось другой картиной — изящной маленькой пробиркой, наполненной зеленым порошком.
Я смотрел на Абрахама, с удобством растянувшегося на земле и положившего голову на колени Шэрон. Он сказал:
— Уилл, я начинаю уверять себя, что это вовсе не обязательно должно случиться. Ведь существует и счастливый исход, правда?
— Исход…
— Да-да, ведь изобретение Ходдинга вполне может оказаться и не таким могущественным, как ему предоставляется. Возможно, оно и не так легко распространяется и не так живуче за пределами лаборатории. Или, скажем, пробирка упала в реку и, не разбившись была унесена в море.
— В бреду Ходдинг ничего не упоминал об инкубационном периоде?
Я задал этот вопрос, вовсе не желая услышать ответ.
— Нет, я не слышал, — сказал он и вновь окунулся в надежду: — Вдруг ее унесло в море… Но ведь пробка когда-нибудь выскочит и… — Надежда умерла. — Боже, что будет? Жизнь морских млекопитающих… Рано или поздно это вернется назад, на…
— Не вернется, — сказала Шэрон и положила ладонь ему на глаза.
— Ладно, этого не случится, — согласился с нею Абрахам. — Что касается сегодняшнего дня, этого не случится.
Шэрон наклонилась так, что ее волосы коснулись его лица, и прошептала ему какие-то слова, не предназначенные для моих ушей. Нет сомнения, что-то произошло в течение часа, когда они, оставив меня в созерцании, весьма смахивающем на человеческую дремоту, гуляли по лесу. Когда цивилизация выпускает их из своих когтей, они становятся очень нежными, нормальными детьми. К тому же, способность общаться без слов весьма пригодится им, если окажется, что впереди у них целая жизнь, а не оставшиеся до мировой катастрофы несколько прекрасных мгновений. Мне кажется, мысли Абрахама следовали тем же путем, что и мои, потому что он вдруг сказал:
— Уилл, если допустить, что с той штукой, которую бросил Уолкер, ничего не случилось… если допустить, что впереди у каждого из нас еще лет сорок-пятьдесят… Так вот, как насчет моих сорока-пятидесяти? Я имею в виду работу. У нашей голубоглазой леди таких проблем нет: она уже знает, чем ей заняться. И мне кажется, подобных проблем нет у большинства людей: некоторые имеют полную ясность относительного своего призвания, подавляющее же большинство думают о работе как о неизбежной неприятности, как о чем-то, с чем им не по дороге, но приходится играть в эту игру, если уж не удалось открутиться от нее вообще… Мне это не подходит, если у меня и есть призвание то, черт возьми, складывается впечатление, будто меня зовет с собой сразу сотни голосов. Локомотив без рельсов… Вы как-то говорили мне, что брались за многое, что пытались заниматься самыми различными вещами. Хоть когда-нибудь вам попадалось дело, которым действительно хотелось бы заниматься? Дело, по сравнению с которым все остальное выглядело всего лишь прологом?
Ответ был утвердительным, но я не мог сказать коротко. Заставив себя вернуться в систему человеческих намеков — и опрометчиво, — я заявил:
— Мне нечего предложить, кроме изъеденной молью банальности: найди то, что можешь делать лучше всего, и остановись на нем. Поиски могут занять какое-то время. Вот и все.
Он улыбнулся:
— Да, но как бы моль тут не сломала зубы! Ведь это путь проб и ошибок? И в основном, ошибок?
— Возможно. В двенадцать ты был озабочен тайнами, в которые мы любим погружаться, распутывая узелок, именуемый этикой. — Да. — Он долго смотрел на меня, и его темные глаза подернулись дымкой. — Да, мне это нравилось.
— И?..
— Да, нравится и сейчас. Вот только узнаЮ все дольше, а понимаю все меньше. — Через какое-то время ты отработаешь метод, называемый синтезом, который тебя удовлетворит. Годам к тридцати, если тебе улыбнется удача.
— А если перевести озабоченность этикой в более привычные термины?
— Учить. Писать. Проповедовать. Действовать, хотя действие всегда опасно.
— Всегда ли? — сказала Шэрон.
— Всегда! Разве только сможешь отвести возможные последствия на достаточно приличную дистанцию. Иногда это возможно. А если не сможешь, то жди ответных, испытанных временем действий… В общем, в любом случае — страдание, так как обыватель всегда заявит: стало еще хуже.
— Не знаю, — сказал Абрахам, — думал ли я когда-либо, что у меня достаточно знаний, чтобы действовать.
— А если нет, то всю свою жизнь учись и иногда говори, коли уверен, что тебе есть что сказать.
Он усмехнулся и бросил в меня горсть сосновых иголок. Шэрон сжала руками его голову и без особой игривости помотала ее из стороны в сторону.
— Я бы хотела пригласить тебя сегодня вечером ко мне. Ты еще не встречался с мамой Софией. — Я видел ее лицо, а он нет. Она думала не только о «маме Софии», но и о рояле. — Эйб, сколько времени прошло с тех пор, как ты что-нибудь нарисовал?
Он заколебался, насупился, и она принялась пальцем разглаживать его брови. — Совсем немного, Шэрон.
— Может быть, — предложил я, — это недостаточно хорошо сочетается с озабоченностью этикой?
— Может быть. — Он был удивлен и заинтересован. — Можно проповедовать с помощью масляных красок, но…
— Разве? — сказала Шэрон. — Пропаганда — плохое искусство.
— А ты не думала о языке музыки?
— Нет. В музыке такой проблемы просто не существует. Вряд ли вы начнете искать в музыке пропаганду. Разве что ваша голова совсем протухла.
— Да. Но в живописи… Ну, Домье, Гойя, Хогарт…
— Они живы, — сказала Шэрон, — потому что они были прекрасными художниками. И даже если бы их социальные идеи оказались не слишком популярными в двадцатом веке, их произведения от этого не изменились бы. Челлини был мерзавец. Благочестие Блейка и Эль Греко практически не встречается в наше время. А их произведения живут.
— Думаю, ты права, — сказал Абрахам, немного помолчав. — Думаю, Уилл тоже прав. Живопись — не лучшее занятие для испорченного моралиста, выпущенного из исправительной школы.
Шэрон вздрогнула и стиснула пальцы, но Абрахам по-прежнему улыбался. Мне показалось, я понял то, чего не поняла она. Я сказал:
— Эйб, впервые слышу, как ты говоришь о прошлом без горечи.
Он повернул голову и почти весело взглянул на свою возлюбленную. Мне показалось, что этим взглядом он пытался напомнить ей о каких-то словах, которые по-видимому, были сказаны раньше.
— Думаю, у меня больше нет горечи, Уилл.
— И даже по поводу доктора Ходдинга и людей, купивших его?
— Прыгнул на колесо, — пробормотал Абрахам. Словно почувствовав, что Шэрон в этот момент нуждается в защите, он спрятал ее голову у себя под мышкой и принялся целовать ее волосы.
— Ну, теперь мальчик стал буддистом,[54] — сказала Шэрон.
— Конечно, Буддистом, даосистом, конфуционистом, магометанином…
— Момент! За двумя зайцами погонишься — ни одного…
— Ха! Магометанином, христианином, сократистом, индуистом…
— О'кей. Тяжело девушке спорить в воскресный день, и все же я заявляю…
— Ты привыкнешь к этому, — сказал Абрахам. — Мы обходимся без масок. Это означает, что тебе придется снимать туфли, когда ты будешь проходить через дом, чтобы добраться до священного дерева на заднем дворе.
Я сказал:
— Ты забыл митру.[55]
— Вход для лавочников, — отозвался Абрахам. — Не забудем и греческий Пантеон, который может пользоваться парадным входом в любое время. — Он показал мне язык, ненамного выросший за прошедшие годы. — Синкретизм[56] все еще в Северном Джерси! Уилл, наша бутылка жива?
Мы расправились с ней без помощи Шэрон, которой не хотелось шевелиться. Однако Абрахам, казалось, только протрезвел. Он долго смотрел на меня поверх головы дремлющей Шэрон и наконец спросил:
— То зеркало по-прежнему у вас?
— Оно всегда со мной, Абрахам. И я так и не простил себе, что позволил тебе тогда посмотреть в него.
Шэрон взглянула на Абрахама, в глазах ее стоял немой вопрос. — Я много раз смотрел в него с тех пор.
— И что видели?
— Ну, если ты терпелив и много-много раз покрутишь его так и этак, то как правило сумеешь обнаружить в нем нечто похожее на правду, которую ищешь. Большинство людей сказали бы, что перед ними всего лишь искривленная бронза, а все остальное — плоды воображения. Я бы не сказал ни да, ни нет.
— Что за зеркало? — сказала Шэрон сонным голосом.
— Просто вещица, которую я везде таскаю с собой. Можешь назвать ее талисманом. Мне подарил ее много лет назад один археолог. Маленькое ручное зеркальце с Крита. Говорят, Шэрон, ему около семи тысяч лет.
— А в конечном счете, дорогая, чрезвычайно современная штучка.
— Угу, — сказал я. — Но если вы интересуетесь этикой, вам, возможно, придется делать и кое-что похуже, чем мыслить терминами геологического времени. В общем, Шэрон, ты не сможешь обнаружить на отражающей поверхности никаких волн или дефектов, но что-то там должно быть, потому что эта чертова вещь никогда не показывает одного и того же дважды. И я бы не хотел, чтобы ты смотрела в него, не подготовившись. Обычно оно показывает лицо совсем не таким, каким его видят другие люди. Может, оно покажет тебя очень старой, а может, совсем ребенком. Необычной. Такой, какой ты никогда себя не считала… И кто скажет, есть ли в этом хоть доля правды? Трюк. Игрушка.
Я замолк и не сделал ни малейшей попытки достать зеркало. Тогда Шэрон положила голову на плечо Абрахама и сказала:
— Уилл, не будьте вы таким чертовски благородным.
— А я и не благороден вовсе. Просто несколько лет назад я понял, что человеческая натура — все равно что бензиновые пары в мире, полном зажженных спичек.
И тут Абрахам сказал, спокойно глядя мне прямо в глаза:
— Уилл, мы не испугаемся.
Я отстегнул зеркало от крепления, спрятанного под рубашкой, от того самого крепления, на котором держаться обе мои гранаты: старая и новая, присланная Снабженцем взамен использованной. Достав зеркало, я вложил его в руку Абрахама. Стоя бок о бок, они обратили к нему свои юные лица. Впрочем, не такие уж и юные. Двадцать один и девятнадцать. Но кроме некоторых темных мест, которые никогда не смог бы выявить даже я, Двадцать Один нащупал свою дорогу незапачканным, а Девятнадцать была взрослой, гордой и скромной жрицей в деле, которое, возможно, является величайшим из искусств.
И вдруг я ощутил, Дрозма, тот покой, по которому мы, Наблюдатели, узнаем, что конец миссии не за горами. Слова Абрахама оказались не совсем верными: все-таки они испугались. Но это было, в общем-то, неважно. Главное заключалось в другом: какое бы чувство эти двое ни испытывали — испуг, шок, изумление, разочарование, — оно не заставило их отвернуться от зеркала. Я не знаю, что они в нем увидели. Они оба четко умеют выражать свои мысли. Однако увиденное находилось за пределами ограниченного мира, выражаемого словами. Лишь по сменяющим друг друга эмоциям на лицах — недоумению, восторгу, ужасу, обиде, иногда смеху и часто нежности — я мог догадаться о том, что они там видят. Да и догадаться я мог настолько, насколько имел хоть какие-то права знать. Когда Абрахам вернул мне зеркало, я ничего не спросил. Улыбнувшись той самой, полусонной улыбкой, которую я помнил с достопамятного летнего дня на кладбище в Байфилде, Абрахам сказал:
— Что ж, оказывается, мы — люди. Правда, я подозревал об этом и раньше.
— Да, люди. И ты, и создатель зеркала, и Мордекай Пэйкстон.
Он осклабился и мягко проговорил:
— О-го-го, Мордекай!.. Как думаете она спит?
— Не полностью, — сказала Шэрон.
Думаю, она промурлыкала именно эти два слова. Перед тем как убрать зеркало, я кинул в него взгляд. И ничего не увидел.
Я не увидел в нем себя, Дрозма.
Понимаете ли вы, мой второй отец, что это такое — заглянуть в зеркало и увидеть там только шевелящиеся за твоей спиной деревья да чистое небо? Впрочем, был там и куст малины, и подлесок, отделяющий поляну от леса, в котором угадывалась тайная птичья возня. Были и клены с недавно проклюнувшимися почками, и сосны, и далекие клочья белых облаков. Вот только меня не было… А вы могли предвидеть, что в этот момент не ощутишь никакой боли? Во всяком случае, той самой, привычной, длящейся весь день и всю ночь, с которой и мы, и человечество должны жить из-за того, что смертны. И мы живем с нею, обретая нечто вроде музыкального сопровождения, мало чем отличающегося от ночных любовных песен древесных лягушек или дневных арий майских мух… А знаете ли вы, что я оказался в состоянии улыбнуться, осторожно спрятать зеркало, потянуться — совсем как человек! — и напомнить Шэрон, что нам следовало бы отправляться домой?
— Уилл прав, — сказала Шэрон. — Я не хочу, чтобы мама София попыталась бы приготовить себе ужин…
На этот раз мы рискнули окунуться в лабиринты Бруклина. Шэрон взяла на себя обязанности гида и делала вид, будто это совсем не сложно. В квартире Шэрон я увидел другого Абрахама, о котором знал, но с которым наяву никогда не встречался. В его поведении по отношению к Софии Уилкс были очевидны нежность и предупредительность, причем не было ничего похожего на свойственную юности снисходительность. София ему понравилась, и он нашел наипростейший путь, как сделать это ясным. Она «посмотрела» на его лицо своими пальцами, и «взгляд» этот слегка затянулся — возможно, из-за певучих ноток в голосе Шэрон. Я не знаю, что София обнаружила в лице Абрахама, но она вдруг улыбнулась. Это она-то, редко улыбающаяся даже тогда, когда ей было смешно!..
После ужина, когда Шэрон и Абрахам удалились в кабинет, я заговорил с Софией об Абрахаме. Большинство из заданных ею вопросов таили в себе скрытый смысл: ее больше интересовал его характер, чем какие-то жизненные обстоятельства. И я рассказал ей только то, что могла бы рассказать мне о мальчике, жившем когда-то в Латимере, Шэрон. София не встречалась с ним в те времена, только слышала о нем после его исчезновения, да и то со сбивчивых слов убитой горем десятилетней девочки. Я внимательно следил за своим голосом, но опасения, что София сумеет связать Майсела со смешным старым псевдополяком, жаждущим поставить себе памятник, остались напрасными: ее мысли витали совсем в другом месте, а памятником Бенедикту Майлзу была ее собственная память.
— Должна ли артистка выходить замуж, мистер Майсел? Я-то вышла, но только после того, как поняла, что эти высоты не для меня… К тому же, мой муж тоже был учителем. Шэрон — это пламя и увлечение. Знаете, последние семь лет она занималась не меньше, чем шесть часов в день, а иногда и по десять-двенадцать.
Я пробормотал нечто приемлемое о том, что это, мол, конкретная проблема каждого конкретного артиста, одна из тех, решить которые может только лично сам артист. Мой ответ был столь же правдив, сколь и приемлем, но ведь София прекрасно знала все это и без меня.
Мы с сестрой никогда не заставляли ее. Был год, мистер Майсел… Ей исполнилось пятнадцать, уже после того, как она стала жить с нами… Она вставала из-за рояля, не зная, где находится. Однажды моя сестра увидела, как по дороге в спальню Шэрон ошиблась дверями, потому что она вообще не была в комнате, вы понимаете?.. Она была в каком-то другом месте, думаю, вы понимаете… в каком-то месте, где, кроме нее, не было никого. Мы с сестрой были напуганы в тот год. Это уже слишком, подумали мы… Мы никогда не подгоняли ее, а иногда и пытались сдерживать, но сдержать ее было невозможно. Страхи оказались глупыми, понимаете? Такое пламя никогда не может умереть. Только маленькие огоньки, которые… Ой!
В кабинете заговорил рояль.
— Нет, — сказала София. — Нет, это не Шэрон. Зачем он?..
Я поспешил объяснить:
— Он учится. Что-то толкнуло его к музыке. Возможно, он реализует себя и еще в чем-нибудь, очень скоро.
— Я понимаю.
Не уверен, что она и в самом деле поняла, но радости у нее доносящиеся из кабинета звуки не вызывали. Абрахам играл мрачную Четвертую прелюдию Шопена, играл почти точно, достаточно музыкально и с некоторым пониманием. Я пробормотал, что сейчас вернусь, и вошел в кабинет как раз в тот момент, когда Абрахам закончил. Я увидел его вопрошающий взгляд. Во взгляде этом была усмешка, насколько искренняя, не знаю, но думаю, что скорее всего за усмешкой он прятался от истины. Я заметил также, что Шэрон чуть-чуть качнула головой — думаю, непроизвольно. Впрочем, она тут же постаралась смягчить свою реакцию, сказав:
— Ничего. — Потом она шагнула к нему за спину, обвила руками шею Абрахама, почти коснувшись губами его уха. — Ты действительно хочешь этого, Эйб?
— Не знаю.
— Это чертовски неровно… Ну, ты и сам знаешь. И я не думаю, что тебе хотелось бы заниматься этим для собственного удовольствия… Если бы так, это было бы хорошо, но, насколько я тебя знаю, Эйб, с помощью музыки ты хотел бы отдавать. — Она помолчала. — Музыка отнимает по восемь часов в день в течение нескольких лет, и все равно может ничего не получиться. — Она взглянула на меня поверх его головы, и во взгляде ее был испуг. — Это может лишить тебя возможности заниматься… ну, вещами более стоящими, вещами, которые ты можешь делать гораздо лучше.
Да, она была ужасно испугана, и я бессилен был ей помочь.
Но Абрахам сказал:
— Думаю, это было нервное возбуждение, Шэрон. Думаю, я ощущаю некую приятную холодную испарину на своем челе. — Его губы кривились, но он пытался улыбаться. — Сделаешь для меня кое-что?
— Все что угодно, — сказала она, почти плача. — Все что угодно, сейчас и всегда.
— Просто сыграй ее так, как должно быть.
— Ну, нельзя сказать, что должно быть именно так. Но я сыграю, как могу.
И она, разумеется сыграла. Было бы просто безжалостно — сыграть что-нибудь хуже, чем она могла, потому что он сразу бы понял это. Однако не знаю, много ли других людей сумели бы почувствовать это в подобный момент. Я знавал немало пианистов — и людей, и марсиан. Всех их без труда можно разделить на две группы: Шэрон и все остальные. В любом случае я всегда эту прелюдию терпеть не мог. Шэрон с довольно безнадежным видом подмигнула мне и немедленно исполнила следующую прелюдию, ля мажор, окрашенную в юмористические тона. Это была Седьмая, но безо всякого намека, а просто потому, что за предыдущей обязательно должно было последовать еще что-то. Четвертая просто не могла повиснуть в воздухе.
— У меня в этом храме особый уголок, — сказал Абрахам, поцеловав Шэрон в лоб, и вложил ей в губы зажженную сигарету. — Уголок, в котором наилучшая слышимость… Напоминай мне время от времени, чтобы я тебе говорил, что у тебя курносый нос.
— Ты н-неравнодушен к вздернутым носам?
Я вернулся к Софии Уилкс…
Едва мы отправились домой, у Абрахама появилась необходимость поговорить со мной. К счастью, автомобиль — один из тех хитроумных человеческих механизмов, которые не вызывают у меня благоговейного страха. Пока он находится на земле, я чувствую себя в нем, как дома. Не думаю, что когда-нибудь сяду в плэйн-кар, который они сейчас испытывают. У этой чертовой штуки есть складывающиеся, словно у жука крылья. Предполагается, что они должны раскрываться при семидесяти милях в час. А в придачу — убирающийся пропеллер. Этакая неторопливая штучка!.. Находясь в воздухе, она будет давать свыше трех сотен миль, но они, думаю, сумеют управляться с ней. Приятно, конечно, в особенности, для детишек, озабоченных поисками нового способа сломать свои шеи… Пробираясь по тихим мрачным улочкам, которые к полуночи становятся совершенно пустыми, я был способен слушать Абрахама, не особенно заботясь о выполнении функции водителя. Абрахам хотел поговорить об исправительной школе, даже не столько хотел, сколько стремился удовлетворить возможные, еще не заданные мною вопросы.
Попав туда, он ушел в себя, замкнулся. Было несколько ребят, с кем он «дружился», но «дружение», сказал он, всегда было омрачено чувством, что ничто не может продолжаться слишком долго. Я ляпнул какую-то банальность, намекая на то, что человеческое развитие имеет много общего с развитием насекомых: старые куколки выбрасываются в груду хлама и выращиваются новые.
— До сих пор, — сказал он, — как большой клоп, я помню о более ранних формах своего клоповника лучше, чем скажем, долгоносик.
И он принялся сочинять достаточно ужасные и замысловатые каламбуры, по ходу дела выведя слово «воспитанник» из слова «куколка».[57] Из уважения к нашей марсианской общине я не стану воспроизводить прочие его лингвистические изыскания. Потом он рассказал мне о том, как приходят и уходят «заблудшие» мальчики. Это была большая школа, Ставившая во главу угла, я думаю, чуткость и совесть. Мальчики были всех сортов: болезненные, слабоумные, большинство — так называемые нормальные и даже несколько весьма смышленых. Они создали отгородившееся от внешнего мира сообщество, но Абрахаму казалось, что между собой у них было очень мало общего, кроме разве что смущения. Даже ожесточение было в некоторых из них на удивление слабо выраженным. Воевали они чаще друг с другом, чем с начальством. Насилие при этом, как он заметил, применялось, в основном тайно. Дисциплина была достаточно жесткой, и школа предпринимала серьезные усилия, чтобы избавиться от хулиганов или обломать им зубы.
— Я носил нож, — рассказывал Абрахам. — Никогда не мог им воспользоваться, а это надо было делать. Знаете, словно знак принадлежности к сообществу. Новичка несколько раз подвергали избиению, затем кто-нибудь, обнаружив, что он научился носить нож и говорить на принятом в обществе языке, заступался за него, и новичка оставляли в покое. Мне удавалось доставать кое-какие книги. А в последние два года даже удалось устроиться на работу в так называемой библиотеке. Избиение новичков, помимо физического воздействия, было еще и чем-то вроде… ну, обязательного ритуала… Кстати, у всех было одно общее и кроме смущения. Я бы назвал это комплексом «никто-меня-не-любит». Те, кого навещали родители чувствовали себя хуже всех. Но и остальные воображали или старались вообразить, что о них никто никогда не заботился. Меня не проведешь, Уилл, так поступало большинство, но об этом не говорили. Сказать — значило бы признать, что считаешь виноватым и себя самого, а это было уже слишком. Ты должен был верить, что никому не нужен, что ты изгнал из обычного мира. Школа парадоксов. И возможно, это была не такая уж плохая подготовка к тому, что ждало нас за ее пределами. Знаете, Уилл, эти старые школьные связи… — Он усмехнулся. — Бывший питомец Браун вспоминает золотые деньки. — В последней его фразе не было и намека на горечь. — Уилл, хотел бы я знать, есть ли что-либо, способное вывернуться на изнанку и вмазать себе по зубам так, как это умеет человеческая душа…
— Не знаю. Ты когда-нибудь участвовал в избиении новичков?
Он ответил с потрясающим добродушием:
— Вы могли бы и сами догадаться.
— Угу… Ты никогда не делал этого.
— Почти правильно. Я никогда не участвовал в избиениях, но и никогда не имел сил попытаться воспрепятствовать. Кроме одного раза.
— И что?
Он закатал левый рукав и в свете лампочек приборного щитка показал мне руку. От локтя к запястью тянулся белый шрам.
— Я горжусь этим клеймом. Оно напоминает мне о том, что однажды у меня хватило силы духа, и случай тот меня кое-чему научил. — В его голосе не было ничего, кроме задумчивой безмятежности. — Я понял следующее: даже если ты горилла, все равно не вмешивайся в развлечения шимпов. — Он помолчал и добавил: — Грубое обращение — именно то, что портит всю систему, исправительные школы, тюрьмы, четыре пятых уголовного права. Лечить излечимых там, где они могут заразиться от неизлечимых, — это что угодно, только не гуманность. Это то же, что теребить рану и наслаждаться причиняемой при этом болью. — Он говорил не столько мне, сколько себе. — Из всего, что я прочел, Уилл, можно сделать вывод, что просвещенные люди, обладающие жизненным опытом, вбивали эту идею в умы на протяжении уже по меньшей мере сотни лет. Можно ли рассчитывать, что закон подхватит их идеи хотя бы в следующем веке?
— Сначала должна появиться несуществующая ныне наука о человеческой натуре. Я не порицаю закон за то, что на него не накладывает отпечаток борьба терминов, называемая нами психологией. Некоторые фрейдисты не могут не слушать некоторых бихевиористов[58] и наоборот. У нас есть зачатки науки о человеческой натуре, но развитие ее чрезвычайно затруднено, потому что до смерти пугает людей. Для греков было в порядке вещей сказать: «Познай самого себя» — но много ли людей отважилось бы на это, даже если бы у них имелись средства?
Я говорил главным образом потому, что надеялся: он продолжит разговор, пойдет тем путем, который выберет сам. Я думаю, ему было что сказать, но остановился мир.
Мое ли тенденциозное ощущение истории, Дрозма, стало причиной того, что я использовал для такого события, как это, избитые человеческие фразы?
Впереди, в половине квартала от нас, шагнул с тротуара на мостовую какой-то человек. Мы двигались по хорошо освещенной и тихой улочке недалеко от въезда на мост. Позади меня не было никаких машин, лишь далеко впереди, квартала через два, подмигивал красным фонариком одинокий автомобиль. Сколько угодно времени. Не требовалось никакой спешки. Моя нога спокойно нашла тормоз. Мы двигались не слишком быстро, и опасности сбить человека не было. А человек, между тем, опустился на колени, заливаемый светом фар моей машины и оранжевым сиянием натриевых уличных фонарей. Я полностью контролировал ситуацию и аккуратно остановился в пяти-шести футах от неизвестного. Он стоял на коленях боком к нам. Когда машина затормозила, он даже не повернул головы, лишь поднял руки к подбородку, словно пребывал на воскресной молитве. Потом руки его вяло опустились, и пальцы левой принялись исполнять оживленный танец, как будто неизвестный пытался схватить воздух над своим бедром. Его челюсть отвисла, и он, качнувшись, попытался подняться на ноги. Я заставил себя выбраться из машины и подойти к нему. Едва я приблизился, он повалился вперед. Я сумел подхватить его и осторожно уложил на спину, не позволив его голове удариться об асфальт. Это был невысокий пожилой мужчина, чистый и прилично одетый. Своим маленьким вздернутым носом и блестящими немигающими глазами он напоминал мне воробья. Его щека была жутко горячей. Я встречался с подобным жаром только однажды, давным-давно, когда один мой приятель-человек умирал от малярии. Думаю, мужчина пытался что-то сказать, но уже не подконтрольные его мозгу горло и язык родили долгое «У-у-ах-х». Словно последний вздох. Но удушья не было. Некоторое время его сверкающие глаза, сознательно сфокусированные на мне, смотрели твердо и непреклонно. Он явно что-то хотел сказать.
Я поднял голову и посмотрел на Абрахама, тоже притронувшегося к этому горящему телу. А вот нам двоим сказать было нечего.
16 МАРТА, ЧЕТВЕРГ, НОЧЬ, НЬЮ-ЙОРК
Первые газетные сообщения о бедствии появились только сегодня. Прошлым вечером, в десять часов — спустя всего лишь одну короткую неделю после того, как я впитывал душой чудеса, создаваемые Шэрон, — прозвучало бессвязное выражение тревоги по радио. Мы с Абрахамом слушали его и слышали в голосе диктора сдерживаемую истерику, как будто в коротких паузах между его сбивчивыми словами кто-то пощипывал туго натянутую проволоку. Было-де «несколько» случаев того, что может оказаться новым заболеванием, сказал он. В Кливленде, Вашингтоне, Нью-Йорке и на Западном побережье. Медицинские круги заинтересованы, хотя «явных» причин для тревоги нет.
— Западное побережье? — удивился Абрахам.
Диктор поспешно обратился к наиболее свежей жизненной информации — о крахе брака видеозвезды с известным борцом.
— Авиация, — пояснил я. — Париж и Лондон всего в нескольких часах полета отсюда…
Абрахам принес мне выпить. Мы не могли говорить, ни читать. Он почти весь вечер просидел возле меня, в сумрачной маленькой комнате, которая более чем когда-либо казалась мне похожей на хорошо меблированную пещеру в джунглях неизвестности. Нас преследовали одни и те же мысли, и мы ода прекрасно понимали панику, царящую в душе друг друга. Снова и снова мы пытались поймать по радио новости, но в них не было ничего, кроме повседневной трескучей мешанины из тривиальностей. Ближе к ночи Абрахам позвонил Шэрон. Их разговор представлял собой обычное воркование влюбленных с вопросами типа «Чем ты сейчас занимаешься?» — и поскольку он не упомянул о сообщении, прозвучавшем по радио, я сделал вывод, что она ничего не слышала. Повесив трубку, Абрахам сказал:
— Я не мог…
Три дня, прошедшие с воскресенья, позволили нам мало-помалу вернуться к хрупкой соломинке надежды. Тот человек, которого мы нашли на улице… Ведь это могла быть пневмония или дюжина других причин. Так мы сказали друг другу тогда и повторяли эти слова в течение последующих трех дней. Вызванная Абрахамом «скорая помощь» прибыла очень быстро. Врач задал нам несколько обычных вопросов. В глубине души он, казалось, был обеспокоен, но в вопросах его беспокойство ничем не проявлялось. Затем упавшего человека увезли. Я чуть было не спросил молодого врача о других похожих случаях, но решил попридержать язык. Вернувшись домой, мы с Абрахамом начали перекидываться друг с другом фальшивыми словами. Мы оба знали, что эти слова насквозь фальшивы, но ничего не могли поделать: они нас успокаивали, и это мнимое спокойствие казалось нам самым главным в жизни.
Этим утром «Таймс», как обычно, представила самое лучшее и самое рассудительное, основание на фактах сообщение, предложив с достаточно ужасающей сдержанностью статистические данные. Пятьдесят случае госпитализации в нью-йоркском столичном районе, из них шестнадцать смертей. В Чикаго зарегистрирован двадцать один случай, шесть смертей. Новый Орлеан — 13 и 3. Лос-Анджелес — 10 и 3. Это на четвертый день с воскресенья на шестой с пятницы. Первый зарегистрированный случай произошел с домохозяйкой из Бронкса — в воскресенье утром. Умерла она днем в понедельник.
«Таймс» опубликовала заявление АМА[59] — заболевание
«походит на необычно опасную форму гриппа, с некоторыми нетипичными особенностями. Общенациональные медицинские ресурсы отмобилизованы на случай крайней необходимости. Повода для беспокойства нет».
Цитата точна.
«Таймс» описывала события, по-видимому, без расчета на сенсационность. Первые симптомы — как при обычной простуде: насморк, легкий жар, общее недомогание. Через несколько часов резко подскакивает температура, развивается глухота, сопровождаемая сильным шумом в ушах, происходит изменение ощущений вкуса и запаха. Потом наступает окоченение рук и ног, после чего развивается общий паралич моторики, который во всех случаях начинается с паралича горла и языка: больной не может ни говорить, ни глотать. Температура остается очень высокой в течение нескольких часов — в одном случае двенадцать, — флуктуации не укладываются ни в какую модель. В большинстве случаев отмечается бред, а поведение лишившихся дара речи больных наводит на мысль о переживаемых ими ярких зрительных галлюцинациях. На третий-четвертый час после проявления главных симптомов больной впадает в бессознательное состояние. Если дело заканчивается летальным исходом, смерть предваряется глубокой комой, постепенным понижением температуры и наступает в результате паралича сердечной мышцы. При всех летальных исходах отмечается дыхание Чейна-Стокса. «У некоторых больных температура ведет себя совершенно иначе: вместо того чтобы упасть до значительно ниже нормальной, она выравнивается на отметке в 101F.[60] Больные остаются в бессознательном состоянии с некоторым восстановлением безусловных рефлексов. Прогноз совершенно непонятен.
Кроме цитаты из заявления АМА, «Таймс» нигде не утверждала, что беспокоится не о чем. Они не строили догадок о происхождении и причине заболевания, не сообщали впрямую, что лекарства и антибиотики оказались неэффективными. Но было там одно короткое предположение, забыть которое просто невозможно: «В некоторых случаях больные поддаются поддерживающему лечению». А это означает, что дела совсем скверны. Думаю, чтобы уловить смысл, читатели должны быть в какой-то степени знакомы с медицинским языком. Но разве стоило ожидать, что «Таймс» заявит: «Они стараются успокоить нас, не имея ни малейшего понятия о том, что делать»?..
Я обнаружил отчет о незавершенном еще расследовании смерти Дэниела Уолкера. За три дня нигде не было никакого упоминания о Максе или о Партии органического единства. Сегодня утром я сказал об этом Абрахаму, предположив, что Макс попросту скрылся.
Абрахам возразил:
— Нет, он бы не стал.
Как ужасно было видеть контролируемую тихую ярость на лице, рожденном для доброжелательности! А хуже всего то, что он физически хрупок и обладает мягким голосом. Я дожидался его взгляда, чтобы встать и уйти. Но не дождался. Разложив газету на столе, он смотрел на нее, смотрел так, как будто этот черно-белый прямоугольник был окном, как будто открывались за ним бесконечные дали.
— Что происходит в твоей душе, Абрахам?
Он ответил:
— У них ничего не выйдет.
— Ты думал о том, что сказала Мириам? Будто Ходдинг является платным агентом Китая и все такое прочее?
— Черт, им вряд ли удастся использовать эту чушь, Уилл. Думаю, это был экспромт и экспромт далеко не самый умный. Нет, думаю, они сделают ставку на молчание и будут надеяться на то, что никто не сможет установить взаимосвязь. А так оно и будет, если только один из нас не проговорится… Я имею в виду тех, кто был там, наверху, в саду на крыше. Не думаю, что Фрай или сенатор Гэлт поняли, что случилось. Они — ненормальные и просто ничтожества. Николас, Макс, Мириам… и Билли, и я… Вот это пятеро, по-видимому, единственные, кто знает.
— А ты проговоришься, Абрахам?
И когда он сказал безо всякого напряжения в голосе, даже не глядя на меня: «Я еще не решился…» — в нем не было ничего юношеского.
Днем мы отправились на прогулку. Безо всякой цели поболтались по улицам, на автобусе добрались до жилой части города и проехали по Сто двадцать пятой на запад, а вернулись пешком через Вестсайд. На улицах мы не увидели ни одного умирающего. Город был, пожалуй, даже слишком тихим для буднего дня. Проходившие мимо нас люди почти не разговаривали и совершенно не смеялись. За время нашего путешествия мы пять или шесть раз слышали сирены машин «скорой помощи», но это не было чем-то необычным» болезни и несчастные случаи в любом городе, днем и ночью, собирают свою жатву…
Из вечерней газеты мы узнали, что погиб Ходдинг.
Его дом и лаборатория на Лонг-Айленде сгорели в результате «взрыва неизвестного происхождения». Тело Ходдинга, а также тела его жены и невестки и девятилетнего внука были опознаны. Когда произошел взрыв, все четверо находились в лаборатории. Сама лаборатория, говорилось в газете, была частным предприятием. Здесь доктор продолжал работу после ухода из «Фонда Уэльса». Сына доктора Ходдинга в момент несчастья в доме не оказалось. Он сообщил, что лаборатория предназначалась для «биологических исследований органического характера» и эти исследования вряд ли были чем-то бОльшим, нежели хобби пенсионера. Ходдинг-младший — архитектор. Он заявил, что ему неизвестно направление работы отца, но он уверен: в лаборатории не хранилось ничего, что могло бы вызвать взрыв. Полиция, говорилось в газете, изучает возможность того, что бомба могла быть подброшена каким-нибудь ненормальным.
— Вот и первый, — сказал абрахам. — Один из тех, кто уже не проговорится. Если Фрай и Гэлт застрахованы, страховые компании должны побеспокоиться о грядущих расходах. — Он некоторое время пребывал в задумчивости, а потом сказал: — Уилл, подобной оружие глупо применять, если не разработаны средства иммунизации пользователей, Эта мысль не дает мне покоя. Думаю, Макс намеревается диктовать свои условия всему миру, включая и Азию. Полагаю, он ненавидит федералистов больше, чем кого бы то ни было, потому что видит себя в качестве… ну, первого президента всемирного правительства или еще что-нибудь в этом духе. Он наверняка считает, что было бы вполне допустимо уничтожить несколько миллионов этих двуногих животных, если бы их гибель сделала его Вождем… Для блага мира, разумеется, только для блага мира. Но первое, о чем он должен был позаботиться, — это средства для иммунизации преданных ему людей.
— Возможно, Ходдинг работал и над этим. Просто не успел. Изобрел яд, а на противоядие времени не хватило.
— Думаю, так оно и было, — сказал Абрахам, и в голосе его прозвучал опасное спокойствие, которое я замечал в нем целый день. — А теперь, чтобы скрыть правду и уйти от ответственности, Макс убил человека, лучше всех разбиравшегося в существе дела и, возможно, уже приблизившегося к созданию средств иммунизации и лекарства. Убивать его семью было слишком, но они не стали бы обращать на это внимание… Таков побочный продукт их доктрины: «Цель оправдывает средства.» Я встречался как-то с этим малышом. Он был весьма смышленый мальчишка…
— Ты должен мне кое-что пообещать, Абрахам.
— Если смогу.
— Не предпринимай никаких действий, пока меня нет рядом.
Он подошел и встал перед моим креслом, глядя на меня сверху вниз с улыбкой, которой светилась откровенная безотчетная любовь.
— Я не могу дать такое обещание, Уилл.
И мне ничего не оставалось как сказать:
— Знаю, что не можешь.
Ведь и я не мог дать подобное обещание ему, поэтому должен был согласиться, что ответ его был достаточно честен. С той ночи на кладбище, когда Намир ускользнул от меня, я кое-чему научился. Больше Намиру не скрыться, а вместе с ним, думаю, должен умереть и Келлер, потому что Келлер — сын, слишком хорошо воспитанный своим отцом, и, полагаю, госпиталь в Старом Городе вряд ли способен изменить его хоть в чем-нибудь. Единственная проблема сейчас — изолировать их от контактов с людьми на время достаточное для того, чтобы я успел исполнить свой долг. И я обязан претворить в жизнь задуманное прежде, чем бушующее в Абрахаме пламя обернется действием, выдержать которое у него попросту не хватит сил.
Вечерняя газета не прибавила ничего к нашим знаниям о распространении эпидемии. Она нагоняла тоску больше, чем «Таймс». Никаких статистических выкладок. Радио за весь вечер не сказало о заболевании ни слова. Абрахам, полагаю, спит. К счастью, я во сне не нуждаюсь.
17 МАРТА, ПЯТНИЦА, НЬЮ-ЙОРК
Из утренних газет: в районе Нью-Йорка 436 зарегистрированных случаев, из них 170 смертей.
На мой взгляд, они вполне правы, организовав процессию, посвященную дню Святого Патрика. Отмена этого долгожданного и традиционного празднования не соответствовала бы интересам народа, хотя опасения, что большое скопление людей может способствовать распространению инфекции, понятно. Мы на праздник не пошли. Абрахам весь день пребывал в рассеянности, задавая самому себе вопросы, на которые у него, похоже не находилось ответов. Вечерняя газета сообщил, что толпа была невелика. Случилось «небольшое происшествие», когда один из участников процессии упал с лошади «из-за внезапного сердечного припадка». Сердечный ли был припадок?..
В шесть часов из Белого Дома транслировали выступление президента, призывающего нацию сохранять спокойствие. Паника, сказал президент Клиффорд, опаснее эпидемии. Медицинские возможности позволяют справиться с… положением. В его словах звучала легкая тревога, он не вполне контролировал свой голос, а на его вытянутом, до сих пор таком приятном лице отражалось напряжение, с которым он произнес слова. Гримеры-телевизионщики подкачали. Думаю, они попытались сгладить морщины на его лбу, но как они могли спрятать под слоем грима пусть и храброго, но испуганного одинокого маленького человека, изнемогающего под грузом, слишком тяжелым для кого бы то ни было?.. Органы гражданской обороны переданы под командование начальника медицинской службы армии Крейга, выступившего после Клиффорда. Крейг продемонстрировал народу решительно выпяченную челюсть и брови, заявляющие: «Прекратите пороть чепуху!» Избегайте толпы, сказал он, оставайтесь дома, если вы не заняты на самых необходимых работах, слушайте и передавайте окружающим приказы местных медицинских властей и служащих гражданской обороны. На время чрезвычайного положения все театры, стадионы, бары и другие места, где возможно массовое скопление людей, закрываются. Ваше правительство будет оповещать вас обо всех необходимых действиях с помощью радио. Пандемия… Тут Крейг споткнулся и затряс свой большой головой, словно отгонял надоедливую муху. Он хотел сказать «эпидемия», но вырвалось совсем другое слово. Пандемия вызвана новым вирусом, возможно, это мутировавший вирус полиомиелита. Принимаются обнадеживающие усилия по обнаружению вируса и созданию. На это требуется время. Повторяю, избегайте толпы, оставайтесь дома, если…
Из десятичасовых новостей: случаи заболевания зарегистрированы в Осло, Париже, Лондоне, Берлине, Риме, Каире, Буэнос-Айресе, Гонолулу, Киото.
ПЯТНИЦА, ПОЛНОЧЬ
Бессонница. Я поднялся с кровати, чтобы дописать кое-что, сказанное Абрахамом перед тем, как он ушел в свою комнату. Я заставил себя осознать, что болезнь может сразить его, что завтра он может умереть. От этого осознания и происходит мое желание записать его слова.
После того как я выключил радио, мы поговорили немного о том, что люди называют второй войны, имея в виду ту фазу войны двадцатого века, которая частично завершилась в 30945 году, за шесть лет до рождения Абрахама. Знакомя его с некоторыми (подвергнутыми отрубу с позиции человечности) воспоминаниями, я сказал о «заменяемых миллионах».
И Абрахам сказал: «Ни один человек не может быть заменен».
18 МАРТА, СУББОТА, НЬЮ-ЙОРК
«Таймс» сообщила: на восемь часов в пятницу по всей стране 14263 зарегистрированных случая, 3561 смерть. Около четверти летальных исходов, и процент растет. Больные, у которых температура падает почти до нормального уровня, просто дольше умирают. Но несколько человек из заболевших ранее проявляют «вероятные» признаки выздоровления — температура нормальная или близкая к нормальной, сознание возвращается, но как правило с повреждением рассудка и различными степенями локальных параличей. Паралич, по-видимому, наступает из-за разрушения нервной ткани. Они называют это «паралитический полиневрит». В газетных заголовках название уже сократилось до двух слогов — «пара».
Абрахам рано утром отправился в Бруклин, повидать Шэрон. А я решил посетить «Зеленую башню».
«Пара»…
Улицы с четверга сильно изменились. Человеческие существа все еще проходят мимо вас, группками по двое-трое, не больше. Они бросают на вас быстрые взгляды и быстро отводят глаза, жмутся друг к другу, будучи знакомыми, и шарахаются от посторонних. Вы слышите их голоса, порой вовсе не похожие на голоса отдельных людей. Город шепчет: «Пара… Пара…» Снова и снова, одно это слово, отдаленный барабанный бой или бормочущий в мучительном кошмаре великан. Пара. Одно слово, которое означает…
Ковыляющий по тротуару человек вдруг тянется к стене здания, тянется одной рукой. К ней присоединяется другая, как будто человек хочет обнять то, чего здесь никогда не было. Потом обе руки начинают плясать — от кончиков пальцев к запястьям, от запястий к локтям, от локтей… Потом его колени подгибаются, и он касается стены лбом. Но никто не спешит ему на помощь. Парочка, которая брела следом за ним, круто сворачивает в сторону и лихорадочно перебегает улицу. Женщина закрывает нижнюю часть лица носовым платком, мужчина оглядывается на бегу, бессмысленно улыбаясь и разинув рот. Они бы и рады помочь, да…
Пара — это бегущая прямо по центру Третьей авеню маленькая собачка и волочащийся за ней поводок. Движение транспорта почти прекратилось. Золотистый спаниель плохо держится на ногах. Задние лапы время от времени подгибаются, но он спешит вперед, как будто за кем-то гонится — полагаю, за помощью. Его маленькая голова конвульсивно дергается влево. Он пытается лаять, но вместо заливистого лая раздается только сдавленный хрип. Наконец задние лапы отказывают ему, и он, пытаясь продолжить бег, царапает асфальт передними. К нему медленно приближается автомобиль, сворачивает в сторону. Женщина, бредущая по тротуару, визжит: «Он подхватил это! Прикончи его!» Машина послушно дает задний ход, снова рвется вперед, а потом на безумной скорости сворачивает на поперечную улицу, словно механизм почувствовал отвращение к тому, что несколько мгновений назад казалось просто необходимым. Женщина хватает металлическую урну и швыряет ее в маленькое пятно крови и золотистой шерсти. Будучи в нормальном состоянии, она бы даже вряд ли подняла эту урну. Потом она вынимает губную помаду, аккуратно подкрашивает рот, ощупывает место, где угол урны зацепил платье, но уходит, даже не взглянув на пудреницу, которая вывалилась из ее пальцев и покатилась по асфальту.
Пара — это мужчина, распахнувший настежь парадную дверь и бросающий быстрые взгляды вдоль улицы. Ни к кому конкретно не обращаясь, он кричит: «Эти ублюдки никогда не заразят меня!»
Пара — это толпа, грабящая винный магазин. Я наблюдал эту картину на углу Третьей авеню и Двадцать третьей улицы. Грабителей было около дюжины, в том числе и несколько женщин. По-видимому, магазин был закрыт, потому что на тротуаре валялись осколки витринного стекла. Грабители казались забавно-серьезными до тех пор, пока из этой толпы не вырвалась одна из женщин. Она бросилась в мою сторону, прижимая, как младенца, к своей груди сразу три бутылки и вопя: «Вы не можете жить вечно!» За ней кинулись двое мужчин, и она разразилась смехом. Не знаю, что они с ней сделали, — я тут же свернул на Двадцать третью улицу. К вечеру грабители, скорее всего, будут расстреливаться. Если этим не займется полиция, то сделают стихийно организующиеся отряды самообороны.
Пара — это мужчина, лежащий в сточной канаве. Его седые волосы причудливо колышутся в коричневом ручейке, питающемся из подтекающего гидранта. У мужчины четырехдневная борода, на нем изношенная одежда, пуговицы расстегнуты, белеет обнаженное тело. Он стар. Но не пьян. На затвердевшей коже просящего каши ботинка — трещины. Старик не пьян: рано или поздно его подберет перевозящий трупы фургон.
Пара — это выбежавшая из безлюдного ресторана крыса. А ведь думалось, что все крысы первыми покинут Нью-Йорк. Эта останавливается передо мной. Она не боится меня. Она и не догадывается о моем присутствии. Она просто умирает. И не оказывает никакого сопротивления, когда я пинком ноги отправляю ее на проезжую часть.
По Верхнему Уровню Лексингтон-авеню больше не мчатся автобусы. А спускаясь по лестнице, я заметил с десяток ворон, летящих куда-то на северо-запад. Странно, я никогда не видел над городом ворон, но вот, пожалуйста, летят. На северо-запад, к центральному парку. Думаю, робби-роуд функционирует, зато такси я не видел нигде. Я спустился в метро. Автомат, разменивающий деньги, работал. Я прошел через турникет на платформу и занялся унылым ожиданием. Немного погодя на платформе появился еще один кандидат в пассажиры. Увидев меня, он тут же удалился в противоположный конец платформы.
Медленно подкатил поезд. В кабине машиниста я заметил двух человек, еще один сидел в вагоне, рядом с дверью в кабину. Неужели на случай внезапной смерти кого-то из машинистов?.. Я вошел в вагон. Там ехало всего двое — женщина, беззвучно шевелящая губами, и негр с застывшим лицом, пристально изучающий носки своих туфель. Они сидели в противоположных концах вагона. Когда я вошел, оба тревожно посмотрели в мою сторону: по-видимому, мне надо было либо сесть посередине, либо уйти в другой вагон. Я сел посередине.
На Сто двадцать пятой улице я вновь поднялся на Верхний Уровень Лексингтон. Там было всего несколько прохожих. Они спешили так, словно выполняли ужасно срочное государственное задание и старались держаться подальше друг от друга. Заглянув в большие окна офиса Партии органического единства, я не заметил там никаких признаков жизни. Около входа меня остановил полисмен.
— Работаете здесь?
— Нет. А разве закрыто?
Он говорил с утомленным терпением человека, вынужденного до отвращения повторять одну и ту же фразу.
— Все публичные собрания запрещены. Впускаем только служащих офиса.
— А вы, случаем, не знаете в лицо мистера Келлера?
Он смерил меня ледяным взглядом. Перед ним стоял Санта-Клаус, и, возможно, поэтому он сдержался.
— Мистер, я никого из них не знаю. Я просто работаю здесь. Вот здесь, на тротуаре. Впускаем только служащих офиса.
— О'кей, я не пойду туда. Но… ну… вы руководствуетесь только правилом насчет публичных собраний, не так ли? Я имею в виду, это не связано со слухами по поводу этой Органической партии?
Он был громадным, спокойным и очень несчастным ирландцем. — О каких слухах вы говорите?
Дрозма, я никогда не узнаю, правильно ли я поступил. Это был порыв, вызванный скорее эмоциями, нежели разумом. В моем поступке проявилось желание по-человечески насладиться местью: я слишком долго не был в Северном городе.
— Разговор я слышал в метро, — сказал я. — Да и в других местах тоже шепчутся… У меня нет ничего общего с этой чертовой Партией органического единства, но я немного знаком с Келлером. Он работает здесь, и я хотел спросить его насчет распространяющихся слухов.
Он был монументально спокоен.
— О каких слухах идет речь?
— Черт, вы тоже должны были слышать об этом. — Я старался выглядеть не более чем глупым старым страдальцем. — Речь идет о том парне… Уолкере, который прыгнул с крыши, из сада Макса. Кажется, это случилось в пятницу, на прошлой неделе.
В нем тут же проснулась бдительность. Кроме того, когда я произносил последние фразы, мимо нас проходила какая-то женщина весьма солидного вида, и я не уверен, что она не остановилась послушать наш разговор. По крайней мере, мне показалось, что остановилась.
— Говорят, — продолжал я, — будто у Уолкера в руках была пробирка, а в ней не то клопы, не то вирусы, не то еще какая-то гадость. И говорят, будто Уолкер перед тем, как прыгнуть, бросил пробирку вниз.
Это дошло, я знаю. Секунду он смотрел на меня. Во взгляде его, кажется, мелькнул ужас, а потом он прогрохотал:
— Я не стал бы распространять подобную чушь.
— Я бы тоже не стал. Но другие говорят. Я только что слышал в метро, как один парень рассказывал другому. — Я пожал плечами и зашагал прочь. — Ладно, черт с ним! В любом случае, Келлер не сказал бы мне правду.
Я уходил неспешно, беспокоясь, как бы он не остановил меня для дальнейших расспросов. Он не остановил. Наверное, я достаточно убедительно разыграл из себя старого идиота. Краем глаза я заметил, что он направился внутрь здания… Надеюсь, к телефону. Не знаю, Дрозма, возможно, все произошло из-за старого бездельника, лежащего в сточной канаве. Или из-за золотистого малыша-спаниеля. Конечно, Наблюдатель не должен совершать подобных поступков, но вынужден признать, что я с большим удовольствием сделал бы это снова.
Я шел в сторону западного конца Сто двадцать пятой улицы.
Не могу я осознать случившегося в целом, Дрозма. Пока не могу, а возможно, не смогу и никогда. Я понимаю — только рассудком! — что из-за слепого безумия некоторых и почти неосознанной покорности многих человеческие существа снова и безо всякой уверенности на благополучный исход попали в большую беду. Я знаю (в теории), что разумно обустроенное общество способно выявить и изолировать типов, подобных Джозефу Максу, прежде чем они сделают свое дело. Впрочем, кто может смоделировать такое общество в своем мозгу или рассказать, как создать такое общество? Изучая человеческую натуру, часто болезненно инфантильную, мы видим, что люди не хотят взглянуть на себя со стороны, но это представляется слишком простым выводом. Ведь самопознание, если оно достигнуто в каждом поколении не более чем кучкой людей, является просто средством достижения некоего конца, догадаться о природе которого не хватит мудрости ни людям, ни марсианам. Я прекрасно понимаю все это, но из сегодняшней мрачной прогулки могу вынести только не связанные друг с другом картины.
Пара — это маленькая негритянская девочка, — примерно тех же лет, что и Шэрон, когда я познакомился с нею, — врезавшаяся в меня на сто двадцать пятой. У нее были широко открытые, сухие глаза.
— Простите, мистер, — сказала она. — Я не заметила вас. Мой папа умер.
Она споткнулась и я ее поддержал. По-моему, она не заметила и этого. Механически переставляя негнущиеся ноги, она пошла прочь, а я изо всех сил боролся с желанием догнать ее и сказать… Что я мог ей сказать? И о чем ей было со мной разговаривать? Разве я мог оживить ее отца?
Я поднялся со Сто двадцать пятой улицы на Эспланаду. Всего в нескольких кварталах отсюда маленькая пробирка…
Скоростной лифт в «Зеленой Башне» не работал. Зато работала куча лифтов самообслуживания, и не было недостатка в энергии. Пока… Я воспользовался одной из работающих кабин и вскоре стоял перед дверью Кельнера. Стоял и ни о чем ни думал. Как будто ждал некоего сигнала, который, конечно же, никогда не раздастся. Под звонком все еще висела табличка с именем Абрахама. Я снял ее и положил в карман. Прикосновение холодного металла — совершенно случайно — напомнило мне, что я до сих пор ношу с собой пистолет Мириам. Затем — и тоже случайно — я ткнул кнопку звонка. Сейчас будет использована одна, а может быть, и обе мои гранаты. Обе — в том случае, если за дверью Кельнер и Николас. Или если я буду серьезно ранен — так, что не останется возможности скрыться.
Я вдруг вспомнил, что уже несколько дней не пользовался дистроером запаха. Это казалось неважным. И хотя я знал, куда пойду, когда Абрахам отправился в Бруклин, это все равно осталось неважным. Николас открыл дверь. Он узнал Уилла Майсела, и в его изумленных глазах вспыхнула неприязнь, раздражение, суровость… Впрочем, он тут же понял всю неуместность этих эмоций, потому что я захлопнул за собой дверь и мой запах достиг его носа. И тогда, с трезвым спокойствием, я сказал:
— Я должен был бы понять.
— Ваш сын, скрывающийся под именем Уильяма Келлера, здесь?
Я говорил по-английски — этот язык стал для меня едва ли не более родным, чем марсианский.
Николас вразвалочку направился к двери в дальние комнаты, закрыл ее. Голос его сделался неодушевленно-механическим:
— Мой сын в Орегоне. А может быть, в Айдахо. У него новое лицо. Взявшись за его розыски вы только потеряете время… Я бы и сам, наверно, не нашел.
Фраза прозвучала правдиво. Думаю, он и в самом деле сказал правду. А значит, я должен оставить Келлера в покое — с ним через несколько лет разберутся другие Наблюдатели. Такое существо не может долго скрываться, а мы никогда не страдали отсутствием терпения.
Я кивнул на закрытую дверь:
— Кто там?
Он привалился к ней, возможно, пытаясь своей тушей преградить мне дорогу.
— Один мой ученик, которому следовало бы жить, чтобы довести дело до конца.
— Джозеф Макс? Так он скрывается здесь?
— Скрывается? Зачем?.. Его же никто не ищет. Он пришел посоветоваться со мной, и, пока находился здесь, болезнь настигла его. Госпитали переполнены, да и что они могут?.. Это не ваше дело, Элмис. Он мертв.
— Пара?
— Да.
— Этим и должно было кончиться… Партия органического единства тоже мертва, Намир. А не мертва — так скоро умрет. У вашего офиса возможны волнения. Возможно нападение толпы. В любом случае партии воздастся за то, что случилось. Вам не приходило в голову, что мог существовать какой-нибудь другой путь?
— Зачем? Я не задумывался. — Он поднял и снова уронил свои пухлые руки. Думаю, он слегка посмеивался надо мной. — Какая разница, где получать долги, если то, что ты придумал, работает? Партия не имеет теперь никакого значения — использованному инструменту место на свалке. Как и мне… Видите-ли жить мне осталось не больше года-двух.
— Ну нет! Год-два для вас было бы слишком много.
— Вы мстительны, Элмис?
— Нет. Я всего лишь санитар. Слишком плохо сделавший свою работу девять лет назад.
Он не выглядел заинтересованным.
— Если хотите что-нибудь сообщить мне, я вас выслушаю. Закон обязывает меня к этому. — Я достал из кармана и показал ему пистолет. — Сядьте там.
Со слабой улыбкой на лице он повиновался. Протянув левую руку, я запер дверь в дальние комнаты. Он спросил:
— Можно мне сигарету? Я стал заядлым курильщиком.
— Конечно. Только руки держите на виду. — Я бросил ему пачку сигарет и спички. — В спроектированном вами будущем вам пришлось бы оставить в живых немало человеческих существ. Чтобы было кому выращивать пищу и табак, управлять кое-какими машинами, подметать улицы, если вы собирались сохранить города.
Намир, выпустив струю дыма, рассмеялся:
Я никогда не ломал голову над пустыми прожектами. Я только хотел убрать этих тварей с дороги. Построение разумной культуры должно стать делом других… Впрочем, как вы сказали, они вполне могли бы сделать человеческие существа полезными для своих целей.
— Думаю, вы получите наслаждение от самого по себе процесса разрушения, не так ли? И любые результаты, которых вы в конце концов добивались, рождались из удовольствия разбить окно, из наслаждения привязать к хвосту собаки консервную банку, из радости написать мелом на свежевыкрашенной стене. Есть ли хоть какой нибудь способ доказать вам, что поиски зла — это банальность?
— Вы считаете так. — Он прикрыл глаза. — А я считаю, как считал и раньше, что лучше всего помочь людям уничтожить самих себя. Потому что жить они недостойны.
— А кто пришел к такому заключению? Чья использовалась шкала ценностей?
— Моя, конечно. — Он был по-прежнему спокоен. — Моя, потому что я вижу их такими, какие они есть на самом деле. В них нет истины. Они противопоставляют пустоте вечности желания маленькой жадной обезьяны и называют это истиной. Пусть это будет банальность, если вам угодно. Они придумали большую обезьяну, сидящую где-то за облаками — или на другой стороне Галактики, что одно и то же, — и называют ее Богом. Они используют такую выдумку, как власть, чтобы оправдать любое проявление жестокости или жадности, тщеславия или похоти, которое может представить их ничтожный ум. Они лепечут о справедливости и утверждают, что их законы основаны на чувстве справедливости (которому они, кстати, до сих пор так и не дали определения), но ни один из человеческих законов никогда не основывался ни на чем, кроме страха — страха перед неизвестностью или непохожестью, перед трудностями или самим собой. Они устраивают войны не ради придуманной ими какой-либо благородной причины, а просто потому, что ненавидят самих себя не меньше, чем своих соседей. Они тараторят о любви, но человеческая любовь — не более чем еще одна проекция их обезьяньей сущности, накладывающаяся на выдуманное представление о другой личности. Они придумали себе религию милосердия, такую, как христианство… Если вы хотите узнать, как они применяют ее на практике, посмотрите на их тюрьмы, трущобы, армии, концентрационные лагеря или камеры смертников. Но если вы хотите разобраться до конца, загляните в не слишком глубоко запрятанные души так называемых респектабельных и понаблюдайте, как извиваются в них черви зависти и страха, ненависти и жадности. Люди глупы, Элмис. Они всегда предпринимали все возможное и невозможное, чтобы уничтожить любую личность, которая хоть немного отличалась от них в лучшую сторону, которая умела смотреть вперед, которая обладала необычными способностями. Они и впредь будут поступать таким образом. Вам не приходило в голову, что Иисус Христос вряд ли прожил бы в двадцатом веке дольше, чем две тысячи лет назад? Галилео отрекается, Сократ выпивает яд, и так каждый день и каждый год… Но теперь толпа желающих распять насчитывает три миллиарда, да и мир значительно уменьшился, так что им придется научиться более простым методам распятия и без приводящей в замешательство гласности. Три миллиарда ползают по беспомощной земле, разрушая и оскверняя природу, убивая леса, загрязняя дымом и радиоактивной пылью воздух, заполняя мир раздражающим шумом машин. Вместо лугов — заправочные станции. Озера превратились в лужи человеческих отходов. Два года назад вся гавань Сан-Франциско была покрыта дохлой рыбой — даже океан болен от человеческого гниения. И это они называют прогрессом. Я сделал то, что мог, Элмис, и надеюсь, моя смерть будет приемлемо чистой. Пол в этой комнате изготовлен из какого-то нового вида стекла… Граната вряд ли повредит его. Я всегда ненавидел беспорядок.
— Что ж, обоснованный обвинительный акт имеется, — сказал я. — Но все держится на фундаменте отвлеченных понятий. Думаю, у такой ненависти к людям, как ваша, должны быть более личные причины.
— Нет. — Полуприкрытые сальваянские глаза следили за мной с любопытством, искренностью и, полагаю, даже временной заинтересованностью. — Нет, это не так. Будучи Наблюдателем, я внезапно осознал все безрассудство сальваянских надежд, тщетность любых усилий, рассчитанных на человеческую натуру. Я стал Отказником, потому что понял: единственное лекарство для людей — это истребление. Разумеется однажды и вы объявите войну человеческой расе. Это неизбежно становится личным делом каждого. — Он добродушно пожал плечами. — Возможно, через некоторое время стали сказываться мое собственное тщеславие и амбиции. Неважно. Ох, сколько я проработал над Джо Максом! — Намир зевнул. — Не проглядел я жалкую неустойчивость таких типов, как Уолкер и Ходдинг… Это был материал, с которым мне пришлось работать, шанс, которым я воспользовался… Из уважения ко мне, Элмис, не избавите ли вы меня от речей в защиту обвиняемого и не воспользуетесь ли своим оружием сразу? Я устал.
— Можно обойтись и без речей в защиту. Я согласен почти со всеми материалами, представленными обвинением. Единственное скажу — все слишком пристрастно и слишком банально. Вы потратили свою жизнь на попытки отыскать в куче сокровищ фальшивые монеты. Чтобы доказать свою правоту, вы всю жизнь разыскивали зло… Естественно, вы его нашли, а там, где зла не было, вы его создали. Это может сделать любой дурак. Я разыскивал добро — и в человеческой натуре, и везде, где можно. Естественно, я нашел его, накопленное и текущее через край. Это тоже может сделать любой дурак. Разница в том только, что добро заметить чуть труднее, потому что оно вокруг нас повсюду — в ближайшем листке, в ближайшей улыбке или добром слове, в каждом дуновении ветра. Вы говорите, в людях нет истины. А что вы знаете об истине такого, чего не знал Пилат? Человеческие существа находятся на ранних стадиях стремления принять и понять эмпирическую истину. Это сложно. Это все равно, что пробираться через джунгли без оружия и не зная дороги. Ни одно другое земное животное никогда не пыталось двинуться в подобный путь или хотя бы догадаться, что вокруг джунгли. В общем-то, Намир, ваш взгляд на человека в целом не отличается от моего. Мы оба представляем его себе как некое ковыляющее через джунгли существо. Но вы хотите вонзить ему нож в спину, потому что оно вам не нравится. А я бы скорее взял его за руку, потому что понимаю: и он, и я, и вы, и все-все остальные — все мы живем в одних и тех же джунглях, а джунгли эти — всего лишь малая частица мироздания. Что же касается справедливости, то это идеал. Это свет, который они видят впереди себя и которого стараются достичь. Конечно, они спотыкаются — потому что стараются. А если бы не старались, то вряд ли бы даже придумали слово «справедливость». Все вышесказанное верно и для их видения любви и мира. Страх преследует их, потому что они из плоти и крови. И когда вы обвиняете их в том, что они напуганы, вы обвиняете их всего лишь в том, что они живы и способны страдать. Порождения страха — война, ненависть, зависть (даже жадность рождена страхом) — ослабнут тогда, когда ослабнет страх. У них было слишком мало времени, чтобы научиться преодолевать страх. Столетия коротки для нас, но достаточно длины для них, Намир. И в целом, я думаю, люди не глупее марсиан. Что же касается различных безобразных сторон их двадцативекового прогресса, то это, я думаю, еще одно временное заболевание, такое же, как заболевания, присущие, скажем, девятому веку. Земля выздоровеет… моя планета Земля, Намир. Кстати, она могла бы стать и вашей планетой, если бы вы не ослепили себя сугубо человеческой болезнью — ненавистью… Она выздоровеет, когда они научатся жить с ней в согласии. Возможно, потребуется еще один век, чтобы научиться контролировать механизм…
— Да-да-да! — Он выплюнул сигарету на пол. — Им ведь нужны звезды. Убейте меня, Элмис. Меня тошнит при мысли о человеке, достигшем звезд. Защитить звезды — акт милосердия, если это вас волнует.
— Волнует, — сказал я.
Я не мог защитить звезды иным путем. К тому же, я только сейчас, наконец, вспомнил кладбище в Байфилде, и потому пуля в лоб была, полагаю, достаточно милосердной защитой. Если смерть может быть вообще милосердной…
Потом я скатал ковер. Пол и в самом деле был изготовлен из неорганического материала. Я положил мертвое тело на спину и отошел подальше. Пурпурные вспышки и шипение быстро прекратились, и на полу остались только несколько монет из его кармана да деформированная пуля. Остальное превратилось в пыль, которую ковер вполне мог спрятать. Кусочек свинца, полдоллара, два четвертака, один дайм[61] и пригоршня пыли — Намира больше не существовало.
Впрочем, от него осталось главное — его сын.
Я прошел в дальние комнаты, желая собственными органами чувств убедиться в том, что Джозеф Макс тоже мертв.
Я нашел его в спальне. Он лежал на спине, бледный как смерть, но в позе его все еще ощущалось чувство собственного достоинства. Впрочем, у мертвых ничего другого и не остается. У кого-то хватило учтивости закрыть ему рот и глаза. Наверно, это сделала Мириам, потому что она была жива. Пока еще была жива. Она сидела на кровати, рядом с Максом, и рука ее слепо шарила по его волосам и щеке. Нос Мириам был красным, но виной тому явились не слезы — глаза ее были сухи, лишь лихорадочно блестели. Первые симптомы — как при обычной простуде…
Мне вдруг стало ясно, что она любила Джозефа Макса, любила по-женски, как мужчину. И ее помолвка с Абрахамом была жертвой на алтарь политики, жертвой, которую она приносила ради любимого человека. И не вызывало больше сомнения, что идея эта принадлежала Келлеру и Николасу, и ее реализация должна была связать Абрахама с партией в надежде на использование его талантов. Впрочем, я догадывался об этом и раньше, теперь же это знание едва ли имело даже академическое значение. Когда история движется быстро, она обгоняет всех — и людей, и марсиан. Мириам сказала что-то, хрипло, с трудом. Я не смог понять, но думаю, это было слово «уйдите». Ответных слов у меня не нашлось — что можно сказать раздавленному насекомому, которого судьба наказала несколькими дополнительными секундами агонии? В этой комнате милосердием был и останется пара.
Абрахама дома не оказалось. Когда я добрался до нашей квартиры, дело шло к полудню. Метрополитен все еще функционировал, и пассажиров там стало больше, хотя ничего похожего на обычную толпу не было и в помине. По дороге от метро до дома я не увидел ничего, о чем стоило бы упомянуть. Другие Наблюдатели, Дрозма, расскажут вам обо всех мелочах. Придя домой, я знал одно: это только самое начало эпидемии. Вскоре — через день или через неделю — в сточных канавах будут лежать тысячи умирающих стариков. И не останется в городе ни одной стены, за которой не скрывалась бы смерть человека. Нарушится работа средств связи и транспорта — для Нью-Йорка и большинства остальных современных городов это означает голод. Начнутся бунты. Некоторые будут умирать, швыряя камнями в тех, кого они сочтут своими врагами. И будут вырыты простые ямы, присыпанные известью. Если от пара мрут даже крысы…
Абрахама не было целый день. В три я позвонил Шэрон. Она тут же сняла трубку, спросила, здоров ли я. Абрахам был у них утром и ушел чуть раньше полудня. Она считала само собой разумеющимся, что он отправился домой, хотя он и не говорил этого. Она здорова. Они обе здоровы — Шэрон и София…
В следующие шесть часов не случилось ничего особенного. Я пережил их. Абрахам Явился в девять. Прохромал к дивану, скинул свой ботинок-протез и принялся нянчить колено левой ноги.
— Слишком многое зависит от всякой чертовщины, — сказал он. — Целый день хотел позвонить вам из госпиталя, но никак не мог дозвониться.
— Из госпиталя?..
— Работаю там. В «Корнелл-центре». Порыв… Ему бы давно следовало явиться, да только мозг, который по вашим словам, у меня есть, не работал. Просто взял и стал волонтером. Наверное, должен разразиться мор, чтобы исчезли бюрократы. Они там готовы использовать любого, кто пока способен передвигать ноги, быть на посылках, выносить горшки. Я должен вернуться к трем часам ночи… Поесть бы чего-нибудь да немного поспать.
Наполовину ослепший от усталости, он с жадностью проглотил выпивку, которую я ему принес. Но устало у него не только тело, потому что, справившись с выпивкой, он сказал:
— Уилл, мне бы и в голову не пришло… Вы не представляете… Дети, старики, крупные сильные мужчины — все валятся, как пшеница под градом. Там нет ни одной пустой койки, понимаете? Мы собираемся класть их на пол, пока не кончатся запасные матрасы, а затем… придется просто на голый пол. Мы стараемся убедиться, что они действительно мертвы, и только после этого… только после этого… — Он захлебнулся.
— К трем я пойду вместе с тобой.
Не в первый раз человеческая натура повергла меня в стыд, но случившееся сегодня я запомню навсегда.
20 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК, НЬЮ-ЙОРК
Сегодня утром умерла София Вилькановска. Умер еще и президент Клиффорд, Но я думаю о Софии. И еще об одном человеке.
Да, этим утром умер президент Соединенных Штатов. По утверждению газеты, он ушел как джентльмен. Последние трое суток он практически не спал, неся на себе тяжкое бремя обязанностей и решений. Он принимал эти решения даже после того, как появились первые признаки простуды и он понял, что заразился. Беда, как сказали бы человеческие существа, всегда делит общество на мальчиков и мужчин. Он был совсем еще молод — пятьдесят девять. Мир праху твоему!.. Вице-президент Борден — обычный политический незнакомец. Если он переживет происходящее, о нем еще будет время поразмыслить. А пока что я думаю о Софии и еще об одном человеке.
Мы с Абрахамом пришли домой в воскресение, в час дня, после почти десяти часов, проведенных в госпитале. Возвращаться нам надо было к восьми вечера. Телефон Шэрон не отвечал. Думаю, для Абрахама эти девять часов стали темным туннелем со светом в его конце, и светом была возможность поговорить с Шэрон. Но телефон не отвечал, и я видел, как погас этот свет. Слышались лишь мертвые безликие гудки. Он положил трубку.
— Быть может, я ошибся номером. — Он сделал еще одну попытку дозвониться.
Он не ошибся номером.
— Я поеду туда, — сказал он. — А вам лучше поспать немного.
— Как нога?
На его левой ноге, на лодыжке, возникла опухоль. В госпитале он не хромал, но дома мог себе позволить похромать немного — пока пересекал комнату, чтобы взять не успевший высохнуть плащ. На улице шел унылый мелкий дождь, и вернулась мартовская прохлада.
— Что?.. Да черт с ней, она не отказывает. Вы пойдете в госпиталь, Уилл?
— Да, думаю, так будет лучше. Но тебе следует остаться с Шэрон. Вот увидишь — она просто куда-то вышла, но… В любом случае оставайся с нею.
— София… почти никогда не выходит. Шэрон говорила: из-за слепоты…
— Знаю. Ты останешься с ними. Это более важно.
— Да… «Важность» не более чем слово, — он шатался от усталости, — а вы учили меня не поддаваться магии слов.
— Абрахам, еще десять часов, и ты не можешь ходить… Согласись с тем, что я тебе говорю.
Он обрел второе дыхание… а может быть, третье или четвертое. Во всяком случае, когда он вдруг отвернулся от двери и схватился за лацканы моего пальто, это вовсе не была попытка удержаться на ногах.
— Уилл… Спасибо за все!
Я попытался разыграть раздражение:
— Отцепись!.. Я вовсе не собираюсь с тобой прощаться. Завтра, как только освобожусь в госпитале, я тут же приеду в Бруклин. Ты останешься с ними. И береги ногу.
— Все равно спасибо! — Его темные глаза смотрели в сторону, и в них пылало невысказанное. — Шэрон говорила мне, как случилось, что мисс Уилкс открыла свою школу. А еще я вспоминал леса… леса под Латимером.
Он внезапно усмехнулся, стиснул лацкан моего пальто и быстро похромал к лифту, оставив меня в… нет, это нельзя назвать одиночеством.
Позвонил он ближе к вечеру, но слова приветствия показались мне натужными. И я спросил:
— Шэрон?
— С нею все в порядке. С нею все в порядке, Уилл, но…
— София?
— У нее пара… Шэрон выходила как раз тогда, когда я пытался дозвониться. Она искала доктора. И не нашла. Ни одного.
— Да, до этого и должно было дойти к сегодняшнему дню. Думаю, лучше ее оставить там. Лучше, чем госпиталь.
— Мы тоже так подумали.
София умрет. Нам обоим это было ясно. Мы оба помнили статью в газете, которую прочли по дороге из госпиталя домой: «Насколько стало известно, все больные у которых наблюдаются признаки выздоровления, Не старше тридцати пяти лет».
— Уилл, говорят, два бруклинских госпиталя людей уже не принимают… Просто нет места.
— Я приеду завтра, как только освобожусь. Оставайся там!
— Да, — сказал он.
— Ты уверен, что Шэрон?..
— Я уверен, — сказал Абрахам, и голос его сломался, как будто кто-то ударил его в челюсть. — Я уверен.
Он повесил трубку.
Абрахам в госпитале не спотыкался. А я спотыкался, и не один раз в эту ночь, но не столько от усталости, сколько сколько от ощущения безысходности. В конце концов это ощущение приняло некий физический характер, как будто я пытался плавать в патоке. Боже, как быстро они прибывали! Их не делили на легких и тяжелых, потому что легких случаев здесь, в «Центре», попросту не было. В мои обязанности входило принести и вынести в трех палатах, а также помогать везде и во всем, с чем я — по мнению медсестер и врачей — был способен справиться. Я делал все от меня зависящее, но от меня, по-видимому, зависело меньше, чем от Абрахама, и потому я время от времени спотыкался.
Палаты были до странности молчаливыми. Их переполняли звуки мучительного дыхания, слабо шуршали ерзающие тела тех, кто еще мог шевелиться, но ни стонов, ни разговоров. Разговаривали только мы, старающиеся хоть чем-то облегчить их состояние. Когда кто-то умирал, внешне это почти не проявлялось — ни конвульсий, ни сильного сокращения мышц. Вы не могли быть уверены в смерти больного, пока не нагибались и не обнаруживали, что что тело его начало коченеть. Запах в палатах был, конечно, скверным — два-три измотанных человека не способны поддерживать чистоту в палате, в которой вместо положенных двадцати больных лежало шестьдесят или семьдесят. Говорят, в 1918 году от гриппа умерли десять миллионов человек. Дрозма, это ничто по сравнению со случившимся сейчас. Ничего похожего на нынешнюю ситуацию не происходило с четырнадцатого столетия. У статистических диаграмм начинается жар, как будто они заболевают пара. К этому времени, полагаю, специалисты уже передали кошмарные данные на электронные умы, которые приобрели такое большое значение в последние два десятка лет. Но не думаю, что газеты публикуют то, что должны будут показать машины.
Когда ночь вползла в утро, я обнаружил, что все больше и больше учусь на воспоминаниях о том, как выполнял вчера эту же работу Абрахам. Однако его методы, Дрозма, мне будет чрезвычайно трудно изложить. Фактически он, наверно, делал не больше, чем другие, но казалось, будто он был повсюду. Между ним и находящимися в сознании больными существовало нечто такое, что я могу назвать только каким-то способом связи. Причем эта связь существовала даже в тех случаях, когда глухота больных не позволяла им слышать слова, которые он произносил. Иногда я видел, как он шепчет что-то больному, иногда видел, как он пишет неразборчивым почерком записку. А порой это и вовсе была просто улыбка, или пожатие руки, или почти телепатическое понимание невысказанной нужды. Они чувствовали, когда он появлялся в палате, и те, кто был способен повернуть голову, тут же спешили увидеть его…
Ужаснее всего были больные, которые должны были с минуты на минуту потерять сознание. Их глаза пристально смотрели в никуда, а руки бешено дергались, словно пытались вытолкнуть из души какого-то монстра. Трижды я видел, как Абрахам оказывался способным обращаться с такими больными, заставлял их осознавать его присутствие, так что его лицо становилось щитом между ними и их галлюцинациями. Абрахам взял за руку одного из них, негра-гиганта, который еще несколько дней назад мог бы задушить быка, и приложил его ладонь к своей щеке. И безумие отступило, негр перестал дергаться. Когда я вернулся в воскресение вечером в госпиталь, чернокожий гигант был еще жив. То же самое произошло с другим парнем, за которым ухаживал Абрахам. Температура у них снизилась, и медсестры повесили на спинки их коек таблички с голубой буквой «Х», что означало: «Хорошая сопротивляемость, возможно выздоровление». Если Абрахам жив, я смогу вскоре вернуться в Северный Город.
Миссия завершена. Если Абрахам жив…
Я отработал этой ночью в госпитале половину суток, и было уже десять часов сегодняшнего дождливого утра, когда я добрался наконец до квартиры Шэрон. Открыв дверь, она зарыдала и уткнулась мне в плечо. В противоположном конце комнаты на полу сидел хмурый Абрахам. София лежала в своей комнате, уже успокоившаяся, с закрытыми глазами и затихшими руками. Абрахам кивнул, хотя я и так все понял. Шэрон еще цеплялась за меня, когда сзади сказали:
— Вы посылали за нами, сэр?
Я обернулся. В открытых дверях стояли двое мужчин. Их носы и рты были прикрыты марлевыми повязками — эти двое еще на что-то надеялись. Шэрон задохнулась в крике.
Абрахам взял бремя не себя, жестом указал мне и Шэрон на кабинет. Когда дверь за нами закрылась, Шэрон сказала:
— Понимаете, не будет никакой похоронной церемонии…
— Я знаю, Шэрон. Пусть Абрахам…
— Потому что умерших больше, чем живых, понимаете? Но ведь всегда хоронили, правда? — Она кашляла, хлюпала носом и дрожала. — Ах да!.. Умерших больше, чем живых… И потому они просто приходят и уносят их, понимаете? — Она оттащила табурет от рояля и села ко мне лицом, стиснув руки и желая объяснять. — Бен, она ведь всегда любила маленькие церемонии. О, какой церемонной леди она была! Я всегда старалась жить в соответствии с ее понятиями. Думаю, ей бы хотелось, чтобы я сыграла полонез, а не похоронный марш. — Она снова задохнулась. — Нет. Нет! Только полонез, но не знаю, смогу ли я, да и все равно ее здесь больше нет, правда? И мы должны думать обо всем только так, правда?
— Конечно. Ты бы прилегла, Шэрон. Совсем измоталась…
— Нет-нет! Потому что мертвых больше, чем нас, а некоторые из них любят маленькие церемонии, я уверена в этом. Это вопрос соблюдения приличий.
Я услышал, как мягко закрылась входная дверь. Шэрон не прислушалась, она сказала:
— Вы не подадите мне шаль, Бен? Здесь ужасающий холод, правда?
В кабинете действительно было немного прохладно, но ведь она была очень тепло одета.
— Я слышала, швейцар заболел. Полагаю, отопление отключено. Пожалуй, я лучше посижу немного здесь. Смотрю на клавиатуру, но не лучше, чтобы могла что-нибудь сыграть. А вы бы не хотели, Бен?
— Нет, я… Я принесу тебе пальто.
Вошел Абрахам, и я отправился искать пальто или одеяло. В стенном шкафу я нашел меховой жакет. Я снял его с вешалки, и тут ожил рояль. Нет, это была не игра, просто прожурчали, повышаясь, звуки. Наверное она просто провела по клавиатуре тыльной стороной ладони, словно ласкала друга, как будто сказала… Схватив жакет я бросился назад, но Абрахам уже выводил ее из кабинета. Она сияюще улыбнулась:
— Спасибо, Бен! Это именно то, что я хотела.
Она протянула руки к жакету и вдруг споткнулась. Абрахам не дал ей упасть, а я подхватил на руки и отнес в спальню. Там было прохладно, опрятно и скромно — белые стены, голубое покрывало. Простота и невинность.
— Меня все утро немного знобило, — осторожно сказала Шэрон, — но не думаю, чтобы это что-либо означало. Потрогай мою руку, Эйб. Видишь? У меня нет жара.
Я положил ее на кровать, но руки мои все еще ощущали пылающий в ней огонь. Абрахам тщетно пытался удержать в своей ладони беспокойно шевелящиеся кончики ее пальцев.
— Конечно, Шэрон, — сказал он. — С тобой все в порядке. Сними-ка туфли. Я хочу положить тебя под одеяло.
— Что ты сказал, Эйб?
— Туфли…
— Я не слышу тебя. — Она уже все поняла, она прожила с этим пониманием уже несколько часов, но только сейчас ее мужественное притворство дало трещину, и она закричала: — Эйб, я так тебя люблю! Я хочу жить!..
Больше говорить она не могла…
Сейчас, должно быть, около полуночи. Абрахам не отходит от нее ни на шаг. Часть утра и весь день я повел в поисках врача. Пустая трата времени: все они превратились в развалин с красными от недосыпания глазами, работающих двадцать четыре часа в сутки — и в госпиталях и повсюду. И не только борются с пара: люди все еще вминают свои машины в фонарные столбы, люди все еще режут друг друга ножами и умирают от других болезней. Сейчас не может быть никаких вызовов на дом, а отправить больного на этой стадии в госпиталь означает просто предоставить ему возможность умереть в более людном месте.
Дрозма, я больше не способен думать о Союзе. Цель оправдывает средства… В этот тезис верил Джозеф Макс, он был последователем некоторых теоретиков, а им стоило бы умереть еще в раннем детстве… Сомневаюсь, Дрозма, понимал ли я прежде, что значит ненавидеть. Любя лучших из них и ненавидя худших — а именно так я теперь люблю и ненавижу, — я никогда не смогу снова войти в их общество Наблюдателем. Я потерял эту способность. Я постарею раньше, чем смогу снова взглянуть на все это с точки зрения вечности.
Я оказался прав: то, что творилось на улицах в воскресенье, было всего лишь началом. Улицы завалены мертвыми. Бригады, собирающие трупы, работают теперь с тележками грузоподъемностью в полтонны, на которых стоит ящик… Куда трупы увозят, я не знаю. Такую бригаду обычно сопровождает полицейский патруль. Другие полицейские машины медленно курсируют по улицам. Полагаю, они ведут наблюдение за любыми группами горожан, которые способны превратиться в толпу. Я купил газету. Это оказалась «Таймс», опустившаяся до восьмистраничного листка, напрочь лишенного рекламы. Кое-какие новости из-за рубежа, в основном — о распространении пара. Ничего о делах в Азии. О смерти президента Клиффорда — разумеется; заголовки крупным шрифтом, на первой полосе. Впрочем, и в любое другое время было бы то же самое. Но история его кончины выписана так, словно корреспондент работал левой рукой. А может, у него уже болела голова, и наблюдались все симптомы обычной простуды… На первой полосе, кроме заголовков, общественная информация, сообщаются номера телефонов так называемых «вспомогательных бригад гражданской обороны»… Это о людях с тележками. Статистика еще та… Я почти забыл большинство данных, но только в нью-йоркском столичном районе более миллиона случаев. Жирным шрифтом печатаются неизменные инструкции, касающиеся больных, которые не могут быть госпитализированы. Рекомендации по уходу следующие: содержите больных в тепле и покое; не пытайтесь заставить их глотать — вполне возможно, что они будут сопротивляться; следите, чтобы голова находилась на одном уровне с телом — иначе может произойти сдавливание дыхательного горла; затемните комнату, так как, если больной находится в сознании, свет очень действует на его глаза…
В середине дня у Шэрон начались галлюцинации. Мы оба сидели рядом с нею. Вернее, сидел я, потому что Абрахам боролся с одолевавшими Шэрон дьяволами, и единственным оружием, которым он мог воспользоваться, была нежность его рук. После нашей работы в госпитале я узнал, что больные очень часто умирают во время бреда от спазматической остановки дыхания, наступающей, по-видимому, из-за простого испуга, вызванного кошмарными галлюцинациями.
Шэрон от испуга не умерла.
Думаю, даже на пике страданий она понимала, сто Абрахам рядом, что он касается ее, следит за любой тенью, пробегающей по ее лицу, требует, чтобы Шэрон оставались с ним и ничего не боялась. Наверное, было бы естественным увидеть моего друга в роли юного Святого Георгия — ведь насколько оказалось бы легче, насколько проще, если он бы мог противопоставить свое хрупкое тело реальному, извергающему пламя дракону! Но реальные драконы всегда спокойны и бесформенны, а единственное, что может поддержать человека в его борьбе с тенями, — это доброта.
Вскоре Шэрон впала в бессознательное состояние, глаза ее закрылись в ступоре, вызванном высокой температурой. Вот тогда Абрахам ненадолго потерял контроль над собой — вероятно, потому что исчезла возможность общения с нею, а он ничего не мог поделать. Его трясло в судорожных рыданиях, напрочь лишенных хоть чего-то похожего на слезы. Тут я заставил его проглотить немного черного кофе. Потом нашел в свободной спальне раскладушку, принес ее в комнату Шэрон и велел Абрахаму лечь, хотя и знал, что спать он не будет. Он быстро взял себя в руки и снова сел рядом с Шэрон. В госпитале нескольким больным сохранили жизнь с помощью искусственного дыхания. Поэтому Абрахам не сводил с Шэрон глаз из боязни пропустить мгновение, когда ей понадобиться искусственное дыхание. Газета писала что-то об отсутствии кислородных баллонов, говорила о транспортных авариях. Прочитав это, я понял, что способа достать для Шэрон такой баллон не существует, и перестал дергаться…
Должно быть, сейчас около полуночи. Я сижу в гостиной над своими записями. Если Абрахам позовет меня, я услышу. Температура — 105F.[62] Но среднее значение в этой фазе — около 107F.[63] К тому же Шэрон хорошо дышит. Она крепкая. Она хочет жить. Она очень молода.
Часы, ползущие мимо нас, должны привести хоть к какому-нибудь рассвету. Тишина здесь, тишина везде. Я слышу дыхание Шэрон, ровное и достаточно сильное. Город пребывает в непривычном безмолвии. Если она умрет, этот дневник не будет иметь ни малейшего значения. Пойду посмотрю, не могу ли я что-нибудь сделать.
21 МАРТА, ВТОРНИК, ДЕНЬ
Сегодня утром, в четыре часа, продолжавшийся более полусуток жар у Шэрон наконец спал. Не было зловещего выравнивания температуры на высоком уровне. Она все еще без сознания, но теперь ее состояние почти может быть принято за естественный сон. 99,1F.[64] Утром я вышел купить газету (радиопередачи — не более чем сводящая с ума болтовня, а две лучших станции и вовсе уже замолчали) и даже отыскал киоск, в котором продавались несколько четырех- и восьмиполосных газет. На киоскере красовалась пресловутая бесполезная марлевая повязка, и он бросил мне сдачу, изо всех сил стараясь не касаться моих пальцев…
В понедельник днем толпа разгромила офис Партии органического единства. Охранявший вход полисмен (я всегда буду думать, не был ли он тем самым славным великаном-ирландцем) попытался — в качестве последнего средства — применить оружие, но толпа не обратила на выстрелы ни малейшего внимания и попросту растоптала его. Они сожгли все помещения и вырезали еще несколько человек, которые, по-видимому, оказались всего лишь невинными сторожами. Можно считать, что отчасти это было делом моих рук. Я больше никогда не смогу быть Наблюдателем. Я выкинул газету и сказал Абрахаму, что их больше не продают.
Он наконец заставил себя поспать. Я пообещал разбудить его, если в состоянии Шэрон наступят какие-нибудь изменения. Конечно я его разбужу. Невероятно, но, несмотря на всю марсианскую и человеческую науку последних тридцати тысячелетий, я совершенно бессилен. Все, что мне остается, — это сидеть здесь, смачивать ее губы, смотреть и ждать.
21 МАРТА, ВТОРНИК, НОЧЬ
Она все еще без сознания, но температура упала до 98,7F.[65] Дыхание отличное, да и дышит она теперь не только ртом. Было несколько очевидных глотательных движений. Вечером видел, как слабо шевельнулась ее рука, но возможно, это всего-навсего плод моего воображения. Абрахам не видел, а я промолчал из боязни выдать желаемое за действительное. Думаю также, что несколько минут назад, когда я щупал ее пульс, было слабое ответное движение, но и здесь я мог ошибиться. В любом случае пульс хорош: постоянный, сильный, слегка замедленный — никакой неравномерности, которая была так заметна при высокой температуре.
Они рекомендуют стимуляторы и жидкую пищу, как только больной сможет глотать. Но сначала она должна прийти в сознание. Долгожданный момент наступит. И ужасные впадины на ее щеках, которые появились в последние сорок восемь часов, исчезнут. У нас все время наготове кофе и теплое молоко. Покупка пищевых продуктов снаружи, вероятно, оказалась бы сложным делом, но мы нашли на кухне доверху наполненный холодильник, да и подача энергии до сих пор не прерывалась. Кроме того, есть еще четырех-пятидневный запас консервов. И когда мы обессиленно перекинулись Абрахамом несколькими словами, мы уже считали само собой разумеющимся, что она очень скоро откроет глаза и увидит нас. Абрахам часто разговаривает с нею. Разумеется, она не отвечает, но мне показалось, что когда он поцеловал ее, маска непонимания на ее лице чуть дрогнула.
Мы коснулись в этот вечер и другой темы. Я хотел вывести Абрахама из состояния внутреннего неистового самосуда. Я говорил о том, что когда пандемия пройдет, человеческое общество, насколько мы его знаем, уже никогда не сможет быть таким, каким оно было до катастрофы.
— Оно должно знать, — сказал Абрахам, — что пандемия явилась делом рук человеческих. Этот факт должен дойти до них, войти в их плоть и кровь. А их праправнуки, думаю, должны помнить о случившимся еще лучше.
— Люди уже знают. — И я рассказал ему о том, что содеял сам и что совершила толпа.
— Думаю, вы были правы…
— Этого я никогда не узнаю, Абрахам. Содеянное содеяно, и мне остается только судить себя до конца жизни… и, вероятнее всего, приговорить к повешению.
— Если мое мнение хоть чего-нибудь стоит, вы поступили правильно. Но этого мало. Когда все закончится, Уилл, я должен буду обо всем написать, обо всем что знаю… В конце концов Ходдинг и Макс мертвы — кто еще может рассказать? И каким-то образом мне надо будет проследить, чтобы не планете не осталось уголка, которого не достигла бы правда.
— А нужна ли будет людям правда, Абрахам, когда все закончится? Что если ты, например, обратишься к властям, а они скажут: «Где доказательства?»
— Ну, тогда я мог бы соврать и заявить, что сам приложил к случившемуся руку. Если это единственный способ предать факты гласности… — Плохо по нескольким причинам… — О, Уилл, разве важна судьба отдельной личности, когда все, что…
— Важна, но не в этом главная причина. Ты посмотри на свое предложение с другой точки зрения… Если ты поступишь таким образом, ты станешь козлом отпущения и ничем больше. Ты знаешь, зачем людям нужны козлы отпущения? Чтобы избежать необходимости смотреть на самих себя! Ведь именно в нашем мире может процветать Джозеф Макс. И все граждане — ты, я, любой — ответственны за то, что они допускают существование такого мира, за то, что они не стремятся жить в другом, лучшем мире. Мы прекрасно понимаем этические требования. Мы способны понимать их на протяжении уже нескольких тысячелетий. Но мы никогда не хотели, чтобы этим требованиям подчинялись наши собственные поступки. Вот и все… Реализуй себя в долгом труде, Абрахам, а не в красивом жесте или в оставшейся никем не замеченной жертвенности. На уровне личности… Я всегда видел в себе особое пламя, более яркое, чем в других. Я всегда любил тебя… И потому я запрещаю тебе отдавать себя на бессмысленное распятие!
Через некоторое время он спросил меня, себя и безжизненно лежащую, но живую девочку:
— Принятие противоречий — это зрелость?
А я тихо — только себе самому — ответил: «Миссия завершена».
22 МАРТА, СРЕДА
Рано утром, перед самым рассветом, она подняла к лицу руку, и глаза ее открылись — огромные, понимающие, полные узнавания.
— Шэрон!..
— Я в порядке, — прошептала она. — Я в порядке. Эйб.
— Да, ты выкарабкалась. Ты…
— Дорогой, не шепчи. Я хочу слышать твой голос.
— Шэрон! Шэрон!..
— Я не слышу тебя, Эйб, — сказала Шэрон Брэнд. — Я тебя не слышу!!!
34 ИЮЛЯ 30972 ГОДА, БОРТ ПАРОХОДА
«ДЖЕНСЕН», РЕЙС ГОНОЛУЛУ — МАНИЛА
Вечно меняющийся и вечно неизменный океан этой ночью был разбужен серьезной музыкой. Я был одинок и не совсем одинок. А вообще-то, и совсем не одинок, потому что несколько часов смотрел вниз с носа плывущего корабля, видел искорки медленно поднимающихся и опускающихся светящихся микроорганизмов, этих живых морских бриллиантиков. Их свечение сто же мимолетно, как океанская пена, и столь же вечно, как жизнь. Если жизнь вечна… Все плыло со мной — и хранимые в памяти лица, и по-прежнему звучащие слова, хотя рядом со мной уже нет тех, кто их произносил. Вместо них говорит без умолку океан да непрерывно шумит западный ветер. Нет, я не одинок.
По нашим оценкам времени, мой второй отец, не так уж много прошло с тех пор, как я расстался с вами в Северном Городе: десять лет — миг, не более… А когда, через несколько недель или месяцев, я снова окажусь с вами, это покажется и вовсе ничем.
У вас есть мой дневник. Теперь, когда время притупило боль и погасило ярость, я должен попросить, чтобы вы уничтожили письмо, которым я сопроводил свой дневник. Я написал его всего через день после того, как выяснилось, что Шэрон оглохла. Мне бы следовало сто раз подумать, прежде чем писать что-либо в такой момент. Это было за несколько недель до того, как я отважился поручить мой дневник искалеченной транспортной системе человечества, не имея ни малейшей надежды на то, что до он доберется до Торонто и будет препровожден к вам. Впрочем, за те недели гнев и отчаяние так и не отпустили мою душу, и, по-видимому, я и позже не смог бы написать ничего лучшего. Теперь, однако, я прошу вас уничтожить мое письмо. Из гордости и тщеславия, а также в виду того, что мои дети уже достаточно взрослы, чтобы изучить мою работу. Мне бы не хотелось, чтобы настроение тех дней осталось увековеченным. Приложите к дневнику послание, которое я пишу сейчас, и выкиньте письмо, родившееся в ту пору, когда я был слишком подавлен, чтобы осознавать, о чем говорю.
Что бы ни совершили человеческие существа, я не могу их ненавидеть искренне. И если я говорил о своей ненависти к ним, то это было заблуждение, обусловленное слабостью, потому что я люблю Шэрон больше, чем мог бы позволить себе любить Наблюдатель, и потому что я знаю, каких жертв стоило ей становление, сколько усилий приложила она, чтобы из маленькой латимерской девочки в белых штанишках превратиться в отличную пианистку. «Я живы грезами», — говорила она. Да, так оно и было. И всем, кто мог ее слышать, она дарила эти грезы. Мир заплатил ей за подарки, заплатил пара и постоянной глухотой неизлечимой и не облегчаемой никакими техническими приспособлениями, потому что пара разрушил самые прекрасные, самые волшебные нервы. И она должна прожить остаток дней в абсолютной тишине. А я на какой-то момент — сейчас остается только признаться в этом — вышел из себя, потому что вынести такое просто невозможно.
Мой рассудок спас Абрахам. Как, наверное, и рассудок Шэрон. Он поддерживал нас — да и себя, — заставляя понять, какие богатства жизни еще ждут впереди, несмотря на удары судьбы. Позвольте мне рассказать, что предпринял он с того момента, как я написал вышеупомянутое гнусное письмо. В апреле, едва Шэрон встала на ноги, он женился на ней и увез в маленький городок в Вермонте. Сейчас он работает в обычном магазине: галантерея, рыболовные крючки, фунт того, фунт сего. Смейтесь над этим, Дрозма, — как смеется он — и вы поймете, что такой поступок имеет смысл. Впрочем, я вернусь к нему позже.
Наше судно — старый медлительный грузовой корабль. Снова летают воздушные лайнеры. Есть и быстроходные суда. Весь громадный человеческий транспортно-торговый комплекс, пошатнувшийся во время пандемии, вновь набирает обороты и достиг, по-видимому, сорока процентов от обычных объемов. К концу года, полагаю, все будет казаться таким же, как и год назад. По крайней мере, внешне. Я предпочел это старое корыто, потому что хотел провести месяц наедине с океаном или рядом с ним. Я хотел не просто скользить через него на огромном, движимом атомом судне-городе и не мчаться над ним быстрее звука, но быть здесь, внизу, в зыби, в запасе соли, в голубом, зеленом и сером — там, где можно слышать его голос. Мне хотелось смотреть на забавную поступь глупышей, чей полет сродни пению; на стремительное сверкание летучих рыб; на громадные, неспешные, вызывающие ощущение опасности плавники, следующие порой за нашим кораблем; на отдаленные фонтаны левиафанов. Я хотел видеть солнечный свет, отражающийся в воде Тихого океана в жаркий полдень, и беззаботное великолепие закатов по вечерам… Видеть и чувствовать, что я нахожусь внутри этих закатов, не застигаю их врасплох и не бросаю им вызов, с моим мелким пониманием времени и движения. Узнаю ли я когда-нибудь, что человеческие существа успокоились, расслабились и обнаружили, что вечность — это очень долгий срок?..
Если смогу, Дрозма, я поговорю с вами прямо из Манилы. Если же не удастся, то думаю, эти строки найдут вас раньше, чем мы встретимся. Я хочу организовать мою «смерть» так, чтобы известие о ней не слишком расстроило Абрахама и Шэрон, но в то же время не оставляло сомнений по поводу ее истинности. Они знают, что я собрался в Манилу — «что-то вроде отпуска и повидать старых друзей». Однажды я мимоходом сказал Абрахаму о своей надежде на то, что смерть моя произойдет в океане — как я уйду, не прощаясь, туда, где не нужно рыть могилу. Конечно, это неправда… Я хочу умереть в Северном Городе, после многих и многих лет интересной работы. Но это было настолько по-человечески, что не показалось Абрахаму странным, а я сказал так, чтобы подготовить пути отхода. Я проведу в Маниле около двух месяцев. Потом сяду на другое неторопливое судно, направляющееся в Штаты. Сможет ли одна из наших маленьких исследовательских субмарин встретить судно, скажем, милях в тридцати от Кавите?[66] Я мог бы без особых хлопот оказаться «человеком за бортом», и Абрахам подумал бы, что старик умер именно так, как хотел. Впрочем, если этот вариант слишком дорог и хлопотен с точки зрения организации, мы можем проработать другой, когда я свяжусь с вами, Дрозма.
Самое худшее завершилось в конце апреля. Постепенно, хоть и неохотно, кривая на графиках пошла вниз. К концу мая пандемия сошла на нет: о новых случаях не сообщалось, а выжившие обнаружили, что цивилизация все еще существует. Насколько случившееся может воспрепятствовать «прогрессу», который так ненавидел Намир, я не знаю. Примерно через десять лет с настоящего момента, думаю, мы могли бы попытаться определить, как пандемия повлияла на человеческое мышление.
Как и хотел Абрахам, сведения о том, что эта трагедия — дело рук человеческих, оказались обнародованными. Причем источник информации довольно неожиданен: сын Джейсона Ходдинга обнаружил дневник, который вел в последние недели своей работы старик. Сын Ходдинга передал дневник отца властям и… застрелился. Должно быть, он, как и Абрахам, Чувствовал, что люди должны узнать о причинах случившегося. Он был сыном человека, который оказался ни хорошим, ни плохим — просто человеком.
Вот кое-какие запомнившиеся мне цифры. Соединенные Штаты, в которых жило более двухсот миллионов человек, потеряли сорок два миллиона умершими. Сорок два миллиона — это только жертвы пара, сюда не входят те, кто погиб во время уличных волнений или умер от голода. Главной причиной голода стало массовое паническое бегство жителей крупных городов в пригороды, которые, конечно же, не имели возможности прокормить вновь прибывших. Сюда не входят миллионы тех, кто выжил, но превратился в калеку. Обычно это глухота, как у Шэрон, но были и те, кто заплатил за возможность жить искалеченными, как при полиомиелите, конечностями или потерявшей дар речи гортанью. А кроме того, были и те — и счет тут идет отнюдь не на десятки или сотни, — чей мозг оказался настолько поврежден, что фактически их нельзя причислить к живым. Соединенные Штаты и Южная Америка пострадали примерно в тех же размерах, Африка и Индия — несколько больше. Причем интересно отметить тот факт, что в слаборазвитых, с точки зрения санитарии и общественного здравоохранения, странах уровень смертности был только чуть-чуть выше, чем в Америке. А ведь предполагалось нечто совершенно иное, считалось, что в слаборазвитых странах очень многие просто не получат должного ухода и потому умрут те, кто вполне мог бы выжить…
Заболевание, разумеется, достигло и Азии. Но это и все, что нам известно. После двухлетней крупномасштабной войны оно должно было выкосить там людей, как сорную траву. Однако Властители сателлита утверждают, что в Азии все еще продолжаются какие-то боевые действия. Вялый огонь смерти, возможно, угасает, а возможно, и нет.
Ходят разговоры, что следует организовать спасательную медицинскую экспедицию с армейскими частями в авангарде — для защиты. Не знаю, не знаю… В ближайшее время такая экспедиция в любом случае нереальна — по крайней мере до тех пор, пока остальной мир хоть немного не восстановится. Наверное, достаточно было просто окружить Кантон, Мурманск и Владивосток, где они воплощают идеи разрушения в радиоактивный кобальт, но все попытки к общению со времени начала войны встречались зловещим и яростным безмолвием. Насколько мне известно, большой континент основательно охраняет себя. У них имеются прекрасные радары и все еще есть кое-какие средства — авиация, противовоздушная оборона, управляемые ракеты, — чтобы без проблем сбивать все иностранные самолеты. Что они и делали а последние три года… Тут потребовалась бы крупная военная операция, а у западного мира на такую операцию сейчас нет ни сил, ни средств. К тому же, порабощенное население вполне может принять спасательную экспедицию за вторжение и возненавидит иностранных дьяволов не меньше, чем верхушка. Это может стать логическим завершением национальной паранойи… Впрочем, все равно мы не можем бросить на произвол судьбы треть планеты, и рано или поздно здравомыслие сломает этот барьер, хотя бы ради самих себя.
Чем были эти годы для вас, Дрозма? В ваших письмах вы мало говорили о себе. Я знаю, что вы стоите в стороне и наблюдаете за обоими с никогда недоступной мне ясностью взгляда. Я надеюсь (хотя вы и не упоминаете об этом), что освобождение от административного бремени оставило вам для созерцания лучшие часы. Несмотря на разразившуюся катастрофу, несмотря на продолжающееся разделение мира, я все еще верю, что создание Союза возможно, и не далее чем к концу жизни моего сына. Когда я увижу вас, мы должны будем обсудить это, как и многое другое из медленно созревающих порождений нынешнего века. Я подарил минойское зеркало Шэрон и Абрахаму, рассчитывая, что вы одобрите такой поступок.
У них есть все атрибуты зрелости. Теперь мне хочется, чтобы и вы могли увидеть Абрахама — как он ждет покупателей в маленьком магазинчике, как задает тон во всеохватывающей беседе, которую ведут на шатком крыльце старик и молодой человек. Он даже перенял манеру ставить ударения, хоть никто и не примет его за уроженца Вермонта. Маленький городок был опустошен пара, как и весь остальной мир — около сотни смертей при населении менее чем в четыре сотни, — но он живет в согласии и продолжает свое скромное дело с подлинно вермонтским упрямством. Владельцем магазинчика является старик, у которого пара убил всю семью. Он больше похож на изношенные серые обрывки человеческой плоти, но не сбит с толку. Он считает Шэрон и Абрахама своими «новыми детьми», а сам предпочитает посиживать на солнышке.
Они живут над магазином. Одну комнату превратили в библиотеку, и Шэрон очень много читает.
— Мы не останемся здесь на всю жизнь, — сказал мне Абрахам.
Это приятное и, по-видимому, необходимое им временное убежище от неприятностей остального мира. Им нужно несколько лет тишины и учебы: Шэрон — чтобы построить на руинах утраченного совершенно новую жизнь, Абрахаму — чтобы, систематизировав и поняв прошлое и настоящее, перейти к новым открытиям, к новым попыткам, и я бы никогда не отважился предсказать их исход. Он раньше Шэрон освоил язык глухонемых. Она училась у него, и это стало первой ступенькой, на которую она шагнула, покинув лабиринт отчаяния. У Абрахама есть и другие способы вернуть ей мир. Шэрон никогда не увлекалась чтением, место книг в ее жизни занимало пианино. Теперь она во всем придерживается того же мнения, что и Абрахам, и они никогда не попадают в тиски одиночества.
В его преданности нет скрытого чувства вины, лишь любовь и всепоглощающий интерес к бесконечной тайне другой личности. Его больше не донимает стремление обвинить себя во всех мировых несчастьях. Он смотрит на себя, полагаю, очень просто — как на человеческое существо, обладающее возможностями, которые не могут быть ни потрачены впустую, ни упущены, ни выставлены в смешном виде. Да, Дрозма, этот человек научился смотреть в зеркало.
Кроме того, он рисует. Думаю, он занимается этим для удовольствия Шэрон и всех тех, кто пожелает взглянуть на его работы. Впрочем, для собственного удовольствия — тоже. У меня есть подаренные им новые картины, они в водонепроницаемом баллоне, и я привезу их вам. Мне бы очень хотелось, чтобы вы могли увидеть и некую фантазию о подземной реке в Гоялантисе, но я не мог принять ее в подарок, потому что знал: Шэрон она гораздо нужнее. Шэрон тоже пробует себя в этом искусстве — без ложной скромности, отчасти под руководством Абрахама, но гораздо сильнее ею руководит собственное богатое воображение… Может быть, из этого что-нибудь и получится, говорить пока рано. Нет, они никогда не попадут в тиски одиночества.
Весь мой рассказ, Дрозма, так же трогательно несовершенен, как несовершенны сами слова. Я вспоминаю свой отчет за 30963 год и дневник нынешнего года. Я постоянно изумлялся, как сложна реальность, как неполон мой рассказ о происходящих событиях, как похож он на сделанные с помощью телескопа фотографии Марса — они забавляют и возбуждают человеческое воображение чувством истины, только истина эта недоступна. Я помню Латимер, эту характерную для Новой Англии эксцентричную смесь истории и завтрашнего дня. Я способен ощутить запахи тех дней и снова услышать уличные звуки, хотя мои слова уступают фотографии, да и фотография рассказала бы вам слишком и слишком мало.
Я помню мою первую встрече с Анжело Понтевеччио. Как я могу объяснить, почему с такой легкостью и уверенностью узнал его, когда он, прихрамывая, вошел в дом, положил «Крития» и принялся изучать меня с любопытством двенадцатилетнего, столь отличным от дружелюбия его матери?.. Как я могу объяснить свою уверенность в том, что рядом со мной оказалось человеческое существо, которое я всегда должен любить, даже если и не понимаю его?
Заставил ли я вас увидеть Фермана? Или кого-либо еще из этих сбивающих с толку комплексов противоречий, называемых нами людьми? Мак… Я так никогда и не узнаю, не нанес ли я ему душевную рану тем, что вырвал эту проклятую зубную щетку из общей шеренги… А миссис Кит и ее аметистовая брошь…
Я всегда буду помнить Розу, ее милые брови на круглом лице, вечно приподнятые в удивлении своим сыном и миром вокруг него.
Я не забуду Амагою.
Я помню, как впервые увидел спутник. В Америках его называют «Полночной Звездой». Я видел его поднимающимся над северным горизонтом. Он двигался не так быстро, как метеор, но гораздо быстрее обычной звезды. Это самое драматическое достижение человеческой науки, однако я думаю, он нечто большее, чем наука. Это живой палец, ощупывающий небеса. Над Тихим океаном он пролетает в дневное время, и его не видно, но я снова увижу его когда вернусь домой. Я помню море, море прошлых веков и сегодняшней ночи, море, которое меняется только для того, чтобы остаться тем ж самым.
И никогда, прекрасная Земля, никогда — даже в разгар человеческих бурь — я не забывал тебя, моя планета Земля. Я не забывал твои леса и поля, волнение твоих океанов и спокойствие гор, твои луга и реки. Твое вечное обещание, что весна вернется.
1
Эдуард II (1284–1327) — английский король с 1307, из династии Плантагенетов; находился в постоянном конфликте с баронами; во время одного из выступлений баронов был низложен и убит.
2
Роберт Брюс (1274–1329) — шотландский король с 1306; в 1314 разбил английскую армию при местечке Баннокберн; в 1328 добился от Англии признания независимости Шотландии.
3
Так называемая Война алой и белой розы (1455–1485), отражала борьбу за престол между двумя ветвями династии Плантагенетов — Ланкастерами (в гербе алая роза) и Йорками (в гербе белая роза).
4
От англ. destroy — уничтожать.
5
Хосе Рисаль (1861-96) — филиппинский просветитель, писатель, ученый; один из лидеров Филиппинской освободительной революции 1896-98 гг.; казнен испанскими колониальными властями.
6
В оригинале имена Elmis (Элмис) и Miles (Майлз) являются анаграммами.
7
Конфуций (около 551–479 до н. э.) — древнекитайский мыслитель.
8
Артемус Уорд (1834–1867) — американский писатель-юморист, писавший под псевдонимом Чарлз Ф.Браун.
9
Главная улица (англ.).
10
В оригинале игра слов; грамматический термин split infinitive в дословном переводе звучит как «разбитый инфинитив».
11
Спондей и ямб — термины из теории стихосложения.
12
Лусон — крупнейший остров Филиппинского архипелага.
13
Винер Норберт (1894–1964) — американский ученый, сформулировавший основные положения кибернетики.
14
Roger! — Вас понял! (на жаргоне радистов).
15
Скоростное загородное шоссе.
16
«А» — в США высшая отметка за классную работу.
17
Плохая отметка.
18
Под Йорктауном в октябре 1781 года американская армия одержала решающую победу в войне английских колоний за независимость. Франция в этой войне выступила на стороне американцев.
19
Красные мундиры во время североамериканской войны за независимость носили солдаты английской армии.
20
Ди Ассизи Франциско, или Франциск Ассизский (1181(82?)-1226) — итальянский проповедник, основатель ордена францисканцев, автор религиозных поэтических произведений.
21
Эндрю Джексон (1767–1845) — седьмой президент США в 1829–1837 гг.
22
Тоника и доминанта — термины из музыкальной грамоты.
23
Атолл в Тихом океане, место проведения США испытаний ядерного и водородного оружия.
24
Мелвилл Герман (1819–1891) — американский писатель, автор романа «Моби Дик».
25
Густая похлебка из рыбы, моллюсков, свинины, овощей и т. п.
26
В оригинале здесь игра слов; глагол cook имеет значение как «придумать», так и «стряпать» (пищу).
27
Дискант — высокий детский голос.
28
Иегова (Яхве, Саваоф) — Бог в иудаизме; здесь в смысле «Бог» вообще, «Создатель».
29
Буква «эйч» (h) в ряде английских слов произносится как легкий выдох.
30
Гаутама Сиддхартха (623–544 гг. до н. э.) — основатель буддизма.
31
Джон К.Калхоун (1782–1850) — американский государственный деятель, в 1825-32 гг. — вице-президент.
32
Эдесь имеются в виду американские президенты: Томас Вудро Вильсон, президент США в 1913-21 гг., проводил более либеральную политику, нежели Теодор Рузвельт, президент США в 1901–1909 гг.
33
Эйнджел (англ. angel) — лицо, оказывающее кому-либо финансовую или политическую поддержку.
34
Джерси (Джерси-Сити) — район Большого Нью-Йорка; расположен на западном берегу Гудзона, напротив острова Манхэттен.
35
Здесь в оригинале игра слов; слово jellyfish (медуза) имеет еще и значение «бесхарактерный и мягкотелый человек».
36
Квартал, в котором расположены дешевые бары и притоны.
37
sugar-daddy — пожилой поклонник молодой женщины, делающий богатые подарки.
38
Мезоморф — в антропологии тип пропорций человеческого тела, средний между обладателем широкого туловища и коротких конечностей и обладателем узкого туловища и длинных конечностей.
39
Никель — монета в пять центов.
40
Слова «унионисты» и «унитарии» в данном случае Уолкер производит от английского «unity» — единство; оба термина известны в истории: унионисты — сторонники федерации в гражданской войне в США; унитарии — члены одной из сект в христианстве.
41
Гипертиреоз — один из признаков неправильной работы щитовидной железы.
42
Дешевый бульварный роман.
43
Транспортная развязка, напоминающая в плане форму клеверного листка.
44
Пентхаус — фешенебельная квартира на крыше небоскреба.
45
Охранник.
46
Брайан Уильям Дженнингс (1860–1925) — политический деятель США, в 1913-15 гг. государственный секретарь в кабинете В.Вильсона.
47
«Непобедимая Армада» — крупный военный флот, созданный в 1586-88 гг. Испанией для завоевания Англии; в это же время вела борьбу за независимость Голландия, бывшая испанской колонией.
48
Имеется в виду Авраам Линкольн, 16-й президент США, один из инициаторов отмены рабства, убитый агентом южан в 1865 году; символ революционных традиций американского народа.
49
Калигула (12–42 гг.) — римский император, прославившийся своей жестокостью.
50
Амбивалентность — двойственность переживания, выражающаяся в том, что один объект вызывает у человека одновременно два противоположных чувства, например, удовольствие и неудовольствие, симпатию и антипатию и т. д.
51
Филд Джон (1782–1837) — ирландский пианист, педагог, композитор; с 1802 года жил в России; создатель жанра фортепьянного ноктюрна и изящного поэтического стиля пианизма.
52
Милостивый Господи! (нем.).
53
Феокрит (конец 4 в. — I половина 3 в. до н. э.) — древнегреческий поэт, основал жанр идиллии; Анакреонт (около 570–478 гг. до н. э.) — древнегреческий поэт-лирик; Пан — в греческой мифологии божество стад, лесов и полей; покровитель пастухов, сын Гермеса.
54
Буддизм принято разделять на три течения, называемые «колесницами».
55
Митра — древний индоиранский бог дневного света, покровитель мирных, доброжелательных отношений между людьми.
56
Смешение разнородных элементов.
57
В английском языке слова «pupil» (воспитанник) и «pupa» (куколка) отличаются друг от друга при произношении лишь одним звуком.
58
Бихевиоризм — одно из направлений психологии XX века, считающее предметом психологии не сознание, а поведение, которое понимается как совокупность физиологических реакций на внешние стимулы.
59
Американская медицинская ассоциация.
60
38,3C
61
четвертак — монета в 25 центов, дайм — монета в 10 центов.
62
40,6С
63
41,7С
64
37,2С
65
37С
66
Населенный пункт на острове Лусон (Филиппины).